Полиглоты (fb2)
Уильям Александр Герхарди Полиглоты
1
Я стоял на палубе замершего без движения лайнера и смотрел на мою родину, Японию. Однако же сразу оговорюсь — я не японец. Я вполне себе европеец. И все же, когда я пробудился тем утром и, выглянув в иллюминатор, обнаружил, что судно застопорило ход, и передо мной лежит Япония, коралловый риф, сверкающий в лучах рассвета, я был тронут до глубины души и заворожен, вернувшись мыслями к своему рождению двадцать один год назад в этой стране цветущей вишни. Быстро одевшись, я выскочил на палубу. Легкий бриз ерошил волосы и покрывал рябью воду. Подобно сновидению, Япония вставала предо мной.
Всю прошедшую ночь я следил за приближением волшебного острова. Словно раковины, островки выскакивали по обе стороны от нас, глядевших на них, забывших о времени, словно погрузившихся в транс, — а лайнер упрямо продвигался сквозь теплый ночной июльский бриз. Они появлялись и плыли рядом, как странные видения в колдовском свете, и корабль, убаюканный, точно склонился ко сну. А, пробудившись поутру, я выглянул и увидел скалы — и радость наполнила меня.
Уже перед высадкой в Иокогаме, дожидаясь у борта, мы увидели две маленьких фигурки посередине дороги, с чем-то невероятным на голове, держащих зонтики и осторожно обмахивавшихся веерами. Цвет этих зонтиков и вееров был настолько изумителен, что казался нереальным.
2
И вот мы замерли без движения. Так хорошо, но и так странно. Едва ли не четыре недели назад мы покинули Англию, пересекли Атлантику на борту «Аквитании» и, проведя всего сутки в Нью-Йорке, пустились через все Соединенные Штаты в Ванкувер. Да, я наблюдал за этим «появлением Нью-Йорка», этим «великолепным нарастающим приближением», о котором я читал в одном из романов Герберта Уэллса, и воистину — Нью-Йорк «вставал из моря». День выдался ярчайший; небо было полно жужжащих аэропланов; военные транспорты и крейсеры, большие и малые, с солдатами на борту, выходили из порта и медленно, величественно, с неописуемым благородством, проплывали мимо нас, обдавая «Аквитанию» клубами дыма. Появление Нью-Йорка было возвещено прежде всего нарастающим дружелюбием стюардов. Сутки напролет Атлантика была сурова и неприветлива, и стюарды были так же резки и равнодушны. Сейчас они переменились, словно погода переменила их. Мы так и не увидели знаменитой статуи Свободы, ибо проходили сложную процедуру проверки паспортов в кают-компании и ручались в том, что мы не являемся ни анархистами, ни атеистами, ни двоеженцами, ни личностями, ведущими двойную жизнь. Чиновник из Военного министерства, который должен был встретить нас на пристани и препроводить в Ванкувер, начал пить, едва поднявшись на борт, — в Соединенных Штатах был только что введен запрет на спиртное, — и больше мы его не видели.
Затем последовало небольшое разочарование. Прибыв в Нью-Йорк, я ожидал, что в гостиницу нас отвезет какой-нибудь скоростной супер-автомобиль. Вместо этого появился старый красноносый извозчик на допотопном шарабане, запряженном древним одром, — прямиком из романов Диккенса.
— Ну, как делишки за большой водой? — гнусаво осведомился он в качестве предисловия к обсуждению платы за проезд. И тотчас же диккенсовская иллюзия испарилась. Я ехал по жарким, залитым светом улицам Нью-Йорка, завороженный, привлекая к себе любопытствующие взгляды, повторяя про себя: «Я в Америке! Я в Нью-Йорке!» Ибо до сегодняшнего дня Соединенные Штаты были для меня лишь неодушевленной идеей, ассоциирующейся с картой нового полушария. Теперь громоздящиеся здания и бурлящие улицы были живой действительностью. А летний Бродвей с его новизной, юностью и яркостью расцветок словно бы уходил корнями в саму молодость.
Мой товарищ, кичившийся тем, что знает каждый уголок Нью-Йорка, решил на следующее утро показать мне Пятую авеню; итак, мы спустились в метро и после некоторых расспросов очутились в Бруклине. Когда же поезд уже покидал надменные пределы Пенсильванского вокзала, мы получили первое представление о победоносной Антанте. Нижнюю койку в спальном вагоне занял японец — к невыразимому гневу и возмущению гражданина Соединенных Штатов, который навис над ним, чтобы отвоевать эту привилегию для себя, представителя господствующей белой расы.
— Я — американец, — втолковывал он. — Ты поднимайся наверх — наверх, понял? Я американец.
Японец либо не знал английского, либо очень умело притворялся, что не знает. Он вежливо кланялся, с шипением втягивал воздух, скалился и морщил лицо в улыбке:
— Ха! Ссс! Неузззели? — повторял он. — Ха! Неузззели? Ссс!
— Я американец, понял, чертов сын? Ты — япошка, а я — американец, понял?
— Xa! Ccc! Неузззели? — спрашивал японец, кланяясь и с шипением втягивая воздух. — Ха! Неузззели? Ссс!
Казалось, это может продлиться целую вечность. Я взял в руки книгу — и провалился в сон.
Из сна меня вырвал крепкий шлепок по колену. Раскрыв глаза, я узрел того самого американского гражданина, который уселся рядом со мной и, разглядывая мою британскую форму, произнес:
— Ну что, небось рады, что наконец-то попали в свободную страну, а?
Я протер глаза.
— Тут тебе ни короля, ни принца, чтоб засадить тебя в тюрьму, — продолжал он. — Ни священников, ни придворных, — подкапывающихся под твою свободу. Да, это свободная страна, дружище. Мы простые чистосердечные люди. Наша семейная жизнь — это чистая, простая, здоровая и честная жизнь! Нужно быть американцем, чтобы это понять! — Он сделал паузу. — Тот мост видите? Постройка стоила 11 000 000 долларов; 6 600 футов длиной, 108 футов шириной, 123 фута в высоту с расстоянием между колоннами в 1 464 фута. Целиком из стали. Несет 2 надземных железных дороги, 4 вагонеточных пути, 2 автомобильных дороги, 2 велосипедных и 2 тротуара. Да, страна обетованная, вот как мы ее зовем!
Убаюканный его голосом, я опять незаметно уснул.
Проснулся от еще одного шлепка по колену, такого же крепкого.
— Ну, а как там перемирие? Небось наши-то парни рады-радешеньки. А, наши американские парни — отличные ребята! А вы видели генерала Першинга[1]?
А как-то утром я поднял штору и увидел «Юнион Джек»[2], развевающийся над зданием вокзала. Мы были в Канаде.
3
И тут, к обоюдному изумлению, оба — американец и японец, который проследовал с нами до самой Иокогамы, — появились в военной форме. Обнаружилось, что одного зовут полковник Исибаяси из имперского генерального штаба, а другого — лейтенант Филип Браун из морской разведки Соединенных Штатов, который, руководствуясь присущей всем разведчикам привычкой к секретности, считал своей обязанностью до сего момента маскироваться под штатского, однако, увидев, что его давешний противник красуется в форме, он, видимо, решил, что дальше можно не скрываться. Сейчас он стоял неподалеку, насвистывая сквозь зубы: «Джон, ружье хватай, ты хватай, ты хватай, и фрица убивай, убивай, убивай». Потом, подойдя к полковнику, весело хлопнул его по плечу.
— Алло, полковник, рад видеть вас в таком наряде. Я, знаете, так и решил, что вы — переодетый шпион!
Полковник Исибаяси оскалился и втянул воздух.
— Ссс! Ха! — сказал он. И еще раз: — Ха! Примирение состоялось.
— Мы пристаем к берегу, — сказал мой спутник. И впрямь, мы, наконец, двинулись. Сейчас мы пришвартовывались. Все взгляды устремились к берегу. На пристани — какой-то краснолампасный высший чин, возможно, помощник британского военного атташе. Группа красношапочных япошек с жестяными мечами. Подходим совсем близко. Темная полоса воды между нами и пирсом все уже и уже. Трап. Канаты кольцами летят на пристань. Трап! Наконец-таки мы сдвигаемся с места: все к трапу. Чувствуешь решетку трапа, цепляясь за нее каблуками, — сейчас свалиться в воду было бы просто смешно — и вот ты уже снова стоишь на твердой земле. И что из того, что земля эта — Япония?
Сначала мы ехали вдоль набережной, потом выехали на странноватые, узкие, зловонные улицы Иокогамы. Сидеть в шляпе и с тростью на паукообразном рикше и принюхиваться к запахам незнакомого города — какое редкое, острое удовольствие! «Это — Япония», — говорил я себе. И это была она. Если бы я вырос в Японии, ходил в местную школу и жил здесь все эти двадцать один год, меня бы она интересовала столько же, сколько Манчестер. Мечта более реальна, чем сущность. И поэтому, когда я еду в какую-нибудь незнакомую страну, я схожу на вокзале, принюхиваюсь к «атмосфере» — и забираюсь обратно в поезд. Этого довольно. Так что теперь я сразу же почувствовал, что «вник» в атмосферу. Кроме того, она там была. Откинувшись в тележке, поначалу я чувствовал, что слишком тяжел для этой хрупкой игрушки, глядя, как маленький человек вдвое ниже меня бежит передо мной, и на его рубашке постепенно проступают следы пота, в то время как он ровной рысью преодолевает милю за милей. Вскоре я привык. Пару раз мы заблудились, и, в ответ на наши попытки объясниться по-английски какой-нибудь японец неизменно говорил: «Ха!..», и скалился, и втягивал воздух, и вежливо кланялся, и уходил.
— Хай! — закричал мой спутник.
— Мне всегда казалось, что японцы говорят по-английски, — заметил я.
— Если и говорят, то только сами и могут его понять, — сардонически ответил он.
Нет, моему спутнику Япония не нравилась. Он называл ее страной жестяных чайников. Его все раздражало, а с его деликатным пищеварением он с трудом мог себе позволить раздражаться в этакую жару. Он пытался позвонить по телефону в Токио, но каждый раз его прерывали нелепым: «Маси, маси?», чего он не понимал и поэтому орал в трубку: «Черт подери!»
Но мы уже направлялись в Токио. Поезд бежал по зеленым полям и пастбищам, которые запросто могли находиться в Англии или где-нибудь еще. И вдруг! — господин в кимоно читает газету на невозможном языке. Все казалось сном, и надвигающаяся встреча с родственниками, которых я никогда не видел, — она тоже казалась встречей с невиданной родней в царстве грез, месте таком же чужом и странном, как Марс. Я сидел неподвижно, не отрывая глаз от проносящихся мимо пейзажей — паровоз свистел, поезд несся на всех парах, — а мои мысли бежали еще быстрее, испуская бессчетные импульсы мук и радостей. Я думал о тете, о моей славной кузине, которую мне предстояло впервые увидеть. В Токио мне нужно было выходить, и вслед за этим — что за странным, что за невообразимым событиям предстояло начаться!
4
Я гадал, как выглядит моя тетя. Я слышал о ее жизни так много, что меня разбирало странное любопытство увидеть ее во плоти. Я давился от смеха при мысли об ее тщедушном супруге с нафабренными усиками, которого прекрасно помнил по пожелтевшей фотографии: там он был запечатлен в бельгийской военной форме, с грудью, увешанной медалями. Они всегда жили в Диксмюде, мой дядя был бельгийский Commandant[3]. Однако в приснопамятном 1914 году, когда разразилась так называемая Великая война, тетя провозгласила, что Бельгия — да и вся Европа — не годится для ее проживания, и вместе с мужем и дочерью пустилась в бегство на Дальний Восток. Думаю, что Дальний Восток был избран на том основании, что он был дальним — по крайней мере, настолько, чтобы тетя могла по возможности туда добраться без того, чтобы возвращаться обратно с другой Половины нашего круглого земного шара. Мне, разумеется, скажут, что еще не было такого военного прецедента, чтобы офицеров отпускали на побывку в разгаре большой войны. На это, будучи в курсе того, что, произошло, могу сказать только одно: вы не знаете моей тети. И позвольте сразу сказать — у меня и в мыслях не было вызывать в вашем представлении иной образ моего дяди, кроме честного, доблестного офицера. Он даже участвовал в осаде Льежа; но, решив, что, кажется, искушал Провидение достаточно, он оставил фронт и внял доводам жены, что ему надлежит уехать из страны, поскольку она сама слишком слаба и больна, чтобы ехать одной, а дочь их — совсем ребенок. Но если они и покинули Диксмюде с первым же залпом, не вините в том моего дядю, вините скорее мою тетю, которая, мягко выражаясь, была женщина с характером. В возрасте двенадцати лет, еще в России, ее удочерила одна старая княгиня, которая взрастила ее вместе с собственной дочерью, и, несомненно, благодаря редкостной красоте тетю Терезу баловали и холили вне всяческих пределов. Ее выдали замуж за молодого шалопая, родившегося при романтических обстоятельствах. Он был сыном молодого наследника (из самых родовитых в стране) и его гувернантки мадемуазель Фифи, и явление на свет этого цветка стихийного торжества вызвало у обоих родителей глубочайшее изумление. Взял ли он больше от отца или матери, сказать трудно. Николай (так его звали), кажется, сочетал в себе великокняжеское безрассудство с истинно парижской веселостью. Его шалостям не было конца. Он нацеливал заряженные пистолеты в лицо людям и палил в воздух. Он спутывался с шальными цыганками и носился с ними на тройках. В каждом разгуле он чувствовал себя как рыба в воде и тщательно игнорировал тетю. Он вечно строил каверзы городовым, а однажды привязал квартального к ручному медведю и, держа за веревку, сбросил в канал. В другой раз, возвращаясь спозаранку домой, он увидел на мосту молодого жирафа, которого вели с вокзала в зоопарк, немедленно купил его и притащил в спальню к тете Терезе. Учитывая все обстоятельства, тетя страдала. Многие годы она страдала молча, утешаясь надеждой, что однажды их удостоят княжеского титула. Как она и предвидела, Николай вот-вот должен был быть узаконен и возведен в княжеское достоинство, как вдруг, следуя примеру миллиардов других, он отдал Богу душу. Так тетя Тереза в последний момент упустила вожделенную награду. Но она умудрилась сохранить достоинство, и когда дядя Эммануил познакомился с ней в Брюсселе, он адресовал свои письма ей «Madame la Princesse»[4]—хотя она никогда не носила этого титула. Такое обращение подсказывали ее красота и манеры, и все заключили, что Эммануил, пронырливый малый, ухитрился жениться на русской аристократке. С другой стороны, ее сестры испытали немалое огорчение при известии о том, что она — их гордость и надежда — вышла замуж за незначительного бельгийского офицерика, который, хоть и являлся вполне удовлетворительным мужем и любовником, был при этом человеком никудышным (по их словам) как офицер и кормилец семьи. Это было тем большим разочарованием, потому что все мои тетки с отцовской стороны — женщины совершенно очаровательные, которых, правда, тетя Тереза превосходила на голову — вышли замуж за людей никчемных. Ее отец, один из первых британских купцов в Сибири, узрев своего зятя Эммануила в первый раз, решил, что он «не ахти». Узрев его во второй — и в последний — раз, он не нашел причины менять свое первоначальное мнение.
И вот поезд несся к Токио.
5
ВАНДЕРФЛИНТЫ И ВАНДЕРФАНТЫ
Мы сошли в Токио так, как будто это был какой-нибудь Клэпхем Джанкшн, и отправились к отелю «Империал». Токио тоже был диковинный город. Дома были диковинные; мужчины, женщины и дети ходили в диковинной обуви из деревянных дощечек, точно какие-то заводные куклы. Солнце палило, когда мы взяли рикшу и отправились на поиски тетиного дома.
Когда мы заворачивали за угол, я успел заметить некое видение — короткая юбка, вьющиеся каштановые волосы, рубиновые губы и соблазнительные ноги. Глаза, на солнце приобретшие фиолетовый оттенок, улыбались. Чуть наклонив голову, она промелькнула мимо нас — ее туфли были расшнурованы — и исчезла за углом.
Я догадался, что это, должно быть, Сильвия, которую послали за покупками. До этого я видел лишь пару не очень удачных ее снимков, и было в очертаниях ее рта нечто настолько прелестное, что заставило меня моментально ее узнать. Как она выросла! Какая «находка», вернее сказать! О таких вам доводилось читать в романах мисс Делл[5], но в обычной жизни их встречаешь нечасто. Но что взволновало мою кровь, еще до того как я увидел ее фотографию, было то, что она носила это прелестное имя — Сильвия-Нинон.
Нас приняла худощавая женщина средних лет, за которой немедленно появилась ее более дородная копия, позвавшая: «Берта!» — и худощавая при этом слове оглянулась. Когда нас провели в маленькую гостиную, вошла девушка, присела на французский манер в реверансе, и тут же появилась другая, явно той же породы. Мне сразу стало видно, что это семья — мать, сестра и дочери.
— Ваша тетя спустится через минуту, — произнесла дама постарше, которую назвали Бертой. И пока мы беседовали по-французски — «месье, мадам», с обычными комплиментарными отступлениями — я услышал шорох, дверь открылась, и в комнату вступила высокая, тонкая, седовласая дама с седоватыми усиками, произнесшая глубоким протяжным баритоном, который сразу же напомнил мне об отце:
— Ну, вот и ты, вот, наконец, и ты, Джордж!
Я поцеловал ее и в ответ тоже получил поцелуй, почувствовав щекой щекотание усиков.
— Мой товарищ, — представил я, — майор Скотли.
— Майор кто? — переспросила тетя.
— Скотли.
Пытаясь сдержать смех, она быстро огляделась.
— Мой племянник Джордж, — произнесла она в воздух. — Мадам Вандерфант и мадемуазель Берта. Мадлен и Мари. Мы все вместе прибыли сюда из Диксмюде — дай Бог памяти — четыре года назад.
— Да, мы, Вандерфанты и Вандерфлинты, очень хорошо сжились, словно мы и вправду одна семья, — n’est-ce pas, madame?[6] — прибавила мадам Вандерфант, приятно улыбаясь.
Тетя Тереза немедленно приняла начальственную позу по отношению ко всем находящимся в комнате. Когда она говорила, мне сразу же вспоминался отец; однако во всем остальном она отличалась от брата. Глаза у тети Терезы были большие, яркие, грустные и преданные, как у сенбернара. За ней по пятам следовал господин очень небольшого роста с нафабренными усиками, в коричневом костюме, — попросту говоря, дядя Эммануил. Он приблизился ко мне, чуточку стыдливо, и, потрогав три звездочки на моем погоне, одобрительно похлопал меня по спине:
— Уже капитан! Ah, mon brave![7]
— Своим недавним повышением я обязан тому, что в подходящий момент похлопал по плечу одного полковника из Военного министерства, — именно тогда, когда он находился на вершине хорошего настроения. Похлопай я его по плечу секундой раньше или секундой позже, — и моя военная карьера приняла бы совсем другой поворот. Тут я уверен.
Дядя Эммануил не совсем меня понял, поэтому, делая обобщение в сторону человеческой натуры, пробормотал:
— Que voulez-vous?[8]
— Да, если бы не это, меня бы здесь не было.
— После большой войны всегда случаются маленькие — чтобы привести все в порядок, — произнес дядя Эммануил, пожимая плечами.
— До заключения перемирия мы пробыли в плавании трое суток.
— Мы были на середине Атлантики, — сказал Скотли, — когда объявили перемирие. И славную же мы устроили попойку!
— À Berlin! À Berlin![9] — сказал дядя.
Роман — довольно громоздкое средство для изображения реальных людей. Вот если бы вы были здесь — или если бы мы могли встретиться, — я бы в мгновение ока сумел передать вам наружность майора Скотли, представив его в лицах. Увы, это невозможно. На дядино замечание, как и на замечания всех других, Скотли прищурился, медлительно покивал и отрывисто гоготнул, словно все вокруг — немцы, союзники, дядя Эммануил, да что там — сама жизнь, — оправдали самые худшие его опасения.
А потом открылась дверь, и в комнату бочком, опустив глаза, пробралась Сильвия. Я взглянул на нее и отметил, что на деле ее губы привлекательны настолько, что сами просят поцелуя. Глазами она была похожа на мать, только это были глаза молодого сенбернара, виляющего хвостом.
Поприветствовав меня, она уселась на диван и принялась играть в куклы — несколько наигранно, как мне показалось, быть может, просто от смущения. А потом:
— А где моя «Дэйли мэйл?»
Она поднялась, взяла газету, расстелила ее на диване и принялась за чтение.
Дядя Эммануил стоял с задумчивым видом, словно размышляя прежде, чем дать выход какой-то глубокой мысли.
— Да, — произнес он. — Да.
— Сейчас, по окончании Великой войны, мир находится в том же ребячливом состоянии рассудка, что и всегда, — говорил я. — Не могу даже поручиться за себя самого. Если завтра те же самые дурацкие горны запоют снова, призывая мужское население Британии к оружию и приглашая нас выступить против какого-нибудь воображаемого врага, и нежные девушки скажут: «Мы не хотим вас терять, но вам все равно нужно идти», и полюбят нас, и поцелуют, и обзовут трусами, мне будет тяжело преодолеть искушение не надеть мой офицерский ремень. Такой уж я человек. Прирожденный герой.
Я заметил, что ирония не была их сильной стороной. Дядя Эммануил опять не понял моих слов, а с жестом, означающим: «Que voulez-vous?», пробормотал эти слова.
Пока я говорил, я ни на секунду не забывал о Сильвии — одетой в короткую юбку, длинноногой, в белых шелковых чулках, — которая играла на диване в куклы. Скажу за себя — я не знаю ничего более возбуждающего, чем первая встреча с хорошенькой кузиной. Восторг от установления общих родственников, от прослеживания кровных связей между нами. При взгляде на нее я почувствовал, что околдован, изумлен тем, что эта девушка шестнадцати лет от роду с широко распахнутыми сияющими карими глазами, немного, правда, затравленными, — моя кузина, которая будет обращаться ко мне на «ты», будет посвящена подробности моего детства. Мне захотелось танцевать с ней в переполненной зале, чтобы смягчить близость наших движений, жестов, шепота, взглядов; хотелось уплыть с ней на китайской жилой лодке по сонной реке, или, того лучше, ускользнуть на какой-нибудь волшебный остров и там вдосталь упиться ею. Что я буду делать там, на этом острове, в голову мне, разумеется, не пришло.
Тетя Тереза поднялась из постели специально из-за меня, как она сама объяснила. Грандиозное усилие! И дядя Эммануил каждый раз осведомлялся у нее, не слишком ли тяжело это для нее, не утомляют ли ее разговоры. Нет, она побудет с нами еще немножко. Более того, мы перейдем на террасу.
Двигаться было слишком жарко, так что мы не шевелясь просидели на веранде до самого вечера, в больших мягких кожаных креслах, вперясь в пространство полуосмысленным взглядом, обессилевши после плотного обеда, неспособные в эту жару ни на что, кроме грез.
И так мы сидели и смотрели на сад и через сад — на улицу, и все вокруг было таинственным и нереальным. Таинственность, сверхъестественные чары наложили заклятие на это место. И, грезя, я представлял себе, будто эти двигающиеся статуэтки и окрашенный странными цветами пейзаж, — всего лишь сцена из какого-то балета или японского театра теней: настолько, нереально все выглядело. Даже деревья и цветы казались искусственными. Какие-то странные птицы или насекомые издавали необычный непрерывный стрекот. Но не было ни ветерка, и даже листья на деревьях застыли без движения, околдованные, забывшиеся в нереальности.
— Воздух сегодня легкий и нежный, как весной, и по-весеннему одурманивает; но вишневый цвет уже опал.
Тетя Тереза сказала это, глядя на меня пристально и печально. Скажу сразу — я красив. Гладкие черные волосы, зачесанные назад, губы — есть в них что-то такое, что-то в глазах, нечто… нечто, не поддающееся определению, что привлекает женщин. Выдумаете, что я самонадеян? Отнюдь.
— Ты так похож на Анатоля, — сказала тетя Тереза. — Красавцами вас не назовешь, но у вас обоих приятные черты.
Я был положительно удивлен этим словам. Надо будет при ближайшей же возможности хорошенько посмотреться в зеркало.
— И ты его ровесник. Я прекрасно помню: когда Анатоль родился, и мы думали, какое имя ему дать, твоя мать написала мне, что они решили окрестить тебя Гамлетом.
— Но его зовут Джордж! — произнесла Сильвия.
— Жорж Гамлет Александр — так меня зовут. Определенное чувство деликатности, полагаю, мешает солдатам называть меня Гамлет. Вместо этого они зовут меня Жорж.
— Но почему Жорж, а не Джордж? — спросила Сильвия.
— И сам не знаю, — признался я. — Рискну сказать, что не в честь Жоржа Шарпантье, ибо ему было не много лет, когда я родился.
— В Токио! — весело подтвердила тетя Тереза, оглядывая Вандерфантов. — Mais voilà un Japonais!
— Tiens![10] — согласилась мадам Вандерфант.
— В отеле «Империал». Непредусмотренное отклонение от увеселительной дальневосточной поездки родителей, полагаю.
— Но ты британец по рождению, так что нечего жаловаться, — сказала тетя.
— Думаю, мне повезло.
— Да, от имен одни неприятности, — произнесла тетя, вновь оглядываясь на Вандерфантов. — Мою дочь окрестили Сильвией, потому что при рождении она была такой белокурой, — вылитая сильфида. А потом ее волосы все темнели и темнели и сейчас, видите, почти черные — с темно-золотыми нитями.
— И светло-золотыми, когда их помыть, — добавила Сильвия.
— В самом деле? — спросил я с неподдельным интересом.
— Или возьмите имена моих братьев, — произнесла тетя Тереза, поворачиваясь к мадам Вандерфант. — Матушка хотела дочерей, но первые двое новорожденных оказались мальчиками: так что она окрестила одного Конни, а другого — Люси.
— Tiens! — сказала мадам Вандерфант.
— Конни — его отец, — она показала на меня, — был близоруким, а Люси совсем глухим. Помню как сейчас ту прогулку на катере по Неве, когда он взял нас с собой. Конни, слепой как сова, стоял за штурвалом, а Люси, глухой как тетеря, был внизу, в машинном отделении.
И когда Конни закричал в переговорную трубу, чтобы Люси дал назад, Люси, разумеется, ничего не услышал, и Конни, который ничего не видел, влепился с нами всеми в самую середину Литейного моста. Вот как сейчас помню! А потом они так орали друг на друга, так орали, чуть головы друг другу не пооткусывали. Это было ужасно. Твоя мать была на катере. — Она повернулась ко мне. — Кажется, они едва были помолвлены.
А раз мы погрузились в пучину воспоминаний, я воспользовался этим, чтобы попросить тетю Терезу просветить меня относительно моих предков. Было ли то, что она рассказала, историческим фактом или это частично плод воображения, не могу поручиться. Я, однако, узнал, что когда-то, столетия назад, наш род произошел от одного шведского рыцаря, который прибыл в Финляндию, чтобы внедрить христианство и культуру среди беловолосых племен; что впоследствии он предал своих людей и перешел к финнам, за что его клан отрекся от него, при том, что финны не особенно с ним прижились и, заподозрив по причине его отталкивающей внешности, что он посланец дьявола, прозвали его старым Saatana Perkele, каковое имя — фон Альттойфель — он и принял, забредя в Эстонию и примкнув там к миссионерам из Тевтонского ордена — из мрачного ли сумасбродства или по злой иронии или из темной романтической гордыни — кто знает? — и выбрал себе в качестве нового герба двух дьяволов, переплетшихся хвостами. Его сын, финн (но проживавший в северной Италии), сменил фамилию с Альттойфель на Диаболо. Его же сын, рожденный в Италии, но подвергшийся гонениям за протестантскую веру, бежал в Шотландию, где уже его сын, уроженец Шетландских островов, чтобы сделать фамилию похожей на шотландскую, добавил в конец «х», на манер фамилии МакДонох — «Диаболох», чтобы придать этому имени более туземный оттенок, однако преуспел лишь в том, что фамилия отстранилась от своих первоначальный корней настолько, что стала ни рыба, ни мясо, ни селедка. Настолько, что когда я, отдаленный потомок (родившийся в Японии), вступал в Хайлендский полк, чтобы сражаться на Мировой войне (за свободу малых народов), сержант-вербовщик взглянул на мою фамилию, потом взглянул пристальнее, и пока он так глядел, то казался при этом, скажем так, озадаченным. Лицо его сморщилось, расплылось и превратилось в ухмылку. Он покачал головой. «Черт меня дери!» — произнес он. Только это — и больше ничего. Я принял присягу и рекрутское вознаграждение, составлявшее в те времена восемнадцать пенсов. Мой дед, уроженец Лондона, человек неуемной натуры, после поездок по Испании, Голландии, Франции, Дании и Италии, решил, наконец, осесть в Сибири, где приобрел большое имение неподалеку от Красноярска, в котором позже основал успешное дело по пушному экспорту. В его дневнике есть любопытные описания боя быков, который он наблюдал в Барселоне, где он встретил свою будущую жену, испанку, — выйдя за него, она последовала за ним в Манчестер, где перед тем, как выехать в его красноярское имение, родила моего отца, тетю Терезу, дядю Люси и полдюжины других отпрысков. Мой дед, который пережил свою жену, наказал в своем завещании, чтобы его красноярское имение (известное по русскому произношению нашей фамилии «Дьяволово») было поровну разделено между многочисленными его детьми.
— Но твой отец не смог ужиться с дядей Люси, — сказала мне тетя Тереза, — и он забрал свою часть денег и основал бумагопрядильную фабрику в Петербурге. И, разумеется, он тоже весьма преуспел.
И, пока она говорила, я вспомнил свое детство в великолепном белом доме с видом на Неву, который странно контрастировал с запущенной набережной. Снаружи валил снег. По набережной гулял ветер, сильный, злой. Скованная льдом Нева выглядела холодной и угрожающей. И, глядя на меня, тетя Тереза произнесла:
— Ты, Джордж, не коммерсант, ты… — она подняла белую, унизанную кольцами руку к небесам, — ты поэт. Вечно витаешь в облаках. Вот твой отец — вот кто был коммерсант!
И она, чтобы поддержать свой престиж среди бельгийских друзей, дала понять, что оба ее брата были богаты, как черт-те что.
— Если бы вы были в Петербурге, — сказала она Берте, — и спросили фабрику Дьяволо, первый же извозчик отвез бы вас прямиком к дому Конни.
— Tiens! — сказала Берта, и на лице ее появилось выражение сознательного уважения к престижу Конни.
— А сейчас мы потеряли все, — вздохнула та, — после революции!
— Courage! Courage![11] — сказал дядя Эммануил.
Тетя весьма гордилась достижениями своего клана и всегда чуточку приукрашивала их в разговорах с чужими. Тут вмешалась мадам Вандерфант и рассказала, что у ее дяди с материнской стороны тоже была большая фабрика недалеко от Брюсселя и, между прочим, прелестный дом в самой столице. Однако тетя Тереза легко ее опровергла. Это так, пустяки, выходило из ее слов. Мадам Вандерфант стоило бы увидеть петербургский дом Конни! Говоря словно бы со мной, но с намерением произвести впечатление на слушателей, она произнесла своим глубоким контральто:
— Дом твоего отца в Петербурге. Ах, что это был за дворец! А сейчас, увы, все потеряно, все потеряно.
— Courage! Courage! — сказал дядя Эммануил.
Пока тетя Тереза говорила о славном прошлом, Вандерфанты, думая о чем-то своем, напустили на себя вежливый интерес: мадам Вандерфант притворялась, что слушает, с неубедительной скромной улыбкой. Берта, прикрыв глаза, слушала мои слова и обменивалась быстрыми взглядами с тетей Терезой — мелкие кивки, знаки личных воспоминаний, теплого одобрения и понимания. Она не могла быть причастна к этим воспоминаниям, но в подобном допущении таился секрет личности слишком доброй и чувствительной, чтобы даже в мыслях позволить себе охладить нас каким-нибудь другим отношением к нашим воспоминаниям, не таким личным, как наши.
— Сильвия! Не мигай! — сурово приказала тетя Тереза.
Сильвия сделала нечеловеческое усилие — и тут же мигнула.
— Твой отец, разумеется, независим от нас, — сказала тетя Тереза, — и мы не ждем, что он станет переводить нам какие-то деньги. Но твой дядя Люси был нашим попечителем с тех пор, как умер отец, и обязан присматривать за тем, чтобы мы получали причитающиеся нам дивиденды.
— И это ему удавалось?
— В общем, да, — ответила она. — Должна признать, он был весьма щедр. Весьма и весьма. Только в последнее время…
— В последнее время?
— В последнее время он не шлет нам дивидендов.
— Неужели?
— Это очень странно, — сказала она.
— Конечно, ведь его дело парализовано тем, что происходит в Красноярске.
— Разумеется. Но мы не можем жить ни на что. И это в Японии, где все так дорого! Один монастырь Сильвии съедает половину моих денег! Там уже два месяца не плачено. Это очень странно, — прибавила она. — Мы все ждем и ждем…
— Тот, кто ждет, всегда дождется, — вставил дядя Эммануил.
— Эммануил, — произнесла тетя, — утром ты отправишься на почту и узнаешь, получил ли Люси нашу телеграмму.
— Хорошо, ангел мой.
Манера тети разговаривать с мужем напоминала мне о военных командах: «Вторая рота выступит… Третий батальон погрузится…» Она не грозила и не будоражила; она просто подразумевала, что дело (в будущем) будет сделано, без малейшей возможности неисполнения приказания:
— Emmanuel, tu iras… Emmanuel, tu feras…
— Oui, mon ange[12], — и он шел. И делал.
Когда тетя Тереза поднялась в спальню немного полежать перед ужином, дядя Эммануил сказал нам, что сможет раздобыть автограф одного известного французского маршала любому, кто согласится пожертвовать двадцать тысяч франков французскому Красному Кресту; и он воспользовался случаем, чтобы спросить нас, знаем ли мы возможных покупателей, быть может, аукцион или военную благотворительную организацию, которые могут клюнуть на такую наживку.
— Они просиль меня это делать, — говорил он майору Скотли с извинительными жестами, — и я согласиль; я говориль — я делать, что могу.
— Я знаю одного малого, — сказал Скотли, — американца по имени Браун, который знает всех, кто что-либо из себя представляет. Я с ним переговорю; уверен, что он клюнет на это дело. Но, — и он погрозил пальцем, — чтоб без трепа.
— Простите? — переспросил дядюшка, не поняв последнего слова. — Без трепа! — предупредил Скотли, который относился к иностранцам с подозрением.
Дядя не удостоил его ответом.
6
ТЕТЯ ТЕРЕЗА
Немного спустя, как тетя удалилась в спальню чуточку отдохнуть, меня позвали к ней. В комнате стоял резкий запах Mon Boudoir, смешанный с ароматом разнообразной косметики. Она густо пудрилась — так что нападало желание соскрести этот слой перочинным ножом. На ночном столике стояли пузырьки лекарств, косметика, лежали старые фотографии, книги; на стеганом одеяле — бювар красной кожи для письма; позади — мягкие подушки; и во всем этом, как в гнезде, устроилась тетя Тереза — воплощение деликатного здоровья. Она помнила о дне рождения каждого, писала и получала множество писем на Рождество и на Пасху, а также по случаю бракосочетаний, рождений, смертей, конфирмаций, повышений по службе, назначений и т. д., и скрупулезно отмечала дату получения и отправления писем и открыток в особой книжечке с переплетом из красной кожи, заведенной специально для этих целей. Был июль — день клонился к вечеру — уныние.
— Вы тут удобно устроились, — произнес я, оглядываясь.
— Ах! Если бы рядом была Констанция! — протянула тетя. — Если бы она была рядом и ухаживала за мной! Увы, мне пришлось оставить ее в Диксмюде! И у меня не осталось опытной сиделки, чтобы ухаживать за мной в моем печальном изгнании!
Констанция была дочерью одного близкого тетиного друга, с которой тетя подружилась после его смерти, и, подружившись, сделала из нее свою служанку.
— Приятные дружелюбные люди эти Вандерфанты, — сказал я после паузы.
— Да, но мадам Вандерфант немного туповата и не понимает, в каком состоянии мое несчастное здоровье! Она так громко разговаривает! И она ужасно жадная. На пароходе, четыре года назад, она так много ела (потому что знала, что еда включена в стоимость проезда), что капитан был просто возмущен и нарочно правил вдоль волны — чтобы ее стошнило.
— И ее стошнило?
— Стошнило ли ее! — воскликнула тетя злорадно. — Еще как!
— Но ведь Берта страшно мила, не так ли? — спросил я.
И тетя Тереза глубоким-глубоким баритоном, голосом волка, которым он, подражая бабушке, заговорил из-под одеяла с Красной Шапочкой, протянула:
— Да, Берта пожалела меня и присматривает за мной, бедным инвалидом! Она добра и внимательна, — но такое пугало, ты не находишь?
— Ну, в ее лице все равно есть нечто симпатичное.
— Да, но разве она не уродлива — этот длинный красный крючковатый нос! И знаешь, она ведь не знает, что уродлива. Она себе даже нравится. Думает, что она не так уж плоха собой.
— Ну, я видел хуже.
— Non, mon Dieu![13] — засмеялась она. — Не думаю, что мне приходилось встречать кого-то, кто так смехотворно уродлив. Но говорю же — она, конечно, не Констанция, но она добра ко мне и внимательна.
Все это время тетя Тереза не отрывала глаз от блестящих голенищ моих сапог, на которые мой ординарец Пикап «наложил» крем «Вишневый цвет». Быть может, она думала о своей молодости, сожалела, что у ее пигмея-мужа никогда не было таких икр, как у меня. Ибо я крепок в членах, и мои темно-коричневые, туго перетянутые кавалерийские сапоги со шпорами (в которых у меня особенно шикарная походка), начищенные Пикапом до блеска, выгодно подчеркивают мои икры. Женщинам я нравлюсь. Мои голубые глаза, которыми я обворожительно вращаю в разговорах с ними, хорошо смотрятся под темными бровями — их я каждый день подкрашиваю карандашиком. Мой нос немного искривлен, чуть с горбинкой. Но что особенно их ко мне тянет, так это мои ноздри, которые придают мне наивное, нежное, простодушное выражение, вот как сейчас: «М-м?» — оно-то их и привлекает.
— Довольно, Джордж, — приказала тетя.
— Что?
— Постоянно любоваться собой в зеркале.
— Отнюдь…
— Ты поужинаешь с нами.
— Да. Я должен вернуться в гостиницу переодеться. — Не опоздай, — крикнула она мне вслед.
Когда я сошел вниз, Скотли уже не было. В гостинице я обнаружил приглашение на ужин, даваемый императорским генеральным штабом. Когда я, полный смутных чаяний, ехал к себе, тени под колесами были уже черными, и рядом с карликом-рабом бежал другой, длинношеий, на ходульных ногах.
7
Когда я позвонил, и мне открыл бой, в передней уже была Сильвия — с блестящими глазами, длинноногая, грациозная, как сильфида. Мы подождали тетю: через несколько минут она спустилась и мы проследовали к ужину. Сильвия села напротив меня. Она наклонила голову, закрыла глаза (причем я отметил длину ее ресниц) и, соединив пальцы, спешно пробормотала себе под нос молитву. Затем взяла ложку — и вновь явила свои яркие глаза. И я отметил изысканный рисунок ее тонких черных бровей.
Она была так потрясающе красива, что невозможно было оторвать глаз от ее лица, невозможно было остановиться на ней взглядом, невозможно было понять, в чем, собственно, дело. Она была так красива, что глаза не задерживались на ней, — можно было лишь гадать, какого черта нельзя быть более красивым!
— Сильвия! Опять! — произнесла тетя Тереза.
И непроизвольно Сильвия моргнула.
— А ваш друг? — спросила мадам Вандерфант.
— Кто? Скотли? Он ужинает не дома.
— Mais voilà un nom![14] — засмеялась тетя и обратила свой прекрасный профиль к свету: ее лицо было покрыто густым слоем пудры и крема, но черты его, должен сказать, остались теми же, прелестными.
— На свете есть странные имена, — согласился я, — возьмите, например, моего ординарца, его зовут Пикап. Не я их выдумал, так что ничем помочь не могу.
— Ah, je te crois bien![15] — согласился дядя Эммануил.
— У него абсолютно вертикальные ноздри, у этого Скотли, — воскликнула тетя Тереза. — Никогда ничего подобного не видела!
— И все-таки он, кажется, очень милый человек, — сказала Берта.
— Но ужасно надоедливый! Когда его не донимала морская болезнь, он страдал от острой дизентерии.
— Бедняга! — воскликнула она. — И некому за ним присмотреть.
— А вместо того, чтобы бриться, как положено мужчине, он проявил дьявольскую изобретательность (придуманную, как мне кажется, на благо вашему полу) и стал выжигать волосы на лице, отчего образовывалась ужасающая вонь, — каждый четвертый день.
— Джордж! — произнесла тетя, призывая меня к порядку.
Я поднял взгляд и посмотрел ей прямо в глаза:
— Я использовал это слово намеренно: то не был запах!
— Однако, mon Dieu! Я бы заявила протест, — заметила мадам Вандерфант.
— Старшему офицеру? — Дядя сардонически повернулся к ней, словно намекая, что такое не принято в армии.
— Невозможно?
— Mais je le crois bien, madame![16] — восторженно произнес он.
— Вообще-то, — пояснил я, — Скотли был младше меня по званию за три дня до отплытия. Но в один прекрасный день его повысили в звании — от младшего лейтенанта до майора, потому что он занимается железными дорогами и паровозами, а им как раз нужен человек, который бы стал консультантом, кажется, на маньчжурской железной дороге.
— Сильвия! Опять! — перебила тетя Тереза.
Сильвия снова мигнула.
— Когда я дипломатично заговорил с ним, он ответил, что у него очень нежная кожа, которая не выносит, когда ее скребут бритвой.
— И после этого ничего?
— Не могу знать. Едва я собрался надавить на него, у него случился острый приступ дизентерии, и вопрос на какой-то время отпал.
— Pauvre homme[17], — сказала Берта.
Две девицы Вандерфант были подчеркнуто благовоспитанны и ограничивались словами: «Oui, maman» и «Non, maman»[18], да еще, может быть, передавая что-нибудь тете Терезе, которая была среди нас словно королева, предупреждали ее желания жеманным: «Madame désire?»[19] Но едва ли больше того. Они сидели бок о бок, одетые совершенно одинаково и с одинаковыми челками, нельзя сказать, чтобы некрасивые, но и не дурнушки, а просто очень благовоспитанные девицы, в то время как их матушка толковала со мной о Ги де Мопассане и о романах Золя.
— Хорошо, что твои родители послали тебя учиться в Оксфорд, — сказала тетя.
Я опустил ресницы при этих словах:
— Да, это, конечно, большое событие — пойти учиться в Оксфорд. Это совсем не то, чтобы учиться в Кембридже или где-нибудь еще.
— Я всегда мечтал, — вставил дядя Эммануил, — пойти в университет. Увы, вместо этого меня послали в военную академию.
— Вот и Анатоль, — воскликнула тетя, — тоже хотел бы пойти в университет, чего всегда хотел его отец. Но я его не пустила — не помню толком, почему, — и он, будучи хорошим сыном, не стал меня расстраивать. Мать — это все, о чем он думает и чем интересуется в жизни.
Она вздохнула — а я вспомнил, как Анатоль сказал мне однажды вечером, когда был в отпуске в Англии:
— Ты знаешь, матушку довольно легко обойти.
— И все-таки университет, — задумалась тетя, — подошел бы ему лучше теперь, когда война кончилась. Как и отец, он поэт, хотя и маменькин сынок. Однако вместо этого я отправила его в Военный колледж.
— В университете столько же дураков, как и везде, — сказал я, чтобы успокоить ее запоздалые угрызения совести. — Но их глупость, должен признать, имеет определенную печать — печать университетского образования, если хотите. Это образованная глупость.
— Ах! — произнесла мадам Вандерфант, делая весьма осознанную попытку выглядеть интеллектуально. — А разве не правда, что всегда преуменьшают удобные случаи, которые выпадали в прошлом и которыми не воспользовались?
— Дело не в преуменьшении, — ответил я. — Дело в том отношении, которое Оскфорд в тебе выращивает, — что ничего на свете тебя не удивит, в том числе сам Оксфорд.
И внезапно мне припомнился летний семестр: оксфордские колледжи, излучающие культуру и инертность. И я заговорил с упоением:
— А! Это ни с чем не сравнится! Это чудесно. Скажем, вы идете по Хай-стрит к вашему наставнику, вваливаетесь к нему, как к себе домой, и видите — вот он, седовласый ученый с крючковатым носом, которому бы позавидовал любой коршун, в домашних тапочках, страшно образованный, позвякающий монетками в кармане и часами просиживающий у камина, он обдает тебя дымом и беседует с тобой о литературе, как старший брат. Или банкет в честь лодочных гонок. Там был такой преподаватель по прозвищу Конь, и вот когда декан кончает свою речь, мы все начинаем вопить: «Конь! Конь! Конь!», и он с улыбкой встает и произносит спич. Но стоит такой гвалт, что не слышно ни слова.
По правде сказать, в Оксфорде мне было скучно. От Оксфорда у меня осталось впечатление, что я сижу в своей комнате, мне тоскливо, и на улице непрестанно льет. Но сейчас, подогретый их интересом, я рассказал, как играл в футбол, участвовал в лодочных гонках, заседал в кресле президента Союза[20]. Наглая ложь, разумеется. Ничего не могу с собой поделать. Уж таков я — человек с воображением. У меня чувствительное сердце. Не могу обмануть ничьих ожиданий. А! На Оксфорд лучше смотреть ретроспективно. Думаю, на жизнь лучше смотреть ретроспективно. Когда я буду лежать в могиле и вспоминать всю свою жизнь до самого рождения, я, быть может, прощу Творцу грех моего сотворения.
Есть такой дар — дать почувствовать кому-то, что никто другой на свете для тебя ничего не значит. И пока я вдохновенно врал, я чувствовал, как Сильвия испытывает на мне этот дар, — наивысший род лести, не нуждающийся в словах, лишь во взгляде, в прикосновении, в смене тона. И я чувствовал это в тех взглядах, которые посылала мне Сильвия. Мерцали звезды. Ночь заливалась румянцем, слушая мое вранье. И вот мой нескончаемый рассказ чуточку им наскучил.
— Война кончилась, — произнесла тетя, — но я уверена, что найдутся мужчины, которые будут об этом сожалеть. Как-то я разговаривала с одним английским капитаном, который был в самой гуще битвы при Галлиполи, и он уверял, что ему нравилось воевать — от чего я чуть не свалилась с ног. Не знаю, правда, так ли уж он не прав. Ему нравилось воевать с турками, потому что, по его словам, они замечательные ребята. Учтите, он ничего против них не имел; наоборот, он считал, что они были джентльмены и спортсмены — почти равные ему. Но при этом он сказал, что с удовольствием сразится с турком в любое время. Потому что они воевали чисто. В конце концов, — продолжала тетя, — что бы вы там ни сказали, но было нечто замечательное — некое жизнелюбие! — в его рассказах о сражениях с турками. Турки выбегают из леса со сверкающими штыками наперевес, распевая: «Аллах! Аллах! Аллах!», — и вливаются в битву. Это потому, что они, видите ли, думают, что уже стоят во вратах Рая, готовых их впустить. Поэтому они серьезно и упорно продвигаются вперед, скандируя: «Аллах! Аллах! Аллах!» Прямо не знаю — но это должно быть, судя по его словам, воодушевляющее зрелище!
— А потом, — я прибавил, дополняя рассказ, — какой-нибудь спортсмен вонзает холодный штык тебе в беззащитный живот. Вы понимаете, что происходит тогда? — Я стал невозмутим, расчетливо-вкрадчив. — Внутренности состоят из нежной ткани; когда, например, вы съедаете что-нибудь неудобоваримое, вам становится больно. А теперь представьте-ка, что происходит в животе, когда туда вонзается холодное стальное острие. Оно не просто рассекает кишки; оно выпускает их наружу. Представьте себе это. И тогда вы поймете особенную интонацию его последнего крика: «Аллах!»
— Ах, ты отвратителен!
— Это жестоко! жестоко! — повторяла тетя.
— Да, для вас, которые желают войн «респектабельных», войн с хорошим вкусом, где-нибудь подальше, во дворе, но, пожалуйста, не на моем ковре в гостиной! Тогда как мне кажется, что солдаты должны начинать войну у себя дома, с гражданского населения, делая упор на пожилых дам.
— Довольно, — приказала тетя.
— Нет уж, я не позволю вам ускользнуть, получив неполную картину. Аллах, значит. Что там с вашим сыном во Фландрии?
— О, с ним все в порядке. Кроме того, война уже завершилась.
— М-м… подождемте-ка пару дней.
Я был возбужден. Но я знал, что для полного эффекта ты должен во время своей проповеди оставаться спокойным, давать страстям просеиваться сквозь фразы. Когда я обуян праведным гневом, я даю ему накопиться, торможу его, а потом разрешаю ему излиться в холодных, язвительных, внешне бесстрастных выражениях. Я обуздываю свой гнев, чтобы он выполнил работу обвинителя. Любезно повернувшись к ней, я устремил на тетю пронзительный проповеднический взор.
— Что на войне самое ужасное? На войне мужские нервы сдают, и мужчин после этого предают военному трибуналу за то, что их нервы сдали — дезертировали, — и мужчин приговаривают к расстрелу как дезертиров, за трусость. И единственными судьями становятся их старшие офицеры, которые не отважились разузнать о деле получше. И отчего бы это, — продолжал я, избегая смотреть на тетю Терезу, в чьих глазах появилось некое выражение, — разные тыловые, в особенности женщины, и особенно старые женщины, отличаются наиболее преступным поведением в этом глупом деле прославления войны? Почему у них более злобные намерения и менее широкий кругозор, чем у их сыновей, сидящих в окопах?
Тетя Тереза закрыла глаза со слабым вздохом, словно показывая, что слушать мои нескончаемые речи — слишком большая нагрузка для ее деликатного здоровья.
А я продолжал:
— Помню одну гостиницу в Брайтоне, где я жил две недели, прежде чем присоединиться к своей части и принять участие в военных действиях. Неизбежные пожилые дамы со своими кошками были там, несомненно, самое худшее. Все их разговоры сводились к кровопролитию. Они требовали истребления всей немецкой расы; меньшим, по их словам, они не удовлетворятся. Они горели желанием обезглавить всех немецких младенцев своими собственными руками из чистого, как они говорили, удовольствия, которое это им доставит. Это, утверждали они, не человеческие дети, это твари. Такова была услуга, которую они хотели оказать своей стране и всему человечеству в целом. Они имели право продемонстрировать свой патриотизм. Вынужден признаться, меня не на шутку потрясло это проявление запоздалой иродовой жестокости в старых, слабеющих женщинах. Именно об этом, вежливо, я им и сказал, и они обвинили меня в прогерманских симпатиях. Они обнаружили неприятные вещи, которые можно сотворить с моей фамилией и которые до этого ускользнули от их внимания, — серьезный недосмотр. Опасность для Государства. Диаболох — что, черт возьми, это за имя такое? Одна из них зашла настолько далеко, что узрела в нем — нет, точно узрела — явный оттенок, скажем так, чего-то дьявольского, за чем нужно приглядеть. Они толковали о цементных площадках, замаскированных под теннисные корты, которые подготовлены немецкими шпионами в разных местах Англии для германских тяжелых орудий, и в том же духе — обо мне. «Почему бы вам, — произнесла одна дама, особенно древний экземпляр своего пола, — вместо того, чтобы бренчать на пианино, не отправиться сражаться за свое отечество?» «Умереть? — спросил я в ответ. — Чтобы вы жили? Одной этой мысли достаточно, чтобы немедленно капитулировать». В тех странах, которые участвовали в войне, — продолжал я, потому что тетя, у которой захватило дух от моих обвинений, просто не имела слов, чтобы меня перебить, — до сих пор есть тенденция среди тех, кто потерял родственников на войне, успокаивать себя тем, что их родные пали за нечто благородное и стоящее, то, что некоторым образом перекрывает трагедию их смерти — чуть ли не оправдывает ее. Вредное заблуждение! Их погибшие — это жертвы, не более и не менее, жертвы глупости тех зрелых мужей, которые, ввергнув мир в нелепую войну, теперь строят памятники, чтобы с нею расквитаться. Будь я Неизвестным Солдатом, я отказался бы лежать под этим куском тяжелого мрамора; мой призрак поднялся бы и сказал им: оставьте свои треклятые монументы и поучитесь уму-разуму! Христос умер 1918 лет назад, а вы все так же глупы, как и тогда.
Неожиданно я смолк. Настала тишина.
— Спасибо. Мы весьма обязаны тебе за эту лекцию, — произнесла тетя Тереза.
— Пожалуйста, — ответил я. — Пожалуйста.
8
После ужина мы перешли в гостиную, и дядя Эммануил закурил сигару. Открытый рояль манил меня, когда я стоял перед ним, попивая свой кофе.
— Вы играете? — спросила мадам Вандерфант.
Не могу сказать, что я не играю, поскольку в детстве брал бесчисленные уроки фортепиано. Но мне вечно было лень хотя бы самую малость выучиться нотам. Поэтому я терпеть не могу, когда меня уговаривают играть на публике. И моя стыдливость пропадает зря, потому что вокруг считают, что это ложная скромность, и что я люблю, когда меня уговаривают. В Оксфорде я выбрал музыку в качестве дополнительного предмета. Вскоре я перестал ходить на уроки; мне попросту было лень изучать технические начатки, и когда я, наконец, решил оставить предмет, мой преподаватель сказал, что я могу это сделать без особого урона для музыки. И все же я чрезвычайно музыкален, — Сыграйте нам что-нибудь, — попросила Берта.
— Я не в настроении.
— О, сыграйте же, прошу вас! — сказала Сильвия, подходя ко мне; она коснулась меня платьем, аромат ее духов наполнил меня восторженным ожиданием чего-то нежного, прекрасного и в то же время личного, близкого. Как же она была красива!
— Что это за духи? — Cœur de Jeanette. Сыграйте же!
— Ну что ж, хорошо.
Я взял несколько вступительных аккордов и, повторив их десяток раз, ринулся в тот отрывок из «Тристана», тот водоворот клокочущей страсти, который мне так нравился. А потом остановился. Дальше я не знал.
— О, продолжайте же!
— Я не в настроении.
— Просим, просим, — умоляли они.
Я сыграл тот же бурный отрывок двадцать раз подряд и вновь остановился.
Они вздохнули с восхищением.
— Ты играешь с таким чувством, — произнесла тетя.
Что ж, это правда. Но я терпеть не могу разные технические детали. Однажды в Оксфорде, когда я сыграл этот же самый полный страсти отрывок из «Тристана», ко мне подбежал вне себя от ужаса доктор музыковедения. «Или, — вскричал он, — я потерял слух, или вы играете не в том ключе!» Я и играл не в том ключе, к тому же на слух (потому что не мог справиться с ним в оригинале). Но они просили продолжать, и во время игры я чувствовал тепло, словно солнце проникало сквозь каждую клеточку кожи. Теплые глаза Сильвии следовали за каждым моим движением. И это я с удовольствием осознавал.
Дядя Эммануил, который во время моей игры выглядел так, словно на уме у него что-то очень важное, тотчас после того, как я остановился, произнес:
— Теперь, когда война кончилась, нужно радоваться, нужно немного развлекаться.
И тетя Тереза, выглядевшая во время игры подавленно и озабоченно, ответила:
— Войне конец, слава Богу. Но я беспокоюсь… почти шесть недель от него нет вестей… еще до того момента, когда подписали перемирие.
Я подумал: они только и говорят, что о крови и огне, — а потом уповают на мир и безопасность.
Тем не менее, чтобы успокоить ее ради нас всех, я сказал:
— Большая часть страданий и боли в этом мире вымышлены — их здесь нет. Я напишу в своем следующем романе о трагедии людей, которые воображают, что произойдут какие-то события: они все воображают, и их драма — это драма воображения. На самом деле не происходит ничего.
— Это все ты, — запальчиво произнесла она, — это ты меня расстроил!
— Но, право же, ma tante…[21]
— Все ты… я буду ночь не спать…
— Но послушайте, ma tante…
— Ну, зачем же беспокоиться? Зачем беспокоиться? — устремился между нами дядя Эммануил. — Мир! Мир в доме.
Какое-то время она задумчиво сидела в своем большом мягком кресле, нагнувшись над затейливым шитьем. Когда Берта принесла ей tisane[22], она бросила на меня трагический взгляд своих больших, грустных, собачьих глаз, и ее губы задрожали.
— Как мне тревожно, Джордж! Пожалей меня. Пожалей меня, Джордж! Джордж, разве ты не понимаешь, как ужасно я беспокоюсь?
— Поверьте, это лишнее. Нет ничего хорошего или плохого, все становится таковым от размышлений. Почти все несчастья в мире — от взаимных упреков, тщетных ожиданий, страхов, дурных предчувствий, воспоминаний, — то есть от неудачного управления воображением.
Она вздохнула, наклонилась и отхлебнула свой tisane. — Что хорошего в том, что вы нарочно отравляете себе столько дней и недель вашей короткой жизни тем, что представляете себе самое худшее? Если же вместо этого произойдет лучшее, вы обкрадете себя на целые тысячелетия своей жизни, и осознание того, что это ваше смутное несчастье было лишь фантомом плохо контролируемого воображения, не вернет вам ни минуты вашей потраченной впустую жизни.
Она молчала, лишь отхлебывала свой tisane.
— А потом вы проведете остаток жизни, горько сожалея о том, что так впустую растратили свои дни.
— Тогда они будут казаться сладкими в силу контраста, — сказала она с вздохом. И вдруг она высказала одну из тех странных, чисто женских точек зрения, которые всегда заставляли меня увериться в том, что тетя Тереза не просто эгоистка, какой я ее считал, но эгоцентрик такого размаха, каким только может быть смертный.
— Нет, — сказала она, — если произойдет лучшее, и он вернется сюда живым и невредимым, значит, я своим чрезвычайным беспокойством заплатила, и с радостью заплатила, самую тяжелейшую дань, какая только возможна. Я свела счеты с судьбой и буду с гордостью и удовольствием помнить, что не поскупилась и оплатила его безопасность своими страданиями. Поэтому я должна тревожиться сейчас, опасно быть спокойной и счастливой. Я должна оплатить дань авансом. Я чувствую, что должна… что мне следует беспокоиться… и я беспокоилась… не знаю почему… беспокоилась весь месяц.
Она встала из кресла и тяжело поднялась наверх, в спальню, опираясь на галантную руку мужа. Потом я узнал, что ночью у нее был нервный припадок, «une crise», как назвала его Берта, и она не спала всю ночь.
Я взглянул на Сильвию.
— Когда я увидел тебя сегодня на улице, я сразу понял, что это ты.
— А, мои шнурки! — засмеялась она. — Я выбежала купить конфет.
И позже, когда мы с Сильвией играли в домино, я был настолько зачарован ее присутствием, что даже не замечал игры, и Сильвия поправляла чуть ли не каждое мое движение, как будто играла сама с собой, тогда как я просто глазел на нее в восхищении. На следующей неделе ее каникулы заканчивались, и она возвращалась в Кобэ, в интернат под началом ирландских монахинь — Монастырь Святого Сердца.
— Ты чудесный, уникальный, великий писатель, Джордж, — сказала она и потом серьезно добавила, абсолютно без тени юмора: — Я должна как-нибудь прочитать какую-нибудь из твоих книг.
После чего она тоже отправилась в постель.
— А! Брюссельская ночная жизнь! — произнес дядя Эммануил за выпивкой. — Ничего лучше не сыщешь! Минуту спустя он поднялся ко мне.
— Mon ami, — произнес дядюшка, обняв меня за талию обеими руками и откровенно глядя на меня снизу вверх, — ты должен повидать Японию… жизнь… она забавна! Особенно ночная сторона.
9
Дядя Эммануил прошептал мне что-то на ухо, я кивнул, и мы отправились. Наши работяги-рикши ловко бежали бок о бок в ослабевшей вечерней жаре. Горящие фонари на осях и по бокам весело подпрыгивали в сгущающейся темноте. Мы проезжали нескончаемые базары по нескончаемым, застроенным лавками улицам. Дядя Эммануил зажег сигару. На нем был коричневый котелок и желтые перчатки, побывавшие в стирке столько раз, что теперь совершенно отбелились: со своими жесткими нафабренными усиками и позолоченной тростью с набалдашником он был похож на собаку, когда сидел вот так, с довольным видом, в легкой рессорной коляске. Нескончаемое продвижение по городу. Токио и вправду был похож на бесконечную смену деревень. Опустилась ночь. Двое рикш бежали так же ловко, как и раньше. Я, весь погруженный в мысли о Сильвии, вслушивался в странные грустные распевы: «А-а-а! Я-а-а! Яо-о-о! Йо-о-о!» — что исходили из каждого уголка и поворота, съеживался от любого прикосновения, не чувствуя охоты ни к чему.
Наконец, мы подъехали к странного вида деревянному строению на длинных сваях, и тотчас по грубой деревянной лестнице к нам спустились хозяйка и слуги. У подножия лестницы с нас сняли обувь и препроводили наверх, в низкую гостиную, где я даже не мог стоять без того, чтобы не удариться головой (хотя дяде это удавалось без труда); у меня возникло чувство, будто я покинул компанию человеческих существ и вошел в собрание птиц или каких-то неизвестных животных. Когда мы уселись на покрытый матами пол, принесли фрукты; потом отворилась боковая дверца, и перед нами выстроилась небольшая процессия коротконогих женщин с набеленными лицами.
У меня вызвали отвращение их плоские, ничего не выражающие азиатские физиономии, покрытые толстым слоем грима. Однако дядя Эммануил улыбался, глядя на них.
— Elles sont gentilles, eh?[23] — повернулся он ко мне.
— М-м, — выразился я.
— А! — возразил он в ответ на мое критическое отношение. — Ce n’est pas Paris, enfin![24]
Он сказал, что чего бы я там ни говорил, но они «mignonnes»[25]. Я стоял на своем — ноги у них были слишком коротки, чтобы прийтись мне по вкусу, — на мой взгляд, этот дефект напрочь лишал их всякой женской привлекательности. «Que voelez-vous?» — философски заметил он. И мы негромко поспорили. Женщины стояли перед нами, ожидая нашего выбора. Снаружи доносился уличный шум, заунывная монгольская музыка, апатия города, овладевающая нами в середине ночи. Я тоже сидел в апатии, на устланном матами полу, в комнате с низким потолком, и чувствовал так, словно заперт в верхнем ящике буфета, — заперт и забыт в чужом для меня столетии, чужом городе. Это было так нечеловечески странно, я тосковал по тому, что оставил. А потом мне захотелось плакать, плакать о том, что сотворили с моей душой…
— Странное место, — произнес я. — Странные девушки.
— Que voelez-vous? — ответил он. — C’est la vie!
В это время к нам подошла хозяйка с регистрационной книгой в руках и, тыча в нее, призвала нас записаться.
— Полисия, — говорила она, — полисия.
— Любое имя сойдет, — легко сказал дядя Эммануил. Но я выразительно отказался, и после нескольких тщетных попыток убедить меня занести в книгу мое имя хозяйка послала за переводчиком — тотчас же явившимся юношей, чье знание нашего языка, однако, не простиралось дальше ее собственного. Он указал на книгу и произнес:
— Ха! Полисия… ссс… полисия. Ха! Ссс…
— Ха! — сказала хозяйка.
Но я все не понимал.
Они переглянулись и решили, что я ненормальный. Но я ухватился за эту возможность, чтобы уйти, притворившись рассерженным; с примирительными улыбками и поклонами меня препроводили вниз и восстановили в моей обуви, после чего я уселся в рикшу и отъехал чуть подальше, чтобы подождать дядю, где был немедленно окружен роем уличных мальчишек, выпрашивающих милостыню. Рикша приветствовал меня довольной ухмылкой, словно говоря: «Гы! Молодой господин славно повеселился!»
— Осень хоросо? — спросил он, поворачиваясь и широко ухмыляясь.
Я покачал головой.
— Нехорошо. Девушки нехорошие. Почему такие нехорошие?
— Это нехоросий Ёсивара[26], — понимающе сказал рикша. — Нехоросий. Хоросий Ёсивара осень хоросий.
— Правда хороший?
— Ха! Осень хоросий.
— Так почему ты не отвез нас в хороший Ёсивара?
— Хоросий Ёсивара дареко, дареко, осень дареко, — три паса дареко.
Наконец, по лестнице сошел дядя Эммануил. Он забрался в своего рикшу, и мы тронулись. Пока мы ехали домой, дядя Эммануил распространялся о том, что семья, семейный очаг, le «дом», как он выразился, священны, и долг всякого мужчины — соблюдать чистоту дома и не смешивать две жизни.
Я вернулся в гостиницу рано утром. Принял тепловатую ванну и лег в кровать, под белый противомоскитный полог. Уснуть я не мог; всю ночь я слышал свистки и скрежет поездов, проходящих мимо дома. Я лежал без сна, и передо мной проплывал то образ Сильвии, то рикша говорил: «Хоросий Ёсивара дареко, дареко, отень дареко, — три цаса дареко», — а в ночи свистели и мчались поезда. Наконец, сон взял свое. Мне снилось, что я играю с Сильвией в домино, а американский гражданин дерется с япошкой из-за тапка, а когда поезд остановился, мы прибыли в Оксфорд, на «открытии» которого присутствовала моя матушка и лорд Хейг. Стоял дикий шум, словно на русской ярмарке в вербную неделю, куда мы ходили детьми. И неожиданно передо мной возникла гигантская лягушка. Я — дрессировщик в зоопарке. Мне страшно, но вокруг говорят: «Ты что, с лягушкой не можешь справиться?» «Что мне нужно делать?», — спрашиваю я. «Стреляй в нее из этой штуки». И мне вручают игрушечное ружье, стреляющее клюквой.
Если нас ни капельки не удивляют несоответствие, нелепость, вопиющая смехотворность наших снов, то, быть может, не следует удивляться, если в иной жизни нас тоже встретят подобные сюрпризы. Все встанет на свои места и будет выглядеть не странным, а неизбежным, как наша бессонная жизнь, полная разбитых образов, по некой странной причине, более странной, чем любой сон, выглядит ничуть не странной, а неизбежной.
— Быть может, — по пробуждении заметил я, когда эти картины, быстро улетучившиеся, еще стояли в памяти, — наш измерительный инструмент — это иллюзии, как и все остальное…
Я роскошно позавтракал, получив двойное удовольствие при мысли, что за этот завтрак платит военное министерство.
10
Был вечер. Я играл ту сладострастную мелодию из Liebestod[27] в «Тристане», а Сильвия сидела рядом и жадно слушала. Луна выплывала из раскрытого окна, точно как в романе, отчего я ни на минуту не забывал, что я не Гамлет, а Ромео. Я играл все громче и громче, пока не открылась дверь, и Берта произнесла:
— Ваша тетя просит вас прекратить играть — у нее мигрень.
— Выйдем на балкон, — предложила Сильвия.
— Ага! Наконец-то туфли на высоком каблуке! Как они смотрятся на ноге!
Она засмеялась — милый звенящий смех.
— Нечестно так обнажать ноги. Это нарушает мужское равновесие. Или не заходи так далеко, или доведи дело до конца.
— Александр (она звала меня моим третьим именем, потому что считала, что Джордж — слишком обычно, а Гамлет — чуточку смешно), Александр, прочти мне что-нибудь.
— Что?
— Что-нибудь. Вот это.
— Чья это книга?
— Маман.
Я раскрыл книгу и прочел: «И, кроме того, не обманывайте себя, Дориан: жизнью управляют не ваша воля и стремления. Жизнь наша зависит от наших нервных волокон, от особенностей нашего организма, от медленно развивающихся клеток, где таятся мысли, где родятся мечты и страсти. Вы, допустим, воображаете себя человеком сильным и думаете, что вам ничто не угрожает. А между тем случайное освещение предметов в комнате, тон утреннего неба, запах, когда-то любимый вами и навеявший смутные воспоминания, строка забытого стихотворения, которое снова встретилось вам в книге, музыкальная фраза из пьесы, которую вы давно уже не играли, — вот от каких мелочей зависит течение нашей жизни, Дориан!»[28]
Сильвия закрыла глаза.
— Славно, — прошептала она.
Ночь, покровительница воров и влюбленных, окутала нас, набросив тонкую вуаль из белого тумана. Но в коридоре горел свет, и у меня было чувство, что вот-вот распахнется дверь, и войдет моя тетка. Это меня немного волновало. Мерзкий запах, словно от паленых рыбьих костей, поднимался из-за стены, окружавшей задний двор, на который выходил балкон.
— Завтра я возвращаюсь в школу, — сказала она, — и… и мы никогда нигде не были вдвоем. Какие у тебя холодные руки, Александр.
— Какая у тебя школа?
— Довольно милая, — ответила она. — Мы там играем в хоккей.
Вот он, феномен трансформации! Бельгийская девушка, проведя четыре года в ирландском католическом монастыре в Японии, превратилась в ирландку; у нее появился даже небольшой, восхитительный ирландский акцент. Вдобавок в Сильвии была теплая романская грация, подчеркивающая естественно приобретенный англицизм. В ней была британская свободность, но при этом она не забывала ни об ограничениях католического воспитания в Диксмюде, ни церемонных понятий ее родителей о том, какое поведение приличествует бельгийской девушке. В такой дисциплине было что-то «покоряющее», как в прелестной молодой кобылке, подчиняющейся упряжи, или в ненужности украшений на прекрасном женском теле.
— «Сыграйте мне, Дориан! Сыграйте какой-нибудь ноктюрн и во время игры расскажите тихонько, как вы сохранили молодость…»
Пока я читал вслух, Сильвия «приготовила» выражение изумления на лице, чтобы показать, как она чувствует то, о чем я читаю. Но потом ее начало раздражать то, что я совершенно поглощен чтением, и она прижалась ко мне всем телом. Ноздри ее расширились, вдыхая свежий воздух.
— «Трагедия старости не в том, что человек стареет, а в том, что он душой остается молодым…»
И хоть ни один из нас не имел никакого отношения к трагедии старости, на этом месте мы поцеловались. В тот же миг ветерок донес до нас запах горящих рыбьих костей.
— Разве не славно? — промурлыкала она.
Я согласился.
Кроме того, так оно и было.
— Любый-любый, кошкин глаз, — произнесла она.
— «Зачем вы перестали играть, Дориан? Садитесь и сыграйте мне еще раз этот ноктюрн. Взгляните, какая большая, желтая, как мед, луна плывет в сумеречном небе. Она ждет, чтобы вы зачаровали ее своей музыкой, и под звуки ее она подойдет ближе к земле…»
Мы поцеловались.
А потом поцеловались снова, на этот раз независимо от Дориана.
У нее были мягкие теплые губы, и я задерживал дыхание — ценой значительного неудобства для себя. Потом я отпустил ее, чтобы отдышаться, словно взошел на очень крутой склон.
— Продолжай, дорогой.
— Какие у тебя прелестные волосы!
— Надо их помыть, — ответила она.
Я расставил ноги, сунул руки в карманы брюк, поглядел на луну — и вдруг разразился (ввергнув Сильвию в небольшой шок):
Она потянулась к моим губам, как только я закончил, дождавшись, когда они освободятся. Я поцеловал ее со всею страстностью.
— Как тебя зовут полностью? — спросил я.
— Сильвия Нинон Тереза Анастасия Вандерфлинт.
— Нинон, — произнес я и затем медленно повторил, впивая вкус: — Сильвия Нинон. Сильвия Нинон. Сильвия, — произнес я и взял ее за руку: — «Ты не пугайся: остров полон звуков — и шелеста, и шепота, и пенья; они приятны, нет от них вреда.
— Кто это написал?
— Шекспир.
— Это… очень славно.
Я продемонстрировал знание всех цитат, которые мог припомнить, — надел свой лучший воскресный костюм, так сказать. И тотчас же, пылко взяв ее за руку, я прошептал: «Прелестный мечтатель, чье сердце так романтично! кто отдавался с такою распущенностью, отдавался краям и героям, которые не мои, но никогда — филистимлянам! оплот проигранных сражений и забытых верований, непопулярных имен и невозможных привязанностей!»
— Кто это написал?
Я хотел сказать, что это написал я, но потом сказал правду:
— Мэтью Арнольд. Это об Оксфорде.
— О! — Она была несколько разочарована. — А я решила, что это о женщине… которая… — Она покраснела, — …которая отдалась какому-то герою.
— Нет, дорогая, нет.
После этого я пересказал отрывок о Моне Лизе, которая, подобно вампиру, много раз умирала, и ей ведомы тайны могилы, она ныряла в глубокие моря, и ее окружает полумрак отошедшего дня; она торговалась с купцами Востока за редкостные ткани; Ледой она была матерью Елены Троянской; Святой Анной она была матерью Марии; все это для нее было как звуки лир и флейт, все это живет в утонченности ее меняющихся линий, в мягких тонах ее рук и глаз.[31]
— Дорогой, давай поговорим о чем-нибудь другом.
— Но я думал, что ты любишь… литературу?
— Дорогой, я слушала — ради тебя. Но ты так долго читаешь, ты никак не закончишь.
— Святые небеса! — воскликнул я. — Я декламировал все это ради тебя. Я думал, что ты любишь книги.
— Это для меня слишком серьезная литература.
— Серьезная! Так что же ты любишь?
— Ну, я люблю что-нибудь… посочнее.
— А именно?
— Что-то, где побольше убийств.
— Разумеется, должен сознаться, в моем случае все по-другому. Когда я перестану зарабатывать себе на жизнь мечом, я начну зарабатывать пером.
— Когда-нибудь ты станешь великим писателем, и я прочитаю твой роман в «Дэйли мэйл», — сказала она.
— В «Дэйли мэйл»? Господи, почему в «Дэйли мэйл»?
— Они публикуют многосерийные романы. Разве ты их не читаешь? Я всегда читаю.
— Ну да… публикуют… знаю, что публикуют.
— Я тоже пишу, — сказала она.
— Ты?
— Ну да! Письма в редакцию. — Она вышла и вернулась с газетой. — Вот это написала я.
В рубрике «Вопросы и ответы» я прочитал:
«Как вы считаете, дурно ли поступают парень с девушкой, если вдвоем устраивают пикник на острове?»
— Это написала я, — сказала она.
— Но зачем ты это сделала?
— Я пишу, потому что хочу знать. Кроме того, приятно увидеть свое письмо в газете.
— И что же они ответили?
— Вот что они ответили. — Она показала. — «Вовсе не обязательно».
Я прочел письма других читателей. «Каков нормальный рост парня в возрасте девятнадцати лет и одного месяца?» — спрашивал один. «Не слишком ли молод он для помолвки? — задавался вопросом другой. — Если вы ответите «да», это спасет его, потому что он мой друг. Я хочу убедить его подождать немного, но все-таки — что вы скажете?»
— Остальные глупые, — сказала она, сморщив носик.
Я улыбнулся. Она смерила меня долгим, ищущим взглядом, точно проверяя мои качества как мужчины и возлюбленного, в то время как я, зная о том, что она меня изучает, надел на себя такое выражение: «М-м». Над моими шестью футами плоти и костей парит нечто замечательно-серафическое. Совсем забыл — я говорил вам, что я красив? Гладкие черные волосы, зачесанные назад, и прочее. — Ты такой умный — но на вид ничего особенного, — сказала она.
Это, должен признаться, меня изумило. Во мне нет пустого тщеславия — но это меня изумило. Гладкие черные волосы, глаза, нос и все прочее. Ее слова меня изумили.
— Ничего страшного, дорогой. Я не люблю красивых мужчин, — добавила она.
Нет, такие вещи меня озадачивают. Что мне прикажете об этом думать?
— Я все равно тебя люблю, — сказала она.
— Как мне это понимать? — осведомился я.
— Не надо ничего понимать.
— Гм. Это… странно, — произнес я. И после паузы: — Это странно.
Наконец, я поднялся, поскольку мне ожидали на вечере, который давал в нашу честь императорский генеральный штаб.
11
Там я обнаружил Скотли, Филипа Брауна, дядю Эммануила и полковника Исибаяси, а также предостаточно представителей дипломатического корпуса, в коротких белых вечерних костюмах, расхаживавших без туфель по устланному матами полу, потому что мы оставили наши туфли в передней, и я заметил, что у Скотли в носке дырка на большом пальце. Не то чтобы это сильно его беспокоило, ибо он выпил много коктейлей и поддевал Филипа Брауна, громко гогоча и тяжело качая головой, словно задаваясь вопросом, куда катится мир.
Перси Скотли был по рождению кокни, и годы, проведенные им в юности в Канаде, не добавили лоска его грубоватым манерам. И он, и Браун были представителями простого класса (Браун до войны был сыщиком). Они не были личностями: они были типичными представителями своего класса. Они гордились тем, что идут по жизни с широко открытыми глазами, но видели только «взяточничество» или «обман» в любом виде человеческой деятельности; они говорили, что «не вчера родились», спрашивали, «неужто я кажусь вам таким простаком?» и всегда подозревали всех в том, что их «выставляют на смех». На свете есть странные способы «выставлять на смех» таких людей! Скотли чувствовал себя очень свободно и весело, задирал гейш, пил очень много тепловатого сакэ с офицерами, которые по очереди пробирались к нам выпить за наше здоровье, и поедал кусочки акульего и китового мяса, что выглядело довольно весело. Но необычная кухня внесла беспорядок в его измученное пищеварение, и когда крепкий, жизнерадостный старый англичанин явился к нему в гостиницу на следующее утро и спросил, как делают обычно мужчины на вечеринках:
— Ну-с, майор, что скажете о Японии? — тот ответил с некоторым чувством:
— Во всей Японии есть только одно приличное место — британское посольство. — И громко загоготал.
На коленях у дяди Эммануила сидела гейша, и он выглядел очень довольным.
— Не смотри! — предупредил он, когда я обернулся.
И весь вечер он приставал к японским офицерам, чтобы они взяли его с собой в хороший Ёсивара. Но те только смеялись, подзуживали и подзадоривали его обещаниями. Так или иначе, но уехал я без него.
Когда на следующее утро я явился, чтобы отвезти Сильвию на вокзал, дядя еще не возвращался.
12
Она высунулась из окна вагона, и я подошел попрощаться. Моя шляпа чуть было не слетела, когда мы поцеловались, и потому поцелуй вышел вскользь — мы едва коснулись губами. Она стояла в окне и смотрела на меня своими огромными, сияющими глазами. Большая черная бархатная шляпа придавала ее наружности нечто испанское, ее нос был слабо retroussé[32], почти так же, как у ее матушки, — но слишком сильно напудрен. И на щеках розовая пудра.
— У тебя естественный цвет лица, — сказал я ей, — но когда ты накладываешь пудру, она начинает смотреться искусственно, и это очень жаль.
Она засмеялась, продемонстрировав золотую коронку в глубине рта; и даже эта коронка выглядела до крайности симпатично.
— Обратно в «Святое сердце», — промурлыкала она, моргая.
Я смотрел на нее, задрав голову и чувствуя что-то похожее на мучения.
— Чем ты будешь заниматься там все эти долгие месяцы без меня?
— Ну, например, играть в хоккей, — ответила она.
Затем поезд тронулся.
Я взял рикшу и поехал к тете. Радость, подобная залитому солнцем морю, переполняла меня, душила, но на поверхность все время всплывала белокрылая птица и говорила: «Я рада. Я рада». Так кричащая чайка купается в жемчужном воздухе, ее белые крылья блестят на солнце, когда она делает сальто-мортале. И Господь словно бы говорил: «Я знал, что делал». Когда я полюбил ее впервые? Когда в последний раз? Этому, казалось, не было ни начала, ни конца. И, когда я ехал по желтой, усеянной пятнами солнца аллее, освещенная солнцем зелень по бокам кланялась мне, совершающему свою триумфальную поездку, чуть ли не побуждая меня снять шляпу, как будто я был принцем Уэльским, приветствующим клики толп, которые осаждали путь моего следования. Посвистывая, я вошел в дом. Теперь, когда комната Сильвии освободилась, я съехал из гостиницы и по тетиному приглашению занял комнату моей кузины. Я счастливо бродил по комнате, вдыхая аромат ее Cœur de Jeanette и осматривая ее bric-à-brac[33], когда в комнату с видом, не предвещавшим ничего хорошего, и с телеграммой в руке вошла Берта.
— Этого-то я все время и боялась, — произнесла она. — У меня было такое чувство… сама не знаю почему, даже когда она рассказывала об этих аллахах. И когда распечатывала телеграмму. Ваш дядя еще не вернулся. Что же нам теперь делать? — И она подала мне телеграмму.
Я прочел ее — и сел, и Берта тоже.
— Вы здесь — единственный родственник, — произнесла она. — Полагаю, это вам следует ей все сказать.
— Я подожду, когда вернется дядя Эммануил. Пусть лучше он скажет тете Терезе.
— Бедный Анатоль, — вздохнула она. — Погибнуть в самый канун Перемирия.
— Больше всего мне жаль его мать, — и я подумал: придерживаясь таких взглядов — взглядов, являющихся поводом для убийства, — какое право они имеют надеяться на то, что их собственные сыновья выживут? Я виделся с Анатолем всего единожды, когда он был в отпуске в Англии. Как его низкорослый отец, он писал сентиментальные стихи в духе Мюссе и громко читал их своей суженой, держа ее белую руку в своей, в то время как она поникала белокурой головой на его плечо. В вопросах любви он, как и отец, был неутомим. Мать говорила о нем как об ангеле, проникнутом одной лишь мыслью, одним чувством, — ею. Но в тот единственный раз, когда я его видел, он хвастал передо мной, что легко умеет ее «обойти». «О, маман! Мы ее серьезно не воспринимаем. Мы ей ничего не рассказываем и перемигиваемся, когда она что-то говорит». И вот так, подмигивая, он сошел с омнибуса на Лестер-сквер и ушел под руку с юной сиреной. Он был мертв.
Такова смерть: ты идешь себе беззаботно, и вдруг кто-то тебе по голове кочергой — бац! И это означает, что тебя больше нет. Почему люди умирают? Чтобы освободить место другим. Это все очень хорошо, пока это продолжается. Но для чего тогда другие люди? Если вы считаете, что понимаете смерть, я вас поздравляю.
Дядя Эммануил все еще был в хорошем Ёсивара. Поздно ночью он вернулся. Мы пожалели его и ничего ему не рассказали.
Весь следующий день до самой темноты я ездил на рикше по Токио, с телеграммой в кармане, сохраняя мрачную тайну и гадая, должен ли я пощадить их чувства и не говорить им ничего еще какое-то время, и если да, то сколько. Тучи сгустились, нависли, темные, свинцовые, предвещающие дурное; погода не могла заставить меня решиться. Я был рассержен на человечество, рассуждающее на темы убийства, чтобы наутро заливаться слезами, мне было противно и скверно оттого, что я берегу скорбь, которую не могу смягчить. Разумеется, из него сделают героя — сделают героя из этого мутного беспорядочного водоворота, который зовется жизнью. Но они не займутся поддержанием в нас божественной искры, этого слабого огонька, мерцающего в пустоте. Анатоль был тоже милитарист в душе. Он был проникнут духом отрешенной щедрости в отношении общего дела, поэтому он был ценен в этой битве за большее жизненное пространство и место под солнцем. Но дело, за которое он сражался с восхитительной храбростью и преданностью, столетия назад перестало быть святым делом, стало остовом, как и тот человек, который погиб за него. Оно умерло за много столетий до рождения человека, который только что пожертвовал жизнью за эту фальшь, — и сейчас он тоже превратился в остов.
И я подумал: то, что способствует войне, — тот глазок в человеческих головах, та булавочная головка, в которой сосредоточилась слабость мышления и которая есть точка опоры этого жуткого цикла непрекращающихся войн. Каким-то образом, когда никто не смотрел, в головы людей вкралась мысль, что война — явление неизбежное. В таком случае было бы лучше, если бы люди вообще не мыслили. Но немыслящие люди, кажется, интересуются скорее формой шляпы Уинстона, чем содержимым того, что под ней. Может быть, я и чудак, однако я как-то не могу заставить себя поверить в то, что смерть моего кузена во Фландрии — событие совершенно в порядке вещей. Холодное армейское письмо предлагает считать его именно таковым. Тетя отнесется к этой безвременной гибели, скорее всего, так, как будто она была трагической необходимостью. Чего она не заметит, так это того, что она была трагической необходимостью потому, что в мире есть мужчины и женщины, разделяющие ее дурацкие воззрения. Так к чему эти слезы? Зачем эти слезы, добрые слезы, падающие в золу, где не смогут взойти? Мне было горько оттого, что эти слезы упадут на каменистое место человеческой глупости и тем придадут ему смысл. Интересно было бы знать, за что умер Иисус.
Перед тем, как передать сообщение, я спросил себя, захочу ли добровольно взять на себя смерть ближнего своего, чтобы спасти его от мучений, — и пришел к выводу, что не захочу. Не очень-то по-рыцарски? Какая разница, ведь ко мне не обратятся. Теперь я чувствовал, что такое быть человечным: это когда взывают к человеческому сердцу, чтобы выстоять.
Я стоял у двери, не решаясь открыть ее и войти, потому что сказал себе — сейчас он для нее еще жив; сейчас она еще не знает, и потому не знает боли; но спустя мгновение она узнает — и познает боль вечную. Я ушел и гулял по саду и по террасам, и медлил до самого вечера. Наползли тени. И я думал: сейчас ты даже не счастлив, хотя мог бы. Их несвязные разговоры за обедом и полдником было больно слушать. В сумерках я вошел в дядин кабинет и оставил телеграмму у него на столе. Горела лампа, шторы были задернуты, дождь барабанил по подоконнику.
Он возник на пороге с телеграммой в руке.
— Этого не может быть! — проговорил он и вышел в коридор.
— Возможно ли, что они допустили ошибку? — спросила Берта.
Он обнадежено повернулся к ней.
— Вы считаете, что это ошибка?
— Я лишь спросила, возможна ли ошибка.
Он сильно покраснел, его глазки за стеклами пенсне загорелись необычным светом.
— Этого не может быть! — произнес он. — Не может быть!
Несколько раз он поднимался и вновь спускался вниз и, наконец, зашел в свой кабинет и хлопнул дверью.
Некоторое время спустя он вышел и постучал в дверь тети Терезы.
— Entrez![34] — послышался ее голос. И он вошел. Мы с Бертой стояли и вслушивались, и я подумал, что при его словах она, должно быть, ощутит то, что он и другие сочувствующие ей души не до конца осознают всей трагедии; что, выслушивая искренние соболезнования, она думает только о том, что больше никогда не увидит своего сына. И странно — моя тетя, эта женщина, упивающаяся жалостью к себе, сейчас справилась с собой и не зарыдала. В ней появилось нечто тихое и строгое — словно траурная музыка, словно темно-красное вино. Буря уже прокатилась, но дождь продолжался, тихий, ровный. И когда я вошел в спальню, я увидел их вдвоем, вместе. Он сидел на кровати, повторяя: «Мой сын! Мой сын!» Он опрокинул банку с водой, стоявшую на полу, но потребовалось какое-то время, чтобы он это осознал. Отчаяние, нашедшее на них с первым известием, уже немного рассеялось; они всхлипывали тихонько, робко.
— Я знала, я все время знала, — говорила она плача. — Тебе лучше оставить нас, Джордж. Спасибо, ты ничем не можешь помочь.
Слишком поздно, думал я, тебе уже ничего не восстановить, помочь нечем! Я тихо вышел, тихо прикрыл за собой дверь. Немного постоял на террасе, мои мысли беспорядочно вращались. Только теперь я заметил, что дождь усилился.
13
Двадцать третьего июля я, Скотли и мой денщик Пикап выехали из Токио и на пароходе «Пенза», принадлежащего русскому Добровольческому флоту, добрались через Цуругу до Владивостока; у капитана, воседавшего во главе нашего стола, был какой-то кроткий, отстраненный взгляд, словно он не знал, что ему делать дальше, в то время как судовые офицеры, открыто выражая отвращение к своему унылому занятию, с энтузиазмом обсуждали высокую политику, религию, литературу и метафизику, по сравнению с которыми плоскость обыкновенной навигации и тому подобное казались вещами совершенно ничтожными. Тем временем пароход двигался вперед, равномерно-гулко, — и даже достиг места своего назначения.
Владивосток, каким мы увидели его с борта, поражал недовольным видом своих обитателей. Портовые грузчики тупо сидели на причале, словно испытывая равное отвращение к гвардии белой, красной или зеленой; под моросящим дождем бродили люди, которым словно надоела их работа, они сами и все их существование.
Скажу сразу: наша «Организация» была нечто беспрецедентное — один из тех комических вставных номеров, которые устраивались после перемирия. Бедное старое сентиментальное военное мышление, поставленное перед задачей спасения цивилизации и вынужденное привлечь на свою сторону рассудок, обнаружило, что на деле у него нет запасов, из которых черпать этот рассудок, и нырнуло в море русской бессвязности. И озадачилось — день ото дня все больше озадачивалось, выйдя, наконец, из этого моря с поджатым хвостом, вымазанное с головы до пят. Оставалось только наблюдать за этим спектаклем. Спектакль разыгрывали несколько департаментов, чьи начальники развлекались тем, что без конца перекидывали друг другу желтые листки, причем задача состояла в том, чтобы искусно переложить решение вопроса на плечи другого департамента. Это было нечто вроде шахматной партии, в которой умение и остроумие играли огромную роль. Тот департамент, который не мог переслать желтый листок другому и в качестве последнего средства был вынужден принять решение, признавался проигравшим. Время от времени вызывались новые офицеры: специалисты по погрузке, секретные агенты и им подобные, и обычно проходило около полугода, прежде чем они прибывали из Англии, к каковому времени нужда в них отпадала. Не желая отправляться обратно домой, они рыскали по помещениям, зарясь на работу своих ближних, что обыкновенно заканчивалось учреждением нового департамента, начальником которого становился один из них. Жирный, дряблый майор бродил повсюду, плетя ужасные интриги, чтобы заполучить мою должность, а я (сам великий интриган), чтобы сохранить ее за собой, распространял слухи, что скоро оставлю свою должность по собственному желанию. Тем временем майор довольствовался тем, что подчинялся моим приказам. В целом я благожелательно отношусь к атмосфере легкого большевизма в общественных делах. Соответственно сам я занялся писанием романов и позволил, чтобы отделом управляли двое младших клерков. И прекрасно они им управляли, доложу я вам! Некоторые читатели тут, возможно, захотят осудить меня за мое легкомыслие. Поверьте, они (если можно так выразиться) порют чепуху. Относиться серьезно к правительству, возглавляемому Черчиллями и биркенхедами, означает не уметь быть серьезным. Во всяком случае, в нашем отделе мы культивировали определенный литературный дух, выполняя свои немудрящие военные обязанности, в то время как наши старшие офицеры (после того, как ввергли нас в самую смехотворную из войн) были заняты постройкой памятника безрассудной алчности — Версальского договора!
Прослужив под моим началом некоторое время, майор, беспокоясь, как бы его не отправили домой, основал новый департамент — почтовую контору, главой которой назначил себя. Я должен был работать под началом сэра Хьюго (чья слава шла на весь Владивосток), о котором вы, возможно, слыхали. Мой начальник обожал «штабную работу» и, помимо разных других папок, имел особую — папку под названием «Папка по вопросам религии», в которой хранил письма от митрополитов, архимандритов и прочих святых отцов, а также еще одну папку, в которой хранилась корреспонденция относительно каких-то граммофонных записей, сделанных в офицерском клубе одним канадским офицером. И большая часть его времени была занята пересылкой этих папок туда-сюда. И нередко граммофонная папка терялась, а иной раз терялась религиозная, и сэр Хьюго делался весьма расстроен. Или же он писал отчет, и этот отчет — такой уж сложной была наша организация — тоже терялся. Однажды он сочинил исчерпывающий отчет о ситуации на местах. Он очень тщательно его выправил, после длительных раздумий добавил запятых, подумав опять, стер некоторые добавленные запятые, отдал отчет машинистке и выправил его вторично уже в машинописи, вставив обширные подразделы на полях, которые он обвел большими кругами, соединив их между собой длинными остроконечными пересекающимися стрелками, так что в конце концов отчет стал походить на паучью сеть. После чего он прочел его снова с начала до конца, на этот раз обращая внимание только на пунктуацию. Он вставил семь запятых и точку, которою в первый раз пропустил. Сэр Хьюго был особенно привередлив по части точек, запятых и точек с запятой и нежно любил двоеточия, которые предпочитал точкам с запятой, считая, что двоеточия вносят особую ясность и остроту мысли, доказывают то, что вселенная является одной цепью причин и следствий. Чтобы избежать любых возможных ошибок при перепечатке рукописи, сэр Хьюго обвел точки кружками; запятые он ставил так, что едва не протыкал пером бумагу, а потом одним махом приделывал им саблеобразный хвост. Обе точки в двоеточиях обводились кружками, а точка с запятой была комбинацией обведенной кружком точки с саблехвостой запятой. Не могло быть никакой ошибки в отношении пунктуации сэра Хьюго. И поверите ли вы? После того, как он отправил отчет, написав на внутреннем конверте красными чернилами «Совершенно секретно и лично» и поместив внутренний конверт во внешний и запечатав оба, — отчет потерялся.
Разумеется, сэр Хьюго наводил справки. Он установил цепную ответственность, и казалось, что каждое звено делает свое дело: однако цепь не сработала. Но сэр Хьюго не сдавался. У него скопилась бесформенная куча корреспонденции касательно блудного отчета, собираемая в папку под названием «Потерявшийся отчет сэра Хьюго Кальпита», и получив очередной обрывок доказательства по этому делу, он набрасывал пару слов на желтом листке и переправлял его мне (кому вменил в обязанность держать папку) со словами: «Прошу прикрепить сие посредством кнопки к папке под названием «Потерявшийся отчет сэра Хьюго Кальпита»». Однажды, будучи в игривом настроении, я начертал на листке в стиле сэра Хьюго:
Прошу уведомить, посредством какой кнопки:
1. (а) Обычной кнопки; (б) английской кнопки;
(в) канцелярской кнопки; (г) заколки для волос:
(д) шплинта.
2. Кнопки какой марки и размера.
И отослал листок сэру Хьюго.
Я думал, что сэр Хьюго порадуется этому листку, ведь он настолько схож с его собственными процедурными методами. Но не тут-то было. Сэр Хьюго ненавидел людей, подобных ему, ведь они были карикатурой на него, призванной напомнить ему о том, о чем в моменты откровенности с самим собой он смутно догадывался, — что он довольно-таки нелеп.
Но когда я был вызван сэром Хьюго и отчитан за свое легкомыслие, я решил, что лучшим поведением будет сохранять честное, тупое лицо в доказательство своей невиновности; и сэр Хьюго, кажется, мне поверил.
И вот вчера — два месяца спустя! — блудный отчет вернулся в контору. К невыразимому ужасу сэра Хьюго его обнаружили в пустом мешке из-под овса на дальней пристани Эгершельд. и теперь сэр Хьюго ломал голову, каким образом он мог туда попасть. Он был решительно настроен проследить весь путь, проделанный отчетом до конторы, даже если это будет стоить ему здоровья.
Он созвал специальное совещание, куда были приглашены начальники всех департаментов, и рассказал нам об этих таинственных обстоятельствах.
— Мы должны начать, — сказал он, — с самого начала. Вообще-то есть гораздо худшее, с чего можно начать. У нас есть мешок. Это хорошо. Помимо этого мешка, нам неизвестно ничего. Итак, вот мешок. — Он раскрыл мешок. — Я предлагаю, господа, чтобы вы начали работу в обратном направлении. Первым делом следует установить производителей мешка.
Эта задача была возложена на меня.
Разве неудивительно, что я внезапно заболел?
14
Была зима — чистая, белая, хрустящая, непроницаемая. Все вокруг — бухта и холмы — было покрыто белой скатертью. Я лежал в постели больной и уносился мыслями в будущее, возвращался в прошлое. Длинные, спокойные мысли. В эти сумеречные предрассветные часы, лежа на спине, уносишься за пределы жизни, в ее приделы, поднимаешь из глубокого колодца подавленных эмоций ту призрачную субстанцию, которая лежит под нашим бытом, слой за слоем снимаешь «атмосферу», вуаль за вуалью — настроение, облако за облаком — туманное забвение, пока твоя душа не засияет сквозь это, как звезда на морозном небе. Что это такое — твоя душа, она — это ты? Мое «я», как мне открылось сейчас, всегда менялось, никогда не было одним и тем же, никогда мною, но всегда ожидало чего-то — чего? Возможно, мы меняем души, как змеи меняют кожу. Есть такие чувства, ожидающие меня, о которых я еще ничего не знаю. Когда я их узнаю, они добавятся к моей постоянно меняющейся душе — на пути к окончательной целостности Бога.
В глубокой тишине ночи мы в одиночестве пробираемся к двери. Мы медлим. Нажимаем ручку. Дверь заперта. Мы умираем: дверь открывается, и мы входим. Комната пуста, на другом конце мы видим дверь. Мы нажимаем ручку. Дверь заперта.
И так навечно…
Сэр Хьюго прислал Скотли записку, гласящую:
Прошу сообщить:
1. Предприняты ли вами, или еще не предприняты, меры по обеспечению того, чтобы вашего друга навестил врач?
2. Если да, то (а) какие меры? (б) в какой день? (в) в какое время? (г) какой врач?
Однако майор Скотли, только собравшись взяться за меня, свалился с приступом дизентерии, и вопрос был на неопределенное время отложен. И лишь мой сонный апатичный ординарец Пикап ухаживал за мной, окутанным облаками безвременных мыслей, зажатым последними тисками инфлюэнцы. Мы подобны айсбергам в океане: одна восьмая часть сознания, остальное — под толщей отчетливого восприятия. Мы как звезды, страстно глядящие на мир и не желающие заходить; как дети, возмущенные тем, что надо идти спать, когда гости еще не разошлись. Если я сейчас умру, есть ли смысл в том, что я вообще жил? Так когда-то я боялся умереть во Франции, вдалеке от моей настоящей «атмосферы», еще не владея своей душой. Я чувствовал, что, умри я тогда, я бы забрал с собой в вечность не совсем свою душу и оставил бы позади свою, томящуюся в Петрограде. Какая нелепость! Дом был пуст. Заходили рабочие, отделывавшие внутренность комнат. Приходили и уходили. На кухне китайский повар тянул свою заунывную песню, и временами я, кажется, слышал стук тяжелых артиллерийских башмаков. Запах краски вернул меня на пятнадцать лет назад, во времена детства, и окрасил воспоминания в розовый цвет, тогда как на деле все было совсем не так. Канун Пасхи. Приход весны. Я возвращаюсь домой из лавки, где купил — о восторг! — электрический фонарик. Меня окружает огромный мир. На Неве трогается лед. Приходит влажное, томное тепло. Звезды в вышине мерцают сквозь тьму. И это прошло. И вдруг я вспомнил Островной спуск в Петербурге, как я, еще мальчишка, высадившись из отцовского экипажа, стоял и смотрел на Финский залив, сверкавший в предзакатных лучах. Таинственный свет. Какая жизнь началась с ним, какая запутанная жизнь! Эти сгущавшиеся проблески, разворачивающиеся полосами красного, зеленого, розового, золотого, сиреневого цветов, не были галлюцинацией. Они были скорее похожи на аккорд, негромкий, печальный, напрасный. Именно тогда, еще того не зная, я стал ждать любви: «моя жена», женщина страннее и чудеснее всех доселе встреченных: мечты, с нею связанные, когда я тащился из школы домой, воображая себя художником, великим писателем, актером, известным тенором, исполняющим каватину из «Фауста», чемпионом мира по лаун-теннису, дирижером оркестра, композитором, и вдобавок банкиром и миллионером, живущим в мраморном дворце на берегу широкой Невы, владельцем паровой яхты, лошадей и жены, которая оставит меня — и затем умрет, и меня станут жалеть, меня, стоящего в цилиндре, с широкой черной повязкой на рукаве каракулевой шубы, над разверстой могилой прощенной мною жены. Эти воспоминания — они тоже ушли. Куда? Зачем? И вновь мне вспомнился Оксфорд, как я однажды вечером прогуливался по Квинс-лейн в направлении Нового колледжа, и великолепные башни близнецы колледжа Всех Душ вырисовывались, мудрые и тихие, в перламутровом воздухе. Они стояли здесь задолго до того, как я пришел в этот мир, и будут стоять здесь долго после того, как меня не станет. А между тем и этим была Фландрия, война, окопные лесенки, насыпи, белые деревянные кресты, которые мы сколачивали сами для себя перед грядущей атакой, божественной июньской ночью. Воспоминания, минувшие настроения, минувшие души. Они были и исчезли. Когда в детстве я мечтал о любви, тип женской красоты, который я лелеял, настолько отличался от внешности Сильвии, что я даже не мог тогда подумать о том, что полюблю такую, как она, бывшую совсем не «в моем вкусе». Полюбить такую тогда означало изменить своей душе. Я изменил своей душе. И от моей прежней души ничего не осталось: мы были просто знакомы. Какая разница? Мне наплевать на мою старую душу. Я нашел — не скажу, чтобы истинный — нет, новый смысл в любви. Купаясь в роскошествах выздоровления, я больше не думал о «моей жене», но думал о Сильвии как о своей жене, обитающей в мраморном доме с колонными террасами, а свинцовые воды Невы омывают сбегающие гранитные ступени. Ее письмо, которое я получил по пробуждении, было словно желанная, но преждевременная ласка, прорывающаяся сквозь отступающую сонливость. Она писала:
Мой Единственный Дорогой Принц! Со мной произошло печальное, очень печальное Несчастье. Мой милый брат Анатоль Ролан Жозеф был казнен во Фландрии 22 числа прошлого месяца. Он заснул на посту, куда он заступил вместо одного очень уставшего солдата, и был застигнут сержантом, который его ненавидел, и отдан под трибунал.
Она приложила его письма, написанные несмываемым карандашом в ночь перед казнью; капли слез, упавших на письма отцу, матери и сестре, каждому в отдельности, покрывали их бледно-голубыми кляксами. Судя по размеру клякс, он плакал навзрыд о вопиющей несправедливости того, что его выталкивают из этого мира так рано, что он больше никогда их не увидит. «Они могут убить мое тело, но не могут убить души моей, — писал он. — Я отправлюсь в рай и буду там с Богом». Они прислали домой его одежду, кое-где запятнанную кровью, с несколькими пулевыми отверстиями на груди.
Нечего и говорить, что я убита Горем. Я ждала письма от тебя, но нет ни одного. Ты сердишься на меня? Пожалуйста, пожалуйста, напиши мне, Милый Дорогой хороший Мальчик. Скоро Рождество. Я пришлю тебе попозже маленький подарок. Недавно упала и повредила Руку — сейчас уже лучше. Вот так я мучаюсь, пока Его Светлость отплясывает на военных кораблях. Просто очень хотела получить от тебя письмо, и, конечно, разоч. была Сильвия.
Навечно твоя
Грустя. Новое имя.
ОЧЕНЬ ГРУСТНАЯ Пожалуйста, телеграфируй.
Тетя Тереза писала, что ее несчастное здоровье, как всегда, в самом скверном состоянии, и что она удаляется в изгнание на Дальний Восток, где и хочет провести остаток своих дней. Теперь, когда Анатоль мертв, возвращаться в Бельгию не имеет смысла, и они все перебирались в Харбин, где графиня N, их старая приятельница из России, которая ехала обратно в Европу, разрешила им вселиться в свою квартиру практически бесплатно. Почтовый перевод от дяди Люси еще не пришел, и она забирала Сильвию из «Святого сердца», поскольку не могла больше оплачивать ее содержание.
15
Когда, окончательно выздоровев, я вернулся на службу, то обнаружил, что майор узурпировал мою должность. Я немного поработал под его началом, и мне это надоело. Клерки (как и постоянные чиновники, которых не затрагивает смена министра) работали как прежде.
— Честертон, — подал голос из-за своего стола сержант Смит. — А, этот Честертон, сэр.
— Что же он? Он говорит больше, чем знает.
— Но как он идет по Флит-стрит, останавливаясь на каждом шагу, погруженный в раздумья; потом неожиданно бросается переходить улицу и тут же останавливается прямо посередине, омнибусы, такси проносятся мимо, а он дотрагивается до лба: «Вот оно!» — и, обнаружив недостающее звено в рассуждениях, возвращается на тротуар. Великий человек.
— Педантичное ничтожество, — возразил сержант Джонс.
— А ну-ка! — произнес майор из-за моего стола. — Ну-ка там!
Посчитав невозможным согнать его с моего стула (который теперь был весь заполнен его формами), я принял предложение сэра Хьюго совместить приятное с полезным и отправился в экспедицию в Харбин, чтобы привезти партию бараньих тулупов, заказанных для русской армии. Поскольку Скотли возвращался в Харбин, чтобы проконсультировать тамошние железнодорожные службы по разным паровозным вопросам, мы договорились ехать вместе, захватив с собой Пикапа и ординарца Скотли, Ленэна (учащегося частной школы, отец которого, навещавший его в Юстоне, носил цилиндр и выглядел как лорд). Зима была в самом разгаре, стояли жестокие морозы. Две утомительных ночи, непроницаемый мрак.
Славное утро. Я стоял на открытой площадке вагона; поезд несся между лесом и полем, утонувшими в снегу. Резкий ветер хлестал мне в лицо, но небеса были голубые и безоблачные, и огромные снежные пространства сверкали на солнце.
Сильвия ждала меня на вокзале, высматривала и, увидев, вошла в здание — полагаю, из застенчивости. Потом мы встретились. Она подросла. Она была выше и красивее, чем тогда, в Японии; она выглядела здоровой и крепкой в своей короткой шубке, отделанной каракулем, и теплых ботах. А Харбин, в котором я был как-то летом, был полон драгоценных ассоциаций, но под зимней мантией приобрел нереальные, фантастические очертания. Сосны и ели были покрыты снегом; снег скрипел под ногами, когда мы шли к дому.
Когда мы вошли в большое каменное здание, дверь на лестничную площадку была распахнута, и в одной из квартир стоял ужасающий шум, словно кого-то, кого не должны были убивать, все же убили. Я в тревоге взглянул на Сильвию.
— Это Берта и мадам Вандерфант, — сказала она. — Разговаривают.
И действительно, пока мы всходили по ступеням, до нас постепенно доходило, что Берта и мадам Вандерфант благожелательно делятся прочувствованным впечатлением, что в квартире чрезвычайно холодно.
— Mais, Mathilde, c’est épouvantable ce qu’il y fait froid!
— Ah, mais je te crois bien, Berthe![35]
И так далее.
Квартира была немного темновата, но в других отношениях уютна и хорошо обставлена, — и в ней была ванная. Но когда я прибег к ее услугам, произошло небольшое извержение гейзера.
— Allons![36] — сказала Берта. — Мы должны вызвать рабочих починить ванну.
Несколько часов спустя рабочие прибыли, приступили к смирению гейзера, который выбрасывав небольшие сердитые струи, — и немедленно принялись ругаться. Пока ванну готовили для дальнейшего пользования, Берта велела двум бездомным портным, которым тетя Тереза позволила использовать ванную комнату для пошива одежды, освободить помещение. Они стояли в коридоре, пораженные и напуганные, словно гадая, «что происходит», держа свою работу в руках, пока я мылся, медленно, без спешки, бесконечно. И я слышал их голоса, прерываемые сердитыми струями гейзера, в то время как в соседней комнате дядя Эммануил поддерживал вежливую беседу с мадам Вандерфант:
— Месье выдерживает холод на редкость прекрасно.
— Мадам поистине любезна.
— Месье чересчур добр.
— Мадам мне льстит!
— Неужели месье не боится погоды?
— А! Ничуть.
— Enfin, месье обладает храбростью!
— Мадам мне льстит!
— Месье чересчур добр.
В сумерках уютной гостиной Сильвия раскладывала пасьянс и гадала, бормоча себе под нос и воркуя, как голубка, — еле слышно. Закончив гадание на себя, она разложила карты на меня — там было что-то о красавице, важном письме, долгой дороге и так далее.
— Дорогая, — сказал я, — ты написала мне за все время лишь однажды. Я писал трижды.
Она ответила не сразу, потому что раскладывала карты и ворковала сама с собой. Я думал, что она не услышала, но она тут же сказала:
— Я хотела знать.
— Что?
— Будешь ли ты продолжать.
— О!
— О! — передразнила она. — Да, хотела.
— Но у меня нет времени писать письма. Я люблю писать для печати.
— Напиши что-нибудь о моем дорогом прекрасном брате Анатоле.
— Но, дорогая, что же мне написать?
— Что-нибудь. Мне хочется, чтобы ты что-нибудь написал. Напиши о его маленьком блиндаже, как он пошел на фронт в восемнадцать лет и… как они его убили. — Ее глаза наполнились слезами.
Я подумал: мы забудем о ваших жертвах, проклятиях, клятвах, о том, через что вы прошли, — и мы будем жить, словно ничего этого не было. Мы забудем все, за что вы отдали свои жизни, — и посредством мирного договора еще опорочим вашу гибель.
Мы прибыли в четверг, а в субботу, на четвертый день после отплытия из Владивостока, майор Скотли произвел вонь. Дядя Эммануил сразу же зажег толстую сигару. Тетя Тереза приложила кружевной платочек к носу.
— Mais mon Dieu![37] Он хочет нашей смерти, — произнесла она. — Это удушающий газ!
— Ah, je crois bien, madame![38] — вскричала мадам Вандерфант страдающим тоном. А Берта произнесла:
— Oh la la!
Дядя Эммануил пожал плечами с раздраженно-удивленным видом, посредством чего романская раса обычно подразумевает, что «это уже слишком!», и произнес:
— Allons donc, allons donc![39]
— Ah, mais! У него хватает наглости! — отозвалась мадам Вандерфант.
На что дядя Эммануил смог ответить только: — А! А! — довершая слова жестами.
У него нежная кожа, сказал Скотли, когда я дипломатично заговорил с ним, которая не выносит прикосновения бритвы. Не могу сказать, что случилось. Едва я собрался надавить на него, чтобы он оставил свою дурно пахнущую практику, у него случился приступ дизентерии, и вопрос снова на неопределенное время отпал. Берте выпало нянчиться с ним. Скотли и в лучшие-то времена не отличался красотой. Его ноздри были строго перпендикулярны почве, по которой он ступал, — то есть были вертикальны вместо того, чтобы быть горизонтальными, так что когда он откидывался в кресле или, вот как сейчас, лежал на кровати, они были параллельны плоскости его тела. Они полностью находились в вашем обозрении, словно были выставлены для инспекции. Тем не менее, Берта им увлеклась и ухаживала за ним с особенной заботой.
16
Когда, двумя неделями спустя, Скотли уезжал в Омск, тетя Тереза поручила ему увидеться с дядей Люси, с которым они должны были встретиться в Красноярске на пути в Омск.
— Расскажите ему, расскажите, — наказывала она, — об этих ужасающих, кошмарных условиях, в которых я вынуждена жить в моем горьком изгнании, и о моем бедном, несчастном здоровье!
— Я поговорю с ним, не беспокойтесь. Я ему скажу все, что о нем думаю, — отвечал Скотли, погогатывая и тяжело кивая с таким видом, точно считал дядю Люси никчемным типом — глупым коммерсантом, не умеющим вести своих собственных глупых дел.
Тем временем положение с бараньими тулупами было неясно и невразумительно. Невразумительно и неопределенно. Неопределенно и в исключительной степени гипотетично. Дело в том, что я не мог обнаружить в округе ни единого следа бараньих тулупов. Кажется, ни одна душа слыхом не слыхивала о таком приказании. Но я любил Харбин и не спешил возвращаться во Владивосток, поэтому воздержался от обращения за инструкциями и медлил, насколько это было возможно. Ибо (я не делаю из этого секрета) мне было хорошо с Сильвией, хорошо дышать с ней одним воздухом, обедать вместе, вести одну жизнь. Тем временем, следа бараньих тулупов, как я уже сказал, не обнаруживалось.
После гибели Анатоля тетя Тереза с еще большей исступленностью закопалась в лекарственные пузырьки, старые фотографии, грелки, термометры книги, бювары, блокноты, подушки, косметику. Когда Скотли слег, она попросила меня, поскольку перевод от дяди Люси так и не пришел, поговорить с ним по «прямому проводу», для чего, однако, потребовалось залучить специальное разрешение главнокомандующего, генерала Пшемовича-Пшевицкого, в то время как телеграфист, передававший для меня сообщение, намекал на то, что обожает английские сигареты. А когда от Скотли и на этот раз не последовало доклада о его демарше в Красноярске, тетя Тереза совсем потеряла покой.
— Courage, mon amie![40] — сказал дядя Эммануил.
— Но, Эммануил, у нас не плачено уже пять месяцев. Я не могу все время занимать у мадам Вандерфант. Она уже начинает что-то подозревать.
— Ожидающий вознаграждается сторицей, — сказал он. — Терпение. Терпение.
— «Терпение, терпение и еще раз терпение», — произнес я, — сказал генерал Куропаткин, проиграв русско-японскую войну.
— Courage! Courage! — сказал дядя, зажигая сигару.
Все эти годы он процветал на дивидендах тети Терезы, был весел и приговаривал: «Courage, mon amie! Жизнь стоит того, чтобы жить!» Но как-то после обеда, когда мы вышли вместе — дядя Эммануил хотел купить рубашку и еще одну пару ботинок, — он выглядел грустным, необщительным и несчастным. Его крик: «Мой сын! Мой сын!» в тот роковой день у постели тети Терезы отозвался у меня в голове при виде его, такого подавленного и обессиленного. Я решил, что он думает о сыне, но тут он признался, что получил от дяди Люси ужасающее письмо, почти шантаж, — настолько грубым оно было. Он показал мне послание. Оно было невообразимо. Дядя Люси, известный своим бескорыстием, дядя Люси, обожавший играть grand seigneur[41] в отношении сестер и их семей, дядя Люси, безумно щедрый, внезапно обратился в скаредного и придирчивого, мелочного и бесчестного! Казалось, его этические воззрения перевернулись. До этого к нему, и только к нему, обращались за дивидендами. Это его послание было грубо настолько, как если бы он приказал: «Кошелек или жизнь!» Без обиняков он требовал от дяди Эммануила выслать ему незамедлительно 100 фунтов стерлингов, в случае неисполнения чего угрожал выслать 1 (один) шиллинг в счет урегулирования всех претензий к нему со стороны тети Терезы. Он подписался: «Ton frére qui t’aime, Lucy»[42].
В это невозможно было поверить. Я подумал: этот документ сорвет ее с насеста и заставит носиться с кудахтаньем, как курицу. Или с ней случится удар. И действительно, дядя сказал, что так и не смог показать это ужасное письмо жене из страха фатального crise de nerfs. Так что покупки дядя Эммануил делал с видом унылым и мрачным. Сначала он купил ботинки, надел их и в новой обуви стал подыскивать рубашку. Он был настолько утомителен и требователен в выборе рубашки, насколько быстр и легок в выборе ботинок, так что обслуживавшая нас барышня пришла в видимое раздражение и спросила нас, сколько рубашек нам нужно (намекая на количество, соразмерное причиненным нами хлопотам).
— Une seule[43], — сказал дядя.
Он пришел домой донельзя уставшим, в новых жестких ботинках и, на мой взгляд, чувствовал бы себя лучше, если бы, вместо того, чтобы покупать новые ботинки и отправляться в них на поиски рубашки, купил сначала рубашку, чтобы потом подыскивать себе ботинки. Как было сказано, он донельзя устал и больше ничем в тот день не занимался.
Но на следующее утро он набросал ответ, указав, что поступок, которым его шурин посчитал нужным угрожать ему, не только мало похож на «peu fraternelle», нет, он «criminelle»[44], — и потребовал прервать эту тягостную переписку. Дядя Эммануил попросил меня отнести это послание на почтамт и отправить его срочным порядком по «прямому проводу» в Красноярск, для какового повода я опять должен был добывать специальное разрешение русского главнокомандующего. Вооружившись письмом от генерала Пшемовича-Пшевицкого, я проследовал на почтамт, где телеграфист, прочтя письмо главнокомандующего, в моем присутствии отправил послание с высшей степенью срочности, известной под названием «Очистить линию связи». Дядя Люси был уже на том конце, на расстоянии шести тысяч верст, и телеграфист получил его ответ, в котором, отметая все замысловатые аргументы дяди Эммануила, стояло: «Pas criminelle, mais tout en ordre»[45].
И дядя Люси снова подписался: «Ton frère qui t’aime».
Сложив телеграмму, я сунул ее в карман, и телеграфист поинтересовался, нельзя ли достать для него ящик английских сигарет.
17
А затем однажды пришло письмо от дяди Люси, адресованное на этот раз тете Терезе. Большевики завладели Красноярском и конфисковали его фабрику и всю собственность. Ему были необходимы 100 фунтов. Всю жизнь он платил им больше, чем позволял его бизнес, и в результате вызвал серьезное недовольство родственников, которыми, как они заявляли, он пренебрегал ради троих его прекрасных сестер. «Почему бы тебе, — писал он, — не продать свои бесполезные драгоценности и выложить денежки?» Так или иначе, поскольку 100 фунтов он не получил, он прилагал к письму 1 (один) шиллинг, серебряную монетку, которая по текущему благоприятному курсу с лихвой покрывала тетину долю в рублях в концерне Дьяболох, каковой отныне считался ликвидированным.
Какой это был удар для тети Терезы! После смерти сына это был самый большой удар, испытанный ею в жизни. Она совсем слегла. Лежала без движения, молча, и Берта сновала вокруг, накладывая на ее похудевшие формы горячие и холодные компрессы с одеколоном и пирамидоном.
— Как она?
— А, у вашей тетушки всегда все в порядке! — саркастически отвечала Берта. — Она malade imaginaire![46]
Но даже за разговорами Берта постоянно забегала к тете Терезе и была с ней очень добра. Она не упускала случая злобно пошутить в адрес бедной тетушки, относительно чьего «несчастного здоровья» не питала никаких иллюзий, не собиралась ронять ни единой слезинки, и поглумиться у той за спиной; но, даже насмехаясь, она вдруг вновь проявляла к той участие с такой искренней теплотой, такой жалостью и привязанностью, насколько искренним был ее цинизм. Ей доставляло наслаждение разделять с кем-либо нетерпимость в тетин адрес; и, тем не менее, она все время была на побегушках у своей новой подруги, ухитрившейся сделать из нее прислугу. Я написал из Владивостока тете Терезе сентиментальное письмо, полное «ахов» и «охов», «бедняжек» и «увы», письмо, в котором сентименты, предназначенные для общеизвестно сентиментальной личности, были подогнаны друг к другу мастерком. Поэтому я был тем более изумлен, когда Берта сообщила мне, что у тети вызвало отвращение гнусная сентиментальность моего письма, и она стала смотреть на меня как на добросердечного и при этом сентиментального дурака. «Хороший мальчик, Джордж, но слишком витает в облаках, слишком сентиментален, даже приторен. Фантазер из фантазеров!» — говорила она.
— Как сказал кто-то, разница между фантазером и практиком вроде меня в том, что фантазер видит рассвет раньше.
— Почему? Потому что он всю ночь не спит?
— Это одна из причин.
— Но ваша тетушка, — сказала она. — Нет, с ней действительно все в порядке. Всегда. Все это напускное. Но она ревнует меня, даже если я говорю, что простудилась. Однако нечего тратить время, — засуетилась она. — Я должна сменить ей компрессы и приготовить tisane.
— Это удивительно! — воскликнула тетя, когда я вошел к ней. — Твой дядя Люси, по-видимому, вообразил, что наши деньги принадлежат ему, и он может делать с ними, что ему заблагорассудится! Он, очевидно, совсем лишился головы! Когда умер отец, у каждого из нас осталось по 100,000 рублей. Через два месяца твой дядя Люси, который продолжил дела в качестве управляющего, уведомил нас, что у каждого из нас — по 400,000 рублей, а меньше чем через год он написал, что у нас в распоряжении миллион рублей. Через пятнадцать же лет он сообщил нам, что у нас всего 30,000. Мы никогда не знали, сколько у нас денег! А теперь он пишет, что у нас ничего не осталось.
Полагаю, дядя Люси считал, что всего лишь представляет для них дело в новом, выдающемся свете, однако для его сестры он стал сейчас хуже преступника. Дядя Эммануил составил ответ по-французски и сейчас стоял над ней, пока она спешно и не всегда умело переводила его на английский. Долго оставаясь без употребления, ее английский стал звучать по-иностранному; в случае дяди Люси дела наверняка обстояли не лучше. Открыв свой переплетенный в красную кожу бювар и поместив на него блокнот, она начала, не удостоив его обращением:
Я своевременно получила твое аскарбительное (как она написала), бессовестное и несправедливое письмо от 17 числа с. м. Не могу себе представить, как ты, джентльмен, смог написать его в таком позорном стиле твоей бедной старой сестре, которую ты знаешь достаточно долго, чтобы убедиться в ее правдивости, честности и прямоте! Ты, кажется, забыл, что после смерти отца мы все унаследовали одну и ту же сумму, которую ты уговорил нас оставить в деле, которым ты взялся управлять! Я с готовностью признаю, что благодаря тебе оно процветало в первые годы, и ты платил нам очень хороший дивиденд, с которого ты получал больше выгоды, чем любой из нас, поскольку ты жил, можно сказать, во дворце, в роскоши, тратя огромные деньги, — ведь это было твое дело. Мы же жили просто и тратили деньги на образование детей, плюс то, что зарабатывал Эммануил, ибо и он не бездельник, как ты всегда считал!
Мои драгоценности — единственное наследство, которое останется дочери после моей смерти! Эммануил пытается продать наше серебро, поскольку мы по горло в долгах перед бельгийской семьей, которая живет с нами в одной квартире, но он должен еще думать о будущем, когда он не сможет работать и должен будет содержать больную жену, о тех удобствах и заботе, которые требуются для моего бедного несчастного здоровья. А ведь я в моем печальном изгнании даже не могу позволить ни услуг первоклассного специалиста, ни достаточно калорийной пищи! Мы живем вовсе не в роскоши, и я стараюсь изо всех сил свести концы с концами. На мне вся переписка с нашими родственниками и поздравления на Рождество, Пасху и с днем рождения, поскольку я не могу по состоянию моего бедного несчастного здоровья делать домашнюю работу, — а тебе удалось подкосить мое бедное здоровье, которое и так ухудшилось после смерти моего бедного сына!
Если майор Скотли сказал тебе, что мы живем в роскоши, это, разумеется, неправда. Мы старались достойно принять его во время его пребывания в Токио и здесь, лишая себя всего — идя на великую жертву, ибо мы не знали, что он покажет себя таким переметчиком и доносчиком — и с такими огромными неудобствами, ибо этот человек, как ты, верно, уже знаешь, не бреется, а вместо этого, о, он производит такой запах своим аппаратом для опаливания щетины, что нужно распахивать в доме все окна, в результате я подхватила простуду, а это ужасно опасно для моего несчастного здоровья!
Если бы у тебя не было бы ни жены, ни детей, которые бы тебя поддерживали, уверяю тебя, я бы пошла на все, чтобы тебе доставалась небольшая сумма денег, но в этом положении, не имея собственных денег, я не могу этого сделать.
Что ж, это последнее мое письмо тебе, — ты ранил и обидел меня слишком жестоко, слишком несправедливо! Я никогда не забуду твоего постыдного аскарбительного письма, которого я никогда не заслужила!
Дядя Эммануил посоветовал ей тут же подписаться. Но тетя Тереза чувствовала, что этого недостаточно.
«Да простит тебя Господь!» — добавила она и затем подписалась:
Тереза Вандерфлинт.
Свое письмо, написанное по-французски, дядя Эммануил начал так:
Моему шурину Люси Дьяболоху.
Я только что прочел ругательное письмо, которое Вы имели дерзость написать Вашей сестре Терезе, питающей к Вам одни нежные чувства. Учитывая Ваши собственные чувства, я считаю необходимым сказать, что Вы переступили границу пристойного поведения, и что Ваше письмо совершенно разбило здоровье моей бедной супруги, чье внушающее опасения состояние требует постоянных заботы и внимания, и для кого, обязан Вас предупредить, подобные эмоции могут оказаться роковыми. Из того, что мои доходы были ниже доходов моей супруги от тех денег, что остались ей в наследство от отца, еще не следует, что я жил на Ваши деньги, как Вы изволите подразумевать. Тем не менее, Ваше предложение погасить свою задолженность перед нами в размере 500,000 рублей суммой в один шиллинг выглядит в моих глазах настолько гнусно, что я отказываюсь от дальнейшего обсуждения с Вами этого вопроса. Повторяю, что никогда не имел счастья жить на Ваши деньги, как Вы себе это воображаете, а скорее моя семья получала выгоду от выигрышных (?) вложений в русскую промышленность во времена ее расцвета в размере 100,000 рублей, которая принадлежала моей супруге, Вашим же долгом было делать для нас все возможное. Факты показали, что, увы, чрезмерная уверенность, выказывавшаяся нами в отношении способностей и рассудительности нашего шурина, окончилась катастрофой, которая произошла бы, даже если не вмешались война с революцией. Посему не должно Вам забывать, что это мы — Ваши кредиторы, а не наоборот, как Вы ошибочно полагаете.
Сожалею, что мое первое письмо шурину, с которым мне ни разу не выпадало случая встретиться лично, призвано дать ему урок savoir vivre[47]. Прошу его прекратить всю злокачественную полемику в отношении своего зятя и пощадить чувства сестры, оскорбленные его последним посланием.
И он размашисто подписался:
Эммануил Вандерфлинт.
Оба письма были такими длинными и обстоятельными, что у дяди Люси, наверно, возникло ощущение, что в промежутках тетя Тереза и дядя Эммануил принимали пищу.
18
ГОЛУБКА
Тем временем, ситуация с бараньими тулупами оставалась неясной. Расплывчатой и запутанной. Сомнительной и неопределенной. Смутной и неразрешенной. Двусмысленной, туманной, невразумительной. Смущающей, ненадежной, затруднительной и противоречивой, загадочной и неопределимой, непостижимой и необъяснимой, непроницаемой, колеблющейся и явно неразрешимой. Невероятной! Непонятной! Мне был дан приказ установить их местонахождение и организовать их доставку железнодорожным транспортом — я не помнил точно, куда именно. Это-то я и пытался организовать. «Но где же тулупы?» — недоумевали железнодорожные власти. Увы, это было свыше моего представления. Ибо ни единого следа бараньих тулупов, как я уже сказал, не обнаруживалось.
Наконец, я телеграфировал:
«Местонахождение бараньих тулупов не установлено. Жду инструкций». И, утомленный этим усилием, чувствуя необходимость в здоровом отдыхе, я сказал Сильвии:
— Давай выйдем и поужинаем вместе.
— О! О! В самом деле? О! И точно! Понимаю! О! Как славно! — отреагировала она шаловливым, озорным тоном, отчего стала совершенно неотразимой.
Я добавил:
— Без дополнительных расходов с вашей стороны, как выражаются в деловом мире.
— Без дополнительных расходов с вашей стороны, как выражаются в деловом мире. — Я заметил, что она выучивала мои выражения и потом их повторяла. Очень хороший знак.
Я нежно смотрел на нее.
— Моя ирландская прелесть! Mein irisch Kind![48]
— О! О! Действительно, — сказала она.
Она вся кипела жизнью и была шаловлива, как дитя, но не знала, за что браться, и поэтому лишь носилась на цыпочках, — а я задавался вопросом, хватит ли у меня денег, и если да, то не могу ли я потратить их лучше, чем просто выбросить на ужин, — купить себе, например, пару кавалерийских сапог. И дух мой затуманился. Как и дед с материнской стороны, я не очень-то любил тратить деньги, и сейчас в ответ на мое сумасбродное решение развлечься и поужинать с Сильвией в дорогом ресторане мой дед воззвал ко мне из гроба. Его девизом было: «Торгуйся, торгуйся, торгуйся хорошенько, а закончишь торговаться — выпроси катушку ниток». Он никогда не уставал напоминать: «Когда нищета входит в дверь, любовь вылетает в окно». Или же он покупал канцелярских скрепок на грош и требовал гарантии. Он потратил все нервы и всю жизнь, стремясь полностью окупить каждый потраченный грош, и умер, так и не поняв, что не окупил потраченной жизни. Однако в минуты резвой сумасбродности мой дед взывал ко мне из гроба.
В большом магазине на Китайской — забыл его название — я купил Сильвии пузырек духов. В другом магазине она купила себе резинку, уселась и осмотрела покупки с гордым, компетентным видом, отослав продавщицу заниматься своим делом. И снова я обратил внимание на ее поразительно-обольстительный профиль. Пока резинку заворачивали, она взялась было за свою сумочку, немного неискренне, пока я мечтательно смотрел в сторону; но потом встряхнулся и упредил ее действия с восхитительной рыцарственностью. И, видимо, потому, что сумма была ничтожной, дедушка хотя бы в этот раз не перевернулся в гробу.
Когда мы вошли в ресторан «Модерн», перед нами встал огромный, дикого вида метрдотель — из тех людей, про которых ты сразу говоришь себе: «Этот человек — болван». И последующие события подтвердили наши наихудшие опасения. Метрдотель блуждал по нам диким, сомневающимся взглядом, словно не будучи уверенным в том, человеческие ли мы существа или некие животные. Он обнаружил величайшую неспособность в выполнении обманчиво-простой задачи найти для нас пустой столик, каковых — в противоположность столикам занятым — было множество. Вокруг нас выстроились официанты — совершенный интернационал, отдельная раса — чей вид выдавал, что мозги их поглощены подсчетом содержимого моего кошелька. И поскольку я обладал выраженной аллергией на лакеев вроде портье, официантов и подобных им, я разговаривал громко и безапелляционно, рассчитывая также придать себе уверенности, и вообще принял выражение этакого знатока-гастронома и человека мира вроде Арнольда Беннета[49]. Сильвия изучала меню, и огромный метрдотель склонился над ней. Я смотрел на него с темной ненавистью. Кроме всего прочего, Сильвия хотела цыпленка. Цыплят было две разновидности. Целый цыпленок стоил 500 рублей. Крылышко — 100. Обменный курс, на всякий случай, был в то время всего 200 рублей за 1 фунт стерлингов. Огромный метрдотель настойчиво рекомендовал взять целого цыпленка.
— Доставлен на аэроплане прямиком из Парижа, — говорил он.
Я похолодел.
Сильвия опасно колебалась.
— Мне, право, не хочется сразу всего цыпленка. Я буду крылышко, — наконец, произнесла она. Я облегченно вздохнул.
— Но крылышко больше цыпленка, мадам, — сказал этот черт. Мне страстно захотелось, чтобы он объяснил это курьезное математическое извращение, но скрытое чувство рыцарства остановило меня. Я испытывал желание огреть его дубиной. Но цивилизованность принуждала меня продолжать сносить муки молча. «Убирайся! — шептал я про себя. — Убирайся прочь!» Но сам продолжал сидеть, смирившись. Только левое веко немного задергалось.
— Ну, хорошо, — сказала она. — Тогда я возьму целого цыпленка.
Пятьсот рублей! Два фунта десять шиллингов за одного цыпленка! Дедушка поднял лохматые брови. И я уже нарисовал себе, как, без ограничений на заключение выгодного брака, я, в одних подтяжках, без пиджака, увещеваю свою жену урезать ее преступные расходы.
В меню было несколько видов мороженого по «доступной цене», но Сильвия выбрала дурацкое блюдо под названием Pêche Melba — и соответственно более дорогое.
— Какое вино, дорогая?
— Французское, — ответила она.
— Но какого сорта?
— Белое, дорогой.
Метрдотель наклонился над винной картой и указал на вина, стоимость которых была в два раза выше стоимости тех, на которые он не указывал.
— Так какого же сорта?
— Сладкое. Самое сладкое.
И, по мнению метрдотеля, самому сладкому вину соответствовала самая высокая цена.
Как же я ненавижу экстравагантные напитки! Как ненавижу экстравагантную еду! Если бы выбирать сейчас выпало мне, я бы выбрал яичницу с беконом и горячее молоко.
— Да, это сгодится, — сказала она.
Метрдотель, поклонившись, сунул свою салфетку под мышку и удалился с видом человека, чья работа выполнена. Оркестр заиграл веселый вальс, но в моей душе царила темнота.
— В чем дело, дорогой? — осведомилась она.
— Этот суп, — сказал я. — Он ужасно горячий. И почему я должен есть суп?
— Ты же ешь суп дома.
— Дома ем… есть он или его нет… в смысле, я ем его… не знаю… потому что он есть. Автоматически.
— Тогда ешь его здесь, как ты ешь его дома, — сказала она. — Автоматически.
— Но здесь… о, все равно!
Разложив салфетку на коленях, она быстро сплела пальцы и, немного наклонившись, закрыв глаза, спешно пробормотала молитву. Потом она принялась за суп, мечтательно поводя глазами.
В это время вернулся метрдотель:
— Сожалею, мадам, но целых цыплят не осталось. Только крылышки.
И в тот же миг музыка показалась мне страшно веселой.
— Встряхнись, — сказал я.
— В таком случае, — произнесла она, медленно оправляясь от удара, — я возьму что-нибудь другое.
Перед нами сидели две женщины лет двадцати.
— Взгляни-ка на тех бабулек, — громко предложила Сильвия.
— Сильвия!
Она улыбнулась прекрасной застенчивой улыбкой: рот остался закрыт, только губы приподнялись и немного обнажили зубы. Восхитительная улыбка.
Она поводила глазами и много говорила сама с собой, воркуя, как голубка. Я чувствовал, что она хочет, чтобы я сделал ей предложение, но стыдилась спросить.
— Майор Скотли, — сказала она, покраснев, — думал, что… что… что мы… что ты… мой, одним словом, мой жених. — И густо покраснела.
— Он хороший человек, Скотли, — произнес я. И она покраснела вновь. С собой у нее было письмо от человека, который когда-то сделал ей в Японии предложение.
— Прочти, — сказала она. Письмо, сразу начинавшееся весьма решительно, заканчивалось словами: «Если цена на каучук упадет хоть на грош, я разорюсь». — Он сейчас торгует каучуком, — пояснила она, — где-то в Канаде, место под названием Конго или что-то вроде того…
— Ты имеешь в виду Африку?
— Да-да.
— Кто он? Англичанин? Американец?
— Канадец.
— Где ты с ним познакомилась?
— В Токио, на танцах.
— И?
— Он хотел на мне жениться. — Она опустила ресницы. — Он меня любил.
— А ты?
Она ответила не сразу.
— Он был очень похож на тебя.
— Это не оправдание.
— Только хуже.
— Тем более.
— Я хотела, чтобы меня кто-нибудь любил. А ты был далеко.
— И ты ему позволила?
— Только один поцелуй… вечером.
— Я не хочу тебя слушать! Не хочу! — закричал я, закрывая лицо салфеткой.
— Дорогой, послушай…
— Нет!
— Ты не слушаешь, — засмеялась она. Ее смех был прелестен.
— Не слушаю.
Повисло молчание, которое нарушал я, поедая суп. Она не сводила с меня сияющих глаз.
— Скажи мне кое-что.
— Ты — Крессида, причем чосеровская, не шекспировская.
Как и Крессида, она не знала ни Чосера, ни Шекспира.
— Когда ты виделась с ним последний раз?
— Когда мы уезжали из Токио. Он подловил меня, когда маман отошла. Мы стояли на перроне. Он вошел внутрь и принес мне коктейль.
— Он тебе нравился?
— Да. Он пил и смотрел на меня. «Выходите за меня, Сильвия, — сказал он. — Я уеду, заработаю кучу денег на каучуке и потом вернусь за вами». «Не могу, — сказала я. — Я люблю другого».
— Кого? Кого? — спросил я в тревоге.
— Тебя. Или мне хотелось так думать.
— А что же он?
— Он сказал: «Негодяй!»
— О!
— Я рассказала, что ты поцеловал меня еще до помолвки. «Хам! — сказал он. — Я ему морду разобью!» Я сказала, что ты пишешь очень короткие письма. «Подлец!» — сказал он. — Он просто пользуется вами. Мерзавец!»
— Ну, хватит, — сказал я. — Я ему сам морду разобью. Кто он, значит?
— Он говорил: «Я его надвое раздеру. Хам! Подлец! Мерзавец!»
— Хорошо, довольно, довольно. А что ты сказала?
— Я сказала: «Я люблю другого». Я протянула ему руку, вот так: «Прощайте, Гарри, мы, быть может, никогда уже не увидимся». И у него в глазах были слезы, он отвернулся и быстро ушел.
— Ничего страшного. Ешь суп, дорогая.
Она не принималась за еду, просто смотрела перед собой.
— Ты же не думаешь о нем? — спросил я подозрительно.
— Нет.
— О ком же тогда?
— О тебе. — Только лишь?
— Да.
Она проглотила несколько ложек и тут задала вопрос:
— Ты случайно не видел в «Дэйли мэйл», каковы текущие цены на каучук?
— Послушай-ка, — произнес я с плохо сдерживаемым нетерпением, — ты о ценах на каучук не беспокойся. Ешь свой суп.
— О, когда ты был в отъезде, я наткнулась на идеальное меню в «Дэйли мэйл». Оно предназначалось для идеального ужина для только что помолвленной пары. Я еще подумала: «Если Александр вернется и возьмет меня поужинать, я закажу это меню».
— Что было в нем, дорогая?
Она с несчастным видом напрягла память.
— Не могу вспомнить, — призналась она.
— Хорошо, но хоть какие-то блюда?
Она вновь напрягла память и снова стала чрезвычайно несчастной.
— Не помню.
— Хорошо, но хотя бы какое-нибудь одно блюдо из всего букета, — уговаривал я. Подождал. — Ну же!
Ее лицо снова напряглось.
— Нет, не могу.
— Однако это замечательно, — произнес я, в изумлении откладывая ложку.
— Ешь суп, дорогой, а то он простынет, — сказала она.
Я ел, и она ела, и за едой мы смотрели друг на друга.
И все же в каком-то отношении все было очень славно. Dîner à deux[50]. Приглушенное освещение. Ее очаровательный профиль. Ее юное хрупкое тело. Ее красивое вечернее платье. Ее запах Cœur de Jeanette. А музыка играла так громко, что нам приходилось кричать, словно на море в шторм. И она смеялась. Смех ее был прелестен, словно звенящие серебряные колокольчики.
За супом (consommé double[51]) последовал омар под майонезом, телячьи филейные котлеты с гарниром из крошечных морковок и картофеля соте, omelettes en surprise[52] и Pêche Melba. Громадный метрдотель, по-видимому, не уловил нашего заказа: после того, как открыли бутылку, вино оказалось красным.
— Попробуй его, оно такое же хорошее, — посоветовал я.
— Нет, нет. Я должна выпить белого.
И вино пришлось заменить.
Она выпила бокал.
— Дорогая, еще вина?
— Нет, спасибо, дорогой, больше не хочется. Я должна поесть клубники, — добавила она.
Я огляделся. Мы были в зале одни.
— Нет, ты не должна. — Поцелуй. — Это на десерт.
Своим чередом, когда я съел мороженое, прибыла на серебряном подносе гора дорогущего Pêche Melba для Сильвии. Она поела немного — и оставила.
— Съешь еще немного, милая, — предложил я в отчаянии.
— Нет, спасибо, не хочется.
— Хочешь ликеру?
— Да.
— А до этого ты когда-нибудь пробовала ликер?
— Нет. Только коктейль.
— Какой ты будешь? Crème de menthe?[53]
— О нет! — Она сморщила носик — точно как ее мать. — Его все кокетки пьют.
Я изогнул брови и пристально взглянул ей прямо в глаза.
— Ты ведь не изучаешь Арнольда Беннета, нет? — спросил я.
Она слушала, мигая.
— А что, дорогой?
Я не пояснил, в чем дело.
— Я выпью шерри-бренди, дорогой.
— Хорошо.
— И амбровые сигареты.
— У меня есть сигареты. — Я раскрыл портсигар.
— Нет, милый, я хочу амбровые.
— Хорошо, — вздохнул я, — хорошо, хорошо.
И пока время шло, и сменялись блюда, мы все ближе и ближе пододвигались друг к другу, и я чувствовал своей ногой ее теплую, обтянутую серебристым чулком ногу, и стремительные образы возникали от этого электрического прикосновения.
Мы заказали кофе. Появился тот же огромный, дикого вида метрдотель и сказал, что кофе по нынешним временам дело непростое — кофе нужно приготовить. Он свалил все на интервенцию и блокаду. И так он продержал нас в ожидании кофе три четверти часа, а когда он, наконец, принес его, то немедленно разлил его мне на колени.
И, меняя скатерть и вытирая стол, в свое оправдание он с недовольством говорил о политической ситуации.
— Все переменилось, сударь. Все пошло вверх дном. Интервенция… блокада. Страна уже не та. Люди уже не те.
— Благодарю вас, — произнес я, промокая мокрые колени салфеткой. — Я вполне вам верю.
Я говорил без умолку, уплачивая по счету, — отчасти чтобы скрыть свои естественные подозрения в делах с официантами, отчасти чтобы скрыть свои опасения касательно стоимости. Все-таки все могло быть гораздо дороже.
— Дай взглянуть, — попросила Сильвия (Она всегда смотрела на ресторанный счет, когда мы ужинали вместе. Чем дороже счет, тем больше гордость, тем выше удовольствие).
Она увидела цифру — и осталась довольной.
Мы прошлись по Китайской, прежде чем подозвать извозчика. Сильвия остановилась у освещенной витрины ювелирного магазина. Я попытался оттащить ее.
— Подожди, дорогой, — сказала она.
— Какие красивые поддельные ожерелья! — заметил я бесстрастно.
— Я предпочитаю вон те маленькие и короткие: они выглядят убедительнее.
Она глазела на сверкающие предметы в витрине.
— Или ты лучше купишь мне отделанную бисером сумочку?
Дедушка перевернулся в гробу.
— Пойдем отсюда. Куплю когда-нибудь — когда буду богат. Или давай пришлю тебе ее попозже. Пойдем.
— Пойдем в кино, — предложила она.
Мы взяли извозчика и, прижавшись друг к другу, поехали искать кинотеатр. Северный ветер задувал в лицо мокрым, похожим на изморось снегом, на улице было тускло и тоскливо, но в сердце моем царила благодать.
Мы устроились в темном уютном зале и устремили глаза на экран. Харбин был пятнышком на лице земли, а я сам — пятнышком на лице Харбина, но в то мгновение любовь моя обняла и вместила в себя всю землю и все существа, живущие на ней: и я благословлял их всех. Оркестр был великоват для кинотеатра. Это был еврейский оркестр — музыканты, смуглые, как испанцы, двадцать один человек, — и я благословил их всех, каждого музыканта. Старая добрая Иудея! Благослови Господь евреев! Какие эмоции. Как всхлипывали скрипки. Мы сидели в зале. Сильвия прижалась ко мне, но ничего не говорила. Виолончели горько плакали, плакали о мертвых и плакали о живых. И я понял одну совершенно новую для меня вещь: я понял, что у них всех есть отдельная душа, и я увидел эти души, и благословил их. Мы тесно прижались друг к другу, тесно, и то, что все это — наша любовь — будучи неописуемо восхитительной, было к тому же нелепо, ничуть не умаляло ее. И я вспомнил мать, вспомнил ее молодой, синеглазой, — и благословил ее дорогую память и любовь к отцу, которая была также ароматна, как наша. И засмеялся радостно. Я думал о стариках, которые с наказом продолжать их дело сходят в могилу, чувствовал, что каждая душа просит лишь толику счастья, и очами души увидел улицу и благословил всех, кто на ней. И я думал о Сильвии, сидевшей рядышком, бесстрастно, сквозь пленку смеха, и слез, и моей чистой любви к ней, думал о тете и дяде, о Берте и мадам Вандерфант, о зиме, и лете, и осени, и весне, и о простой радости быть живым. Я хотел присматривать за ними, укреплять их радость, прилагая свою сокрушающую силу. Я хотел обуздывать свои мысли, напитывать мир идеями. Я хотел проповедовать великому множеству народа с перекрестков, с высокой горы, благословлять младенцев; я хотел, чтобы матери приносили их мне, ибо, если у другого человека была эта сила, у меня в тот миг была чистая сила благословения: законных, незаконных, я бы благословил их всяких, освятил браки тою святостью, что была во мне, но которая не была моей. Оркестр рыдал. Широкие лучи падали на экран и создавали нечто вроде парадного генерального сражения. Бах! Бах! Звучали выстрелы, мужчины и женщины катились кубарем, оравы схватывались, наступали, разряжали револьверы в тела своих собратьев: бах! бах! бах! Сбиваются в кучу — краснокожие, ковбои, тигры, леопарды, лошади, жирафы. Оркестр, всего-то двадцать один человек, играл нечто — уже не важно, что — мои уши восполняли недостаток, прибавив двадцать басовых инструментов, тридцать тромбонов: шестьдесят скрипок всхлипывали в моем сердце. Но к людям, умиравшим на экране, я не питал никакой симпатии — типичное обвинение, предъявляемое экрану! Если бы это был настоящий спектакль с настоящими актерами, я бы испытывал к ним ту же человеческую жалость, что и к другим живым существам, и благословил бы их. Я смотрел на Сильвию рядом, такую молчаливую, и сердце в моей груди неистовствовало. Мне хотелось вопить, орать во всю глотку, помогая оркестру, щелкать бичом, реветь со львами и леопардами, стрелять из пулеметов! Такова была моя любовь.
Когда все закончилось, я подозвал извозчика и, помогая Сильвии забраться внутрь, ступил в канаву. «Азия!» — выругался я. И по пути домой у меня было противное ощущение: мокрый носок в левой туфле, что означало, разумеется, что я подхвачу простуду. В году пятьдесят две недели, и в течение тридцати из них у меня был насморк. И, конечно, так оно и случилось.
Дома я нашел телеграмму: «Сожалею недоразумении, тулупы не заказывались. 50,000 меховых шапок. Организуйте транспортировку и возвращайтесь шапками. Срочно».
19
Бывает время, когда, напитав разум и душу идеями наших наиболее обещающих эволюционистов, я неожиданно переживаю рецидив духовности и начинаю думать, что, в конце концов, человеческие существа — это просто раса двуногих крыс, и что судьба человека не особенно много значит. Так я размышлял, вспоминая о 50,000 меховых шапок, предназначенных для 50,000 солдат, которые были направлены их командирами на восстановление в стране «закона и порядка» и соответственно на обеспечение непрерывности нашего славного человеческого рода. Эти глупости родились в голове сильных молчаливых мужчин, мужчин «без глупостей». Крысы, думал я, 50,000 крыс в меховых шапках, мешки плоти и болезней, тюки непоследовательных убеждений, алчные звери. Крысы вылезли из своих нор и начали охоту друг на друга. Все по собственной глупости. Крысы, думал я, крысы.
В гостиной я обнаружил русского офицера, которого до этого встречал, насколько мне подсказывала память, в местном цензурном департаменте. Офицер был и вправду похож на крысу, вставшую на задние лапки, — крысу в хаки. При моем приближении он щелкнул каблуками и представился — капитан Негодяев. Вот так ключ к личности! По-английски эта фамилия звучала бы Подлтон или Мерзавсон, — довольно зловеще. Между тем капитан Негодяев был человек кроткий и подобострастный, покорный и очень робкий, хотя о нем поговаривали, что он издевается над женой. У него был длинный продолговатый череп, покрытый редким желтоватым волосом, чахлые усики над ртом, обрамленным морщинами, и глаза, в которых было такое выражение, словно он стянул чьи-то запонки и теперь боялся разоблачения. Его подбородок был выбрит — в смысле, в те дни, когда этот подбородок брили; в другое время можно было предположить, что капитан вряд ли к этому стремился. У него была деревянная нога, которую он любил выдавать за почетное военное ранение. Однако все знали, что во Владивостоке он, поскользнувшись, упал с трамвая и сломал левую ногу, которую впоследствии пришлось отнять из-за начавшегося заражения крови. Его платок был всегда нещадно надушен, и когда он доставал его, чтобы высморкаться, в воздухе повисал всепроникающий аромат.
— У меня две дочки, — говорил он тете Терезе. — Маша и Наташа. Маша замужем и живет со своим супругом, Ипполитом Сергеевичем Благовещенским. А Наташе семь лет, и она с матерью в Новосибирске. Мне бы так хотелось, чтобы они приехали в Харбин. Но в городе огромные трудности с жильем. Я сам живу в железнодорожном вагоне. По счастью, он стоит недалеко от места моей работы — цензурного департамента, как вы изволите знать.
— Послушайте, — сказала тетя Тереза, — когда в мае наши друзья Вандерфанты вернутся обратно в Бельгию, почему бы вам не заселиться к нам? У нас предостаточно свободной площади.
Капитан Негодяев развернул носовой платок. Я автоматически развернул свой и прижал его к ноздрям — чтобы не задохнуться.
— Был бы несказанно рад, — произнес капитан, неловко поклонившись.
Но мои сроки подходили к концу. Однажды утром, спустившись вниз, я обнаружил, что передняя доверху забита меховыми шапками, и Берта ворчала и ругалась, потому что они мешали проходу.
— Ah, que vouiez-vous? — успокаивал ее дядя Эммануил. — C’est la guerre![54]
— Как мне прикажете отвозить их на вокзал? Будь они прокляты, эти шапки, — выразился я.
— Не извольте беспокоиться, — сказал капитан Негодяев, пришедший повидать тетю относительно грядущего вселения в нашу квартиру. — Здесь мой человек. Он отвезет шапки на вокзал. Владислав! — воззвал он, — Это Владислав. Он заберет их, отвезет и сделает все, что надо.
Я переговорил с Владиславом и с первого взгляда нашел его очень способным, смышленым малым, так и лучившимся уверенностью. Владислав некогда служил денщиком у одного русского полковника, который как-то взял его с собой в Париж, и с тех пор ничто русское не могло удивляло Владислава.
— Какая цивилизация! — говорил он мне. — Какое образование! Вежливость! Простой извозчик, и тот, извиняюсь, болтает по-французски! Месье, мадам, силь ву пле, компрене-ву и так далее. А Россия… — Он махнул рукой — презрительный жест. — Никакой цивилизации! Живем точно дикари — как где-нибудь в Австралии.
В гостинице, куда я зашел по делам, меня встретил портье — добродушный человек с ласковой улыбкой. Поскольку он был человек добродушный, с ласковой улыбкой, ему было хорошо в общении с людьми щедрыми, которые чувствовали симпатию к нему и к его доброй душе, и приходилось плохо с людьми недобросовестными, которые чувствовали желание воспользоваться его улыбчивым добродушием; поэтому в целом ему было не лучше, чем другим.
— Отдельное ли у вас купе? — спросил он (Харбин — ужасное место).
— Да. А что такое?
— Здесь есть одна дама, которая не может получить место в вагоне. Быть может… — Он сделал паузу.
— Хорошенькая?
— Страшно хорошенькая!
Я с подозрением его осмотрел.
— До этого путешествовала с одним господином, — поторопился он заверить. — Господин остался весьма доволен. Харбин — ужасное место. Природа человеческая слаба. Люди рождаются во грехе — и полагаю, я не исключение. Но я отвлекаюсь.
Поезд отходил в полночь. Я расхаживал по перрону и рассматривал доверху набитый зал ожидания для Третьего класса, где груды немытого люда — бородатые мужчины, девушки и женщины с грудными младенцами — спали навалом на голом полу, вперемешку с узлами. Потребность в свободных местах была настолько велика, что я приказал Пикапу встать на страже около моего купе с примкнутым штыком. Благоразумие моего поступка оправдалось позже, когда ко мне подошел странного вида доктор и обратился ко мне по-польски.
— Я не говорю по-польски, — сказал я.
— Не хотите ли послать за вашим польским переводчиком?
— У меня его нет. Кроме того, я заметил, что вы говорите по-русски.
— О да, — согласился польский доктор.
— Могу ли я спросить, почему в таком случае вы не хотите говорить со мной по-русски?
— Потому что я поляк, — ответил он, ударяя себя в грудь.
— Чем могу служить?
— Я польский доктор, — сказал польский доктор, — и я желаю, чтобы вы допустили меня в ваше купе.
— Боюсь, у нас нет места.
— Но вы обязаны иметь место для польского врача. Вы же союзники.
Упрямая неуступчивость этого человека раздражила меня. Особенно раздражило меня его желание влезть в мои личные дела и занять место, именно когда я ожидал… неважно, чего я ожидал. Одним словом, я пришел в раздражение.
— Милостивый государь, — ответил я ему негромко, но со скрытой усмешкой, зная о коротком и легком пути к победе, — дело здесь не в том, что вы доктор, или поляк, или польский доктор, а в том, что у нас нет места для мужчины, женщины или ребенка, какой бы профессией или национальностью они не обладали. Засим доброго вечера.
Кажется, мне удалось уладить как вопрос с польской национальностью, так и с медицинской профессией.
Устав от ходьбы по перрону, я забрался в купе, взял книгу и стал пробегать глазами страницы. Я серьезный молодой человек — интеллектуал. Я погрузился в мысли, когда Пикап внезапно вмешался.
— Кто? Что?.. Ах да!
И поезд тронулся.
20
— Имеется ли у вас внятное представление о текущей обстановке или такового не имеется? — вопросил сэр Хьюго.
— Так точно, имеется. Все обстоит довольно просто. — Я шаркнул ногой. — Видите ли, сэр, дело вот в чем. Сейчас Иркутск снова попал в руки белых, которых туда оттеснили красные. Красные, если вы помните, отбили Иркутск набегом у эсеров после того, как те выгнали из города колчаковцев и впоследствии разгромили Семенова. Думаю, теперь каппелевцы соединятся с семеновцами, но, будучи оттесняемы основными силами красных, продвинутся к востоку и, возможно, отобьют Владивосток у красных, одновременно с этим эвакуируясь из Иркутска, который они были принуждены занять и который в этом случае, думаю, будет снова занят красными. Понятно ли я излагаю, сэр?
Сэр Хьюго закрыл глаза и приложил пальцы к векам, словно пытаясь призвать на помощь все свое внимание.
— Гм, — произнес он. — По понятности ваше изложение вполне сравнимо с текущей обстановкой.
— Разумеется, сэр, я пока не упомянул поляков, латвийцев, латышей, литовцев, чехов, янки, японцев, румын, французов, итальянцев, сербов, словенцев, югославов, немецких, австрийских, венгерских и мадьярских военнопленных, китайцев, канадцев и нас, а также множество других национальностей, чье присутствие довольно-таки серьезно осложняет обстановку ввиду проводимых ими различных политических методов.
— Именно что различных, черт бы их побрал, — проворчал сэр Хьюго.
— Фактически это так.
— Я знаю, что это так.
— Конечно, — продолжил я, — положение чехов самое тяжелое из всех.
— Прошу прощения, — перебил меня сэр Хьюго. — Кажется, вы сказали: «латвийцев, латышей и литовцев»? Но, говоря: «латвийцев, латышей и литовцев», вы, собственно, имеете в виду… что, черт подери, вы имеете в виду?
— Это родственные племена… в некотором смысле, — отозвался я с легкостью, пытаясь таким образом отделаться от затруднительного вопроса, суть которого была не совсем ясна мне самому.
— Но, говоря: «родственные племена в некотором смысле», подразумеваете ли вы «родственные народы» — и в каком смысле?
— Точно так, — радостно подтвердил я, счастливо выпутавшись, и продолжил: — Положение чехов весьма затруднительно…
— Я все-таки был бы склонен спросить, — снова вмешался сэр Хьюго, — что вам известно о родстве между так называемыми национальностями, а именно латвийцами, латышами, литовцами и так далее, и между так называемыми странами, а именно Лифляндией, Латвией, Литвой, Эстонией, Ливонией, Эстляндией, Курляндией и тому подобными, а также о том, являются ли они на самом деле одним и тем же народом. Однако оставимте это. Возвращаясь к предмету нашего разговора — что там вы говорили о чехах?
— Положение чехов, — радостно продолжил я, — весьма затруднительно. Два года назад они сражались против большевиков и были зачислены в реакционеры и сторонники старого режима. Так продолжалось около года, пока чехи, будучи людьми демократического настроя, не выдержали и решили помочь эсерам в их борьбе со сторонниками старого режима, чтобы загладить свои грехи. Эсеры с помощью своих чешских братьев встали на ноги, но было уже слишком поздно, и они растворились в среде большевиков.
— И что же?
— Видите ли, сэр, чехам пришлось воевать с большевиками.
— Зачем? — с некоторым вызовом и шаловливым выражением в глазах спросил сэр Хьюго, чье румяное лицо овевал дым от японской сигареты.
— Затем, что с ними воевали большевики.
— Зачем? — спросил сэр Хьюго с прежней интонацией и выражением.
— Затем, что они были их врагами на протяжении двух лет.
— О! — произнес сэр Хьюго.
— И теперь большевики преследуют отступающих на восток чехов.
— Именно что преследуют, черт бы их побрал, — произнес сэр Хьюго.
— Но есть еще и кое-какие реакционеры, остатки колчаковской армии под командованием генерала Каппеля, которые отошли к востоку вдоль железной дороги и вступили в арьергардный бой с преследовавшими их большевиками. В том же положении были и чехи, так что они объединились с этой группировкой белых и вступили в столкновение с красными. Но было и другое ядро белых, группировавшееся вокруг атамана Семенова, отчужденное действиями против себя чехов и эсеров.
— Так, — произнес сэр Хьюго с закрытыми глазами, — все это мне ясно. Где же загвоздка?
— Загвоздка возникла, когда их друзья эсеры покраснели под цвет их противников-большевиков, а их товарищи по оружию каппелевцы — побелели под цвет их заклятых врагов семеновцев.
— Ну и что же?
— В общем, чехи перестали понимать, на каких позициях находятся, сэр.
— Именно что перестали, черт бы их побрал, — произнес сэр Хьюго.
Мы оба вздохнули.
— А шапки? — спросил он. — Получили ли вы шапки?
Правду сказать, я не думал о шапках с тех пор, как возложил этот вопрос на Владислава; однако я решил, что они все же доставлены.
— Так точно, — отрапортовал я немного неуверенно.
— Получили? — перепросил он.
— Так точно, — отрапортовал я увереннее. Ибо было бы совсем странно, если бы их не получили. С какой бы стати их не получить?
Вернувшись в контору, я обнаружил, что майор еще занимает мою должность; но, по счастью, через неделю после этого он сломал ногу, поскользнувшись на обледенелой дорожке, — и я вновь оказался у дел. Когда два месяца спустя он вышел из больницы, он изо всех сил попытался вернуть это место, но вскоре сдался, возвратившись на свою почту. Однако моим отделом, за это время пополнившимся десятком контуженных офицеров, которые были старше меня и возрастом, и званием, было не так-то легко управлять, и настолько коварный и мощный поднялся мятеж, что я, в конце концов, счел нужным организовать внутри отдела «буферное государство», подотдел, так сказать, состоявший из непокорных офицеров и возглавленный честолюбивым сержантом, кто, подчиняясь непосредственно мне, теперь в полной мере испытывал их недовольство — цена честолюбия. Время от времени ко мне из других отделов и департаментов приходили листки, на которых стояло: «Прошу уточнить местонахождение 50,000 меховых шапок, доставленных вами в феврале из Харбина». И должен признаться, что в соответствии с правилами игры я каждый раз их терял, потому что по природе этого дела никуда дальше передать их не мог. Ведь меры должен был предпринимать я. И драма заключалась в том, что мер-то я предпринять и не мог. Одни слезы! Ибо шапки не обнаруживались.
«В ожидании ответа», — постыдно отвечал я — и так до следующего листка. Два месяца уже прошло без ответа, но шапки не обнаруживались.
Еще я ждал письма от Сильвии — но письмо не приходило. Одни слезы! Лишь однажды, один раз, довольно давно, она прислала мне открытку — цветной английский пейзаж. «Художественная вещь. Александру понравится», — видимо, решила она. Снизу была печатная надпись:
«Мягкие зеленые луга, пестреющие невинными цветами», и затем приписка ее рукой:
Навеки твоя, Бебе (новое имя) P. S. Послала Платочек — это тебе в подарок. Этот «Платочек» дошел. Но с того времени — больше ничего. По какой причине? Какой могла быть причина? Я, кажется, готов был сесть на первый же поезд в Харбин, послать курьера, телеграфировать, наконец, написать; но я не мог заставить себя это сделать, ибо даже это простое усилие сходило на нет от мысли, что в любой момент в контору может зайти почтальон с долгожданным письмом в руке. И, испытывая облегчение, я мучился от другой мысли — что с тем же успехом ни следующая почта, ни та, что придет за ней, не принесет никакого письма.
— В чем дело, сержант?
Он положил листок на мой стол.
— Тьфу ты!
На листке стояло:
Прошу уточнить местонахождение 50,000 меховых шапок, доставленных вами три месяца назад из Харбина. Срочно.
На что я ответил:
Ответ все еще ожидается.
Я гадал, какому самому способному и энергичному человеку в Харбине можно было бы доверить задачу перевернуть небо и землю и найти 50,000 меховых шапок. И вдруг мне вспомнилась книжка в переплете из красной кожи с датами отправки и получения корреспонденции, и я решил, что самый способный и энергичный человек в Харбине — тетя Тереза. Написать тете Терезе было делом легким, поскольку мое письмо прочтет Сильвия, хотя послать письмо ей напрямую было более затруднительно. Наконец, не в силах больше выносить мучения от откладывания, я написал ей, заклиная Сильвию всем, что есть святого в мире, написать мне хотя бы разок. На это я получил телеграмму от нее. Ни слова, написала ли она или собирается написать:
Прости. Целую. Сильвия.
И все.
А потом, как-то утром от нее пришло письмо. Почерк был под стать ее натуре: эти тонкие, быстрые, наивные, безответственно-уверенные завитушки словно говорили — вот она я, Сильвия Нинон Тереза Анастасия Вандерфлинт, человек мира! Более того, было нечто бессознательно-игривое в ее росчерках, но преувеличенная длина и уверенность этих изящных росчерков была изумительна вне всяческих пределов.
Я любил ее письма. Меня особенно привлекало то, что она даже не делала вид, что ее неинтеллектуальность будет представлять хоть какой-то интерес для меня, интеллектуала. Она явно не затрудняла себя перечитывать письмо, и ее заглавные буквы не признавали никакого иного закона, кроме чистого импульса. Сильвия могла, когда возникала такая охота, поставить точку после каждого слова; или же она могла неожиданно нарисовать черточку с двумя точками под ней. Внезапно — без какой-либо очевидной причины — она могла поставить вопросительный знак, а чаще — сразу три. Эта свобода, это абсолютное пренебрежение пунктуацией и то, что я был человек, в некотором смысле специализирующийся на прозе, доставляло мне громадное наслаждение. В письме был другой конверт с пометкой: «Прочти внимательно!»
Дорогой Александр. Твое Письмо было Милым и веселым и восхитительно Длинным и хоть однажды ты был в «Настроении»? и еще ты здоров и счастлив. Рад ли ты вернуться? Это, должно быть, великолепно, цветы и т. д. и так далее уже Расцвели. Я очень хочу приехать и увидеть тебя. Но что я могу поделать если я убегу, отец погонится за мной. Мистер Браун только что вернулся оттуда и сказал: «Там абсолютно потрясающе. Гавань — просто Картинка». Он пришел к Папе насчет автографа Маршала, который он хочет продать на аукционе Американского Красного Креста. Я спросила насчет тебя. Сказала, что ты просил меня покататься вдвоем на лодке. «О, он тебя потопит», — сказал Он. Я была разоч. Когда ты не выслал мне маленькую бисерную сумочку. Если тебе по-настоящему хочется меня видеть, Любовь найдет способ. Твою неубедительную отговорку «Денег нет» я совершенно не принимаю. Целуй руку 6 Раз. Тут есть один Портье, и он пришел 10–15 дней назад повидать мистера Брауна, и я спросила насчет тебя, и он сказал. Не буду поминать имен, но он сказал, что от нас ты уехал с женщиной на поезде, и что он сожалел. Как, ну как ты посмел. Разве такое возможно, Джордж Гамлет Александр? Зная прекрасно, что меня на том поезде не будет. Если это Так, то не смей больше мне писать или даже хотеть увидеться. Я напишу твоему Генералу и спрошу, знал ли он о таком, хотя, подумав, ты, надеюсь, имеешь Честь рассказать мне все Откровенно. Приходило ли тебе когда-нибудь в голову, как Мало ты знаешь меня, теперь вот подумай. Очень Может Быть, что та Чудесная женщина, с которой ты ехал, теперь занимает мое Место. Ты запрещаешь мне писать, говорить или навещать всех моих приятелей-Мужчин. Я должна покорно сидеть Дома, пока ты так развлекаешься в Армии???? Какие прекрасные восклицания. Полюбуйся ими, пожалуйста. Маман вечно лежит, и мадам Вандерфант тоже больна, и мои Бедные Нервы, разбросаны [так она написала], и я так устала от больных Людей. Мистер Браун едет в Омск, и, кажется, я хочу убежать с ним. Видя, как я тебе интересна и как ты меня изучаешь, я лучше уеду. Я сказала тебе однажды ну точнее 79,000 раз о своих намерениях в отношении тебя. «Много раз тебе говорила». Я даже вижу, что никогда не Слушаешь ничего, что я говорю, как с гуся вода, и ты становишься все большим эгоистом. Слова или Письма, ничто не сможет передать, как я на тебя рассержена.
Очень Разоч. тобой.
Прощай.
В своем письме, говоря о трудности вытягивания из нее ответа, я назвал ее «невозможной». И сейчас она приписала: Искренне,
Сильвия Невозможная.
PPPSSSS.
И я не Котенок.
Во внешнем конверте было другое письмо:
Александр Дорогой Князь Ангелов. Ты видишь, как я на тебя сердита, и ты должен Приготовиться к Наказанию. Это просто крошечная записка поздравить тебя с днем рождения Завтра 27-го Ты Маленькое сокровище. Сколько тебе сейчас лет? 21 Да Нет Да. И еще я пишу, чтобы сказать, как я возмущена Чертовыми Идиотами Дураками Фотографами. Мои Фотографии еще не готовы как разоч. ты будешь, Александр. Я просто расплакалась от огорчения, а Берта прямо визжала от смеха, не потому что Фотографии не получились, а при виде моего пленительного «лица».
Спасибо большущее за славные Шоколадки только я была разоч., потому что не нашла внутри замечательного Длинного письма, ничего страшного, я и так была довольна. Я знаю, ты простишь меня, Милый, насчет Фотографий. Тебе будет жалко, что я больна, и еще мой бедный Братик во Фландрии. И я так и не написала твоему дорогому Славному другу майору Скотли. Какой ужасающий я Человек. У меня славная Спаленка и еще Гостиная, тоже моя, так что я могу приглашать тебя на Чай. Как замечательно Он разговаривает сам с собой, гу. гу. ууу. Ужасно по тебе тоскую. Хочу, чтобы ты крепко сжал меня, прижал к губам, но так далеко и все же так близко. Но ты же приедешь через три месяца, Дорогой, для всех этих поцелуев, и не ссориться. Ты Слушаешь. Мне так много нужно сказать. Погода замечательная, я не очень занята, и я не флиртую надеюсь ты тоже нет, маленький Принц. В последнее время Депрессия меня мучит. Не знаю, почему. Что-то меня точно угнетает. Что это, Александр. Я могу говорить только с тобой. Ах да! У меня Славный песик по кличке Дон. Ты обязан его увидеть. Ты слушаешь. От твоего последнего письма мое сердце так безумно забилось. Милый, я так хочу тебя видеть. Александр, от твоих писем я плачу. Я просто ненавижу быть в разлуке с тобой, ведь я всегда буду… твоей.
Я тебе снова напишу, потому сейчас это ужасно с моими нервами и маман глупой. Александр, будь, будь, будь здоров и Пожалуйста, Пожалуйста, не волнуйся, я люблю тебя нежно, и я Верна, но, ох, так Одинока, не видела тебя 3 мсц и Два дня, кажется, только и увидела, надел ли ты свои шпоры??? Ты мой Красавчик. Ты так и не написал о своих выходных, правда? Славно отдохнул Да. Нет. Спасибо. Мое письмо, Александр, оно не очень интересное, так жалко. Не могу рассказать тебе ничего о пасхальных каникулах, потому что я должна была сидеть дома и слушала граммофон. Такая тоска, и погода была мерзкая, ужасная просто. Лило как из ведра, из таза и т. д. и т. п. Мне так жаль, что ты заболел, как ты ухитрился, нехороший, нехороший мальчишка, а вот я сижу тут жду и тебя. Твои шпоры и твои голубые глаза. «Целуй ручку». Да, и твой Платочек, тебе он понравился скажи. Да. Нет. Да. Да. Да. Маленький Сказочный Принц. Я тебе еще напишу на этой неделе. Одна твоя фотография исчезла из моей Комнаты. Я безуспешно искала вора. Завтра иду покупать рамку для твоего Личика. Сейчас должна ложиться, и держись подальше от «Пруда», смешной мальчишка, и не запечатывай письма, ты ужасен. Спокойной ночи. Я еще сержусь чуть-чуть; меня все против тебя предостерегают. Океаны преданной любви и долгие поцелуи. Доброй ночи, маленький Бебе. Прими всю мою Любовь и множество солнечных поцелуев. Всего хорошего, котеныш [Я не сумел разобрать, написала ли она «котеныш» или «гаденыш», и немного расстроился].
Пока.
Вечно твоя
Панси (новое имя).
Засим следовало много крестиков, больших, малых и среднего размера.
21
Тетя Тереза написала, что провела перекрестный допрос капитана Негодяева (который собирался перебираться к ним, когда мадам Вандерфант и две ее дочери освободят комнаты, где-то в середине июня), и что капитан Негодяев в ее присутствии провел перекрестный допрос Владислава, который сказал им, что во Франции такая вещь была бы невозможна, и что Владислав допросил всех причастных железнодорожников касательно потерянных меховых шапок, и что все пришли к единому мнению, что шапки найти невозможно ни в Харбине, ни где-либо еще, и в таких обстоятельствах дядя Эммануил советует мужаться и терпеть. Дядя Люси еще не перевел деньги, а майор Скотли еще не доложил о результатах своего демарша. Думаю ли я, что им может помочь британская миссия, зная, что они бельгийцы, пострадавшие от войны, а англичане, само собой разумеется, помогали бельгийцам до этого, а сейчас и не думают? Так почему бы не помочь снова? Это идея дяди Эммануила. Сама же она, между прочим, имеет полное право на такую помощь, поскольку родилась, как мне известно, в Манчестере от английского отца, уроженца Лондона.
В тот день мне позвонил сэр Хьюго и спросил: — Так где же шапки?
Я объяснил ему, что нахожусь в ожидании ответа. Он сказал:
— В таком случае вам стоило бы отправиться обратно за шапками.
Ничего лучше я не смел просить.
На следующее же утро я отбыл в Харбин.
22
Стояла середина лета, и Харбин был зеленым, в полном наряде. Мое прибытие совпало с отбытием мадам Вандерфант и двух ее дочерей. Эта дама, в дорожном платье, с вуалью поверх крючковатого носа (он был меньше, чем у Берты, и загорелый, а не красный), пришла в розовую спальню тети Терезы попрощаться как раз тогда, когда я пришел с ней поздороваться.
— Adieu, madame.
— Adieu, ma pauvre Mathilde![55] — вздохнула тетя с подушек. — Благослови вас Господь.
Они обнялись.
— Мы уже не увидимся. Мое бедное несчастное здоровье…
Она всхлипнула в кружевной платочек, капризно, как ребенок.
— Бедная я, бедная. Деньги, которые вы нам одолжили, — произнесла она, неожиданно прекратив всхлипывать, — будут пересланы вам прямо в Диксмюде, как только Люси пришлет нам дивиденды.
Мадам Вандерфант застыла на мгновение, потеряв дар речи.
— Как странно — люди встречаются, а потом расстаются, начинают писать письма, это им надоедает, они забывают — и умирают.
Она взглянула на сестру.
— Ma pauvre Berthe! Когда-то мы увидимся снова?
— Adieu, Madeleine. Adieu, Marie.
— Adieu, madame! — и они сделали реверанс.
Дверь за ними закрылась.
— Я осталась одна в доме, — сказала тетя и позвала: — Эммануил!
— Да, дорогая? — появился он на пороге.
— Ты останешься со мной.
— Хорошо, мой ангел.
— Сильвия ушла на уроки фортепиано. Я должна была отпустить Берту, чтобы она проводила их.
— Значит, Берта задерживается? — спросил я.
— Да, она не могла оставить меня в моем бедном несчастном состоянии и, увы, без никого, кто бы мог ухаживать за мной в моем печальном изгнании! Она останется с нами, пока мы не договоримся, что из Бельгии приедет Констанция.
— Это страшно любезно с ее стороны, не правда ли? Остаться ради вас. тогда как ее семья едет в Европу? Не правда ли, Берта страшно добра к вам?
— Да, но она такая резкая и порой такая вспыльчивая! Такая вспыльчивая! Сегодня утром говорит, делая мне компресс: «Я просто вымоталась, всю ночь помогая им паковаться, — вымоталась». Прямо вот так и говорит: «Вымоталась!» Это так расстроило мои бедные нервы. Странно! Как будто обвиняет меня в том, что она всю ночь паковала чемоданы! Она очень резкая. Но я никогда ничего не говорю. Это не в моей натуре. Другие — Берта или мадам Вандерфант — вечно позволяют себе вымещать гнев на ком-то. Выпускают пары и чувствуют свободнее. А я все держу в себе, никогда не жалуюсь и страдаю молча!
— Полагаю, она действительно устала.
— Но ей следует помнить, что я бедный старый инвалид и не могу ничего поделать! Это так расстроило мои бедные нервы, что, увы, я не могла уснуть всю ночь!
— Но она, наконец, не платная сиделка.
Тетя поглядела на меня с таким выражением, точно говоря: «Тебе-то что об этом известно?»
— Ах, если бы здесь была Констанция! — вздохнула она.
Когда Берта с заплаканными глазами вернулась с вокзала, тетя Тереза позвала:
— Берта! Берта!
— Да?
— Не подашь ли мне пирамидону? Невозможная мигрень, просто голова разламывается!
— Одну минутку.
Берта была угрюма, немного замарана уличной грязью и видимо обессилена принесенной жертвой.
— О Господи! Пирамидон! Это же аспирин, который смертелен для моего сердца! Ах! Если бы за мной ухаживала Констанция!
— Я измучалась сегодня… измучалась, — пробормотала Берта. — Паковались всю ночь, глаз не сомкнула.
— Как нелюбезно!
Берта помрачнела еще больше.
— Ох, не так много воды, Берта! Я же говорила!
— Ох, прошу вас, Тереза, в самом деле…
— Ах… Констанция! — Унылый вздох.
В гостиной я наткнулся на Берту. Она стояла у окна. Она плакала.
Проходивший мимо дядя Эммануил заметил ее слезы.
— Сирота… я чувствую себя сиротой, — произнесла она.
— Ah, c’est la vie, — легко заметил дядюшка.
23
В середине июля в Харбине задержалась оперная труппа, гастролировавшая по Дальнему Востоку, и мы дважды ходили в театр — сначала на «Фауста», а потом на «Аиду». Мы слушали декламацию, объяснения, клятвы, мольбы музыкального диалога, и когда голоса любовников, сопровождаемые красочными жестами, достигли своего пика, то затронули англо-саксонское чувство юмора Филипа Брауна, и он подмигнул Сильвии.
Фауст и Маргарита спорили, спорили без конца, казалось, по недоразумению, с самонадеянным равнодушием, точно сознательно игнорируя друг друга, но соревнуясь за внимание публики. Тетя Тереза любила музыку Гуно. Та напоминала ей о Ницце и Биаррице, Петербурге и Париже, Люцерне и Карлсбаде, Женеве, Венеции, Канне и всех тех городах, где она слушала эту музыку прежде. Она знала ее и сейчас, откинувшись в ложе из красного плюша, бросала взгляды на Берту и кивала с печальным, интимным узнаванием, и Берта, хоть и не в силах догадаться обо всех этих городах, кивала в ответ с тем же выражением, словно вспоминая о деликатном, достопамятном опыте — ушедшем навсегда, безвозвратно. В этой музыке не было никакой тревожной страсти, никакой напряженности: тете Терезе нужно было только откинуться в кресле, и оркестр и певцы довершали дело: «Fai… tes-lui mes aveux, portex mes vœux!..»[57] Тетя Тереза любила сиживать в общественных парках, на Террасе в Монте-Карло или на Променад дез Англэ в Ницце, разглядывая проходящих людей в золоченый монокль и слушая именно такую музыку, попурри из Верди и Гуно — такую ненапряженную! От тебя так мало требовалось. Весьма мило со стороны композиторов — объявить, что музыка еще не все. Какие они, должно быть, были милые. Она бы позвала Гуно на чай, если бы он был жив: он бы наверняка не засиживался.
На следующий вечер давали «Аиду». Сильвия, сидевшая немного спереди, склонилась, как роза на стебле. Берта закрыла глаза, затерявшись в водовороте знакомых мелодий; и даже Филип Браун был серьезен. О, мне это понравилось! Я чувствовал, что рожден для любви — а в это время жрецы, призывая вождя раскаяться и передумать, пели:
— Радамес! Радаме-ес!
Едучи домой, я устроил им представление фрагментов из «Аиды» в собственном исполнении: «Радамес! Радам-е-ес!», и тут вклинился Браун:
— Перемес!
Перед сном, одетый в пижаму, я дирижировал зубной щеткой перед зеркалом, и тут позади в комнату вошла Сильвия. Я хотел быть композитором, оркестровым дирижером, хотел страстно, до боли. Кто я такой? Армейский офицер. А этого как будто было недостаточно.
— Я рожден не для армии, — сказал я. — Я рожден для нечто лучшего, хотя не знаю, для чего.
— Ты большой озорник, — произнесла она.
После чего замолчала, уставя глаза в пол.
Я вздохнул. Повисла пауза. Вздохнула и Сильвия.
— Интересно, чего ожидают девицы?
— А чего все ожидают? — ответила она, не поднимая глаз.
— Я знаю — того мгновения, когда ты внезапно вонзаешь свои корни в самую середину источника жизни, изведываешь вкус сока, бегущего вверх, к твоему небу, и чувствуешь, что ничего не упустил, и рад тому, что жив.
Я привлек ее к зеркалу и поцеловал — чтобы посмотреть, как мы выглядим в зеркале, целующимися вот так, — и тут распахнулась дверь, и тетя Тереза застала нас врасплох.
На мгновение она была ошарашена. Потом, подойдя к нам со странной, необычной улыбкой на лице, она сказала:
— Я так рада. Я всегда этого хотела. И твои родители тоже были бы рады, я это знаю.
Она поцеловала нас, словно ставя штамп на наши намерения.
— Однако… надень что-нибудь поверх пижамы, Джордж.
Я накинул халат, и мы сидели в моей комнате до самого утра, и Сильвия глядела себе под ноги. И тетя Тереза как будто напрочь позабыла о своем серьезном состоянии.
После того, как они ушли, я в пижаме сел на кровать и сидел, покачивая босыми ногами, — чуточку оглушенный. Я — серьезный молодой человек, интеллектуал. И я задавался вопросом, правильно ли для меня жениться. У меня закрадывалось чувство, что это неправильно. «Радамес!» — гремело в ушах. И другой голос, внутренний голос, подпевал: «Перемес! Ох, перемес!»
24
МАША И НАТАША
Был разгар истинно знойного лета, когда я получил телеграмму из Владивостока: 50,000 меховых шапок найдены на вокзале, в заброшенном сарае. Я как раз беседовал с капитаном Негодяевым, который водворился в нашей квартире и пришел ко мне на чердак, где я занимался литературными трудами, чтобы убедить меня в необходимости союзнической цензуры в Харбине, когда пришла телеграмма: «Шапки найдены заброшенном сарае Владивостокском вокзале. Возвращайтесь немедленно».
В свете настоятельных просьб капитана и с мыслью о своем участии я телеграфировал в ответ, сделав упор на том, как необходима сейчас, на мой взгляд, организация межсоюзнической военной цензуры в Харбине. После отправления телеграммы не оставалось ничего, кроме как ждать ответа.
Капитан сидел за столом напротив тети Терезы и пил чай, макая сухарь в стакан.
— У меня две дочери, — говорил он. — Маша и Наташа. Маша замужем и живет со своим супругом, Ипполитом Сергеевичем Благовещенским. Ах, бедная Маша, она столько вытерпела от своего супруга.
— Что же, он… жесток к ней? — спросила тетя Тереза.
— Вовсе нет. Но он пренебрегает ей… ради другой женщины.
Он запнулся внезапно, немного смущенный. Паузу заполнило тиканье часов. И Берта произнесла, чтобы прервать молчание:
— Cela arrive quelquefois[58].
— Ah, c’est la vie, — философически произнес дядя Эммануил.
— Я получил письмо от супруги, — сказал капитан Негодяев, — с описанием условий их жизни в Новороссийске. Я прочту его, если позволите.
— Читайте, — поощрила тетя Тереза.
— Это было написано весной, но я получил его только сейчас.
Он откашлялся и начал:
Прошло уже три месяца с тех пор, как я получила твое последнее письмо. Как долго тянется день без весточки от тебя. Быть может, я услышу что-нибудь о пакете. Я так ждала письма. Надеялась, что получу его ко дню рождения, но нет, ничего, ни слова. Ни одно письмо не приходит в это несчастное место. У нас нет радости в жизни. Для нас не существует будущего, завтрашнего дня; а сегодня мы живы и благодарим за это Бога. Устали — да, утомились, изнемогли, устали. Умереть — вот единственное право, оставшееся нам. Хочется сказать миллион вещей, да не выходит.
Миновал еще один год. Я почувствовала себя крепче этой весной. Теперь, когда прошли холода, будет легче, но впереди еще много работы. Мы продержались благодаря запасу овощей, но от него нынче мало что осталось. Умерло так много друзей. Они умерли, и теперь некому рассказать о том, как они мучались. Но весна такая же чудесная, как и прежде, словно ничего не происходило. Наташа писала тебе несколько раз. Напиши ей, если получишь это письмо. Ей это доставит такую радость, а ведь у нее его так мало, у бедной маленькой девочки. Ты вряд ли ее узнаешь, когда увидишь. Она очень рослая для своих лет, выглядит на все десять. Волосы у нее белокурые. Иногда она выглядит лучше сверстниц. Она очень хрупкая, и у нее очень нежная кожа, аж жилки проглядывают. Говорят, что она пошла в меня, хотя некоторые находят, что она напоминает Алексея. Ты, верно, найдешь меня постаревшей, если мы когда-нибудь увидимся; беда не красит. Загрубела. Вчера я зарезала курицу, отрубила ей голову. Старую, больную курицу. Я зажмурилась. Пока мы живем там же, но у нас все отбирают, и остатки мы вынуждены продавать, чтобы остаться в живых. Я оставила серебряную пивную кружку, помнишь, ту, что подарила мне моя крестная, тетя Женя, — я оставила ее для Наташи. Хотя кружка совсем пожелтела, я оставила ее, потому что больше мне нечего ей подарить. Мы все продали. Но они пришли и забрали ее. Что поделаешь, если у наших мышат такая несчастная старая мать? Меня нельзя винить.
Маша очень несчастлива, но старается держаться. Ипполит такой же, все приводит в дом эту ужасную женщину. Ничто его не останавливает. Говорит, это Любовь, Всепобеждающий Бог. На Пасху мы сварили старый мамин свадебный пирог, тридцатисемилетней давности, и съели его. Мы с Машей рубим речные баржи на топливо. Ипполит же пальцем не шевелит — день-деньской сидит в кафе и режется в карты. У нас есть печка, которую мы зовем «буржуйка». Сейчас пытаемся обменять мебель на козу. Если удастся, то Наташе, бедной нашей мышке, будет хоть немного молока; она такая хрупкая и, боюсь, у нее чахотка. Она мечтает о прежних днях и так сильно хочет тебя увидеть. Она любит тебя всем сердцем и считает, что Харбин — это земля обетованная. Господь спаси тебя и благослови. Твоя любящая жена Ксения.
Тетя Тереза и Берта вздохнули в унисон и дали волю соболезнованиям. Капитан нервно откашлялся и, высморкавшись в надушенный платок, прочел Наташино письмо. Пропуская все знаки препинания, она писала:
Милый папочка тебе наверно одиноко без мамы она часто болеет но мы за ней ухаживаем я очень хочу к тебе приехать мамочка написала тебе письмо на день рождения но потом его потеряла мы тебе потом напишем когда его найдем а у меня кролики два сереньких у них были детки но крысы их сожрали наверно нас скоро тоже сожрут. Наташа.
И пока он читал Наташино письмо, тетя Тереза, точно дьякон в церкви, прерывала его возгласами блаженного удивления, и Берта вторила ей, как вторая скрипка в той же приветственной мелодии. Стало сразу ясно, что тетя Тереза прониклась симпатией к девочке.
— Сколько лет Наташе? — спросила она.
— Семь, — ответил он.
— Но разве вам не хочется ее увидеть?
Конечно, ему хотелось. Но как? Как?
Тетя Тереза проявила самый горячий интерес к Наташе.
— Есть пути и способы, — произнесла она. И, помня, как ей удалось вытащить мужа из самой гущи величайшей из войн, я понял, что пути и способы действительно есть.
Капитан Негодяев был словно в опьянении.
— Как странно! Только вчера жизнь моя была такой серой, скучной, безнадежной, а сегодня — словно мечта воплотилась. Эти комнаты, после житья в железнодорожном вагоне. Эти комнаты! Вот и он — он указал на ординарца Владислава — уверен, тоже счастлив.
— Да, чего там говорить, — согласился Владислав, — хорошие комнаты. Но с французскими не сравнишь!
— Довольно, можешь идти, — жестко приказал Негодяев. — Совсем от счастья сдурел. Не обращайте на него внимания, — повернулся он к нам с умиротворяющей улыбкой. — Да, я сделаю все, что угодно, чтобы Наташа была здесь. Все, что угодно.
— А как же Маша? Она тоже хотела бы приехать? — Кажется, тете не сильно пришелся по душе Ипполит.
— Вряд ли. Маша взрослая и живет с мужем. Она любит мужа.
— Так или иначе, у нас достаточно места для Наташи и вашей жены. Джордж, — тихо повернулась она, — ты телефонируешь генералу Пшемовичу-Пшевицкому и назначишь с ним встречу на завтрашнее утро.
25
Генерал передал со своим адъютантом, что тете Терезе и мне назначено на 11 часов; и тетиному экипажу было приказано быть готовым к 10.30. Но в четверть одиннадцатого тетя Тереза, уже одевшись, вдруг обнаружила, что куда-то подевала свою сумочку, и пока она ее искала, неожиданно из Омска прибыл Скотли, лишь усугубив общий беспорядок.
— Письмо от вашего брата Люси! — триумфально вскричал он.
— Подождет, пока я не вернусь от генерала, — осадила она его. — Кроме того, мою сумочку куда-то задевали.
Поскольку до этого они с Бертой имели «крупный разговор», теперь в потере сумочки обвинялась Берта.
— Но я не теряла сумочки! — волновалась Берта.
— Все равно, ты меня огорчила, — настаивала тетя.
— Но это вы сами ее потеряли!
— Ах! Если бы здесь была Констанция!
— Надо всюду хорошенько поискать, — успокаивающе произнесла Берта.
Иногда англосаксонская рассудительность Скотли, нацеленная на то, чтобы указывать другим, что делать, была для тети чересчур. Вот и когда она потеряла сумочку, он решил успокоить ее таким образом:
— Ну, сударыня, тут не о чем волноваться; дом-то не горит, вам всего-то нужно найти эту чертову штуковину. Ну-ка, куда вы ее задевали?
— Ah, enfin! Если бы я знала куда, я бы ее не искала! — изумленно-страдальчески взвыла тетя.
Скотли только кивнул с тем грубовато-сардоническим выражением, с каким английский сержант говорит безнадежному новобранцу, потерявшему свой ранец или взявшемуся за ружье не с того конца: «Чего тут удивляться нашим победам!»
Наконец, сумочку нашли — она висела на спинке кресла, на самом виду. Виктория, запряженная двумя костлявыми одрами, с пользующимся дурной славой кучером Степаном, подъехала к парадному. Мы с тетей Терезой уселись и поехали к генеральскому бронепоезду.
Особый поезд генерала стоял на виадуке, на выгодных позициях, словно приставив пистолет к виску города. Почти напротив него стоял поезд китайского верховного комиссара, весьма приветливого господина, которому я уже имел возможность нанести визит и который по такому случаю угощал меня великолепным портвейном. Когда мы очутились в поезде, нас тотчас же окружила официальная, военная атмосфера. Нас принял штат экспертов — специалистов по государственным переворотам. Высокий дежурный офицер препроводил нас к адъютанту, генеральскому сыну, а тот провел нас в устланный коврами кабинет генерала. За рабочим столом сидел сам генерал, смуглый, жилистый, с жесткими черными усами и коротко стриженными седеющими волосами. С генералом был господин, в котором я сразу признал доктора Мергатройда, корреспондента английской газеты. Генерал поднялся с непременной церемонностью русских офицеров, щелкнув каблуками, представился: «Генерал-лейтенант Пшемович-Пшевицкий», и вежливо осведомился, чем может быть нам полезен. Он носил сапоги на очень высоких каблуках и непрестанно душил одеколоном руки и платки.
— Я явилась, — произнесла тетя Тереза, опускаясь в кресло у стола, — по поводу одного русского офицера, который в настоящее время проживает у нас, чьи жена и маленькая дочь — очаровательное дитя, — боюсь, умирают с голоду в Новороссийске.
— Разумеется. Разумеется, — произнес генерал Пшемович-Пшевицкий.
— Мне бы так хотелось, чтобы они прибыли сюда. Отец, капитан Негодяев, так отчаянно несчастен.
— Разумеется.
— Я знаю, что вы того же мнения. — Тетя Тереза немного сморщила нос — ей было это так к лицу!
— Разумеется, — произнес он, с интересом ее оглядывая. Он погладил жесткие усы, потом спрыснул одеколоном руки и боевую грудь, увешанную орденами. И случайный слух всплыл в моей памяти — что до революции он был жандармом, в войну получившим офицерский чин и под шумок произведшим себя в генералы. Он, похоже, всерьез заинтересовался тетей Терезой — больше, чем предметом ее визита, — и заспрашивал, как это так: она не русская — и все же, и все же?.. И она охотно пустилась в рассказы о своем славном прошлом и все ему выложила. Она англичанка, родившаяся в Манчестере в английской семье (хотя мать по крови испанка). Но выросла она в России, где провела свою юность и раннее замужество в среде милой старой русской аристократии, ныне так несчастливо отставленной от своих верных должностей. Ах, помнит ли она старые деньки!..
А Голицыны! А Трубецкие! А Юсуповы-Сумароковы-Эльстоны! А княгиня Тенишева! А Белосельские-Белозерские! А святейшая княгиня Суворова! О, она знавала их всех! А кавказский наместник, граф Илларион Воронцов-Дашков! Дашковы, Пашковы — она знавала их всех. Тетя Тереза обменивалась с генералом взглядами, в которых крылись задушевные грустные воспоминания. Генерал, который в то время служил в жандармах и, быть может, как раз стоял на карауле на той улице, где жили некоторые упомянутые аристократы, печально и немного робко улыбался; но этот контраст напомнил ему о нынешнем его положении, о неоспоримом верховенстве, о выгодной позиции, занятой его бронепоездом, во власти которого был целый город; и потому в его улыбке, кроме робости и неловкости, таилось еще и удовлетворение. И в ответ на ее вопрос, довелось ли ему знать Трубецких, он ответствовал (с невиннейшим видом, призванным скрыть такой прямой вопрос):
— О, да кто же их не знал!
— А Голицыных?
— Мерси! Кто ж о них не слышал! — И добавил, стараясь смягчить впечатление: — Их стоило знать! Любопытнейшие люди, вам не кажется?
Тетя Тереза в свое время была красавицей: не просто хорошенькой, недурной или симпатичной, но признанной и несомненной красавицей. Даже сейчас, видя, как генерал смотрит на нее, я знал с уверенностью, отметающей всякое сомнение, что он захвачен тем величественным и неуловимым качеством, перед которым преклонялись во времена ее молодости. Он, должно быть, ощущал трепетную цепь лет, связующую ее с бурной молодостью, ныне уже минувшей, ибо, глядя на нее, он стал взволнован и оживлен, как влюбленный: галантный, услужливый. Ее прекрасный нос, хоть и сильно напудренный, пережил разрушительные годы, остался тем же с его точеными ноздрями; и теми же остались благородной формы лоб и подбородок. Заметные усики и бородка не могли убить всего очарования!
Жизнь полна дешевой любви, неудавшихся романов, взглядов, скрестившихся в вагоне и скоропостижно умерших, потому что нужно было сходить, и вот поезда уносят нас в разные стороны; потому что мы встретились чуточку рано или чуточку поздно или, возможно, не в том месте. В грядущем веке радиосообщений мы, возможно, сможем устраивать свои амурные дела эффективнее. Мы будем посылать и принимать наши SOS с помощью пораженных любовью, жаждущих любви сердец и уже не будем томиться в одиночестве.
— Стало быть, вы согласны со мной, генерал, относительно жены и дочери капитана Негодяева?
— Разумеется, — ответил он. — Разумеется. — И нажал на кнопку электрического звонка.
Его сын-адъютант вырос на пороге, словно неким таинственным промыслом был частью этого электрического изобретения.
— Немедленно телефонируйте капитану Негодяеву в цензурный департамент. Прикажите ему явиться тотчас же.
— Слушаюсь, ваше превосходительство! — Адъютант бросился вон.
Между тем возникла, как выяснилось, серьезная ситуация, и пока мы ждали прихода Негодяева, генерал поделился с нами своими опасениями. Крестьяне вокруг Владивостока промышляли охотой и имели ружья; однако генерал, заподозрив в этом явные симпатии к большевикам, отрядил особую команду конфисковать оружие, после чего крестьяне захватили команду и взяли офицеров в полон. Генерал распорядился выслать подкрепление в виде отряда Сахалинской военной школы, чтобы обеспечить освобождение полоняников, однако прошлой ночью разразился шторм, и отряд чуть было не потонул при переправе. После чего провода были перерезаны, и генерал остался в неведении относительно дальнейшей судьбы отряда. Да, тяжелая задача, вздыхал он, эти попытки спасти родину от красного разгрома!
— Я всегда говорю, — произнесла тетя Тереза, — что единственная надежда России — могучая Белая Армия. Я чувствую, что, когда белые снова одержат верх, мир и братство вернутся в эту многострадальную страну. И если вы выиграете гражданскую войну, то я уверена, вы оправдаете свою победу с помощью мудрой политики, которую станете проводить. Ведь у вас есть политика? — спросила она.
— Да, — подтвердил генерал Пшемович-Пшевицкий, и неотступная решимость зажглась в его глазах. — Я украшу фонарные столбы телами бандитов. Вот моя политика — даю вам честное слово, можете на меня в этом полагаться. — Он протянул ей руку. — И, — добавил он с нежностью, — вы можете отказать мне в вашей дружбе, если я не сдержу своего обещания.
Тетя Тереза неохотно протянула ему руку. Это было не совсем то, что она имела в виду под «спасением России». Она, однако, не решилась оскорблять его порыв.
— Ситуация далеко зашла, — вздохнул он. — Все пущено на самотек. Былого уже не восстановишь! Я сожалею не о революции (поздно запирать стойло, когда лошади уже вырвались), а об отмене крепостного права в 1861 году, от чего пошел весь вред. Да… но что там с капитаном Негодяевым? — Он нажал кнопку.
На пороге вырос адъютант.
— Ну? Вы телефонировали капитану Негодяеву?
— Телефон, ваше превосходительство, вышел из строя.
— Починить телефон! — свирепо завопил генерал.
— Слушаюсь, ваше превосходительство. — Да, — произнес генерал, снова поворачиваясь к нам после того, как адъютант исчез с таким видом, точно выполнил свою работу. — Да. Большевики — подлецы и убийцы и захватили власть силой; по сути дела, они антидемократичны, поскольку упразднили, как вам известно, всероссийское Учредительное собрание.
Я отметил, что, как и с отменой крепостного права, он и тут забыл, что при обычных обстоятельствах был бы не помещиком, а крепостным, однако он так и не заметил противоречия, добавив:
— Больше шестидесяти процентов населения неграмотно. Россия еще не созрела для Учредительного собрания. Единственное спасение — царь.
Доктор Мергатройд как будто собрался возразить. Но тут тетя Тереза заметила, что у нее есть все причины полагать, что крестьяне приветствует возвращение царя.
— Они говорят: «Верните нашего царя», — произнесла тетя Тереза точно от лица крестьян, хотя не встречала ни одного после того, как двадцать лет назад покинула Россию, и потому не могла основываться на личном опыте.
Тут доктор Мергатройд сообщил, что не поддерживает императоров, хоть и не против империализма, когда он «демократический». И генерал с потрясающей логикой ответил, что, на его взгляд, большевикам (каковое имя он снабдил кучей красочных эпитетов) должны противостоять все истинные демократы, и что он, генерал Пшемович-Пшевицкий и ему подобные, будут противостоять им, потому что они именно то, что он описал с помощью кучи красочных эпитетов; и в своем противостоянии большевикам он и ему подобные встанут на одну платформу с демократами, чью демократичность они ненавидят почти так же, как автократию большевиков.
И вот этот неисправимый генерал, которому ни один урок революции не пошел впрок, собирался, как все люди его пошиба, применить в будущем к своей стране те же принципы, которые погубили ее в прошлом. Царское правительство отказывало народу в самоуправлении на том основании, что народ неграмотен; и оно отказывало ему в образовании на том основании, что у народа нет никакого самоуправления. Так что народу было отказано в обоих благах на том основании, что народ «доволен тем, что есть».
— Вы не понимаете России, — убеждал генерал. — Народ не способен управлять собою. Он до этого не дозрел. Представляете ли вы себе ужасающий гнет, невыразимый хаос и мучения страны, управляемой необразованными рабочими, неграмотными крестьянами? Результат вам известен. Это большевизм.
Вымолвив это ужасное слово, он остановился, чтобы увидеть его эффект на лицах слушателей. На всех было написано замешательство. Однако я отважился заметить:
— Если таков ужасный эффект невежественности и неграмотности, почему, осмелюсь спросить, правительство отказывало народу в необходимом образовании и просвещении?
Генерал поглядел на меня с безграничной жалостью.
— Дорогой мой капитан, — возопил он, — у нашего правительства было достаточно разумения, чтобы распознать опасность излишнего образования для людей, склонных к автократической форме правления. Оно осознало, что дать образование массам значит возбудить в них недовольство. Оно было право. Результаты это доказали.
Тетя Тереза выразительно кивнула, потому что именно такие вещи находили ее понимание.
— То, что вам нужно, — произнесла она с убежденностью, — это честный человек. Русские — апатичный народ. Им безразлично, кто ими управляет, покуда у них есть еда и одежда, и они… счастливы.
Насчет этого генерал — в чем он с улыбкой признался — не был особенно уверен, но и не хотел, чтобы мы оставили его с мыслью, что он махровый реакционер. Отнюдь. Мы должны идти в ногу со временем. Он — всецело за умеренность. Он находится (если определять его политику) в середине, между анархией слева и анархией справа, — центристская партия, какой объяснил, придерживаясь старых разумных идей национализма и чести. Да. Генерал считал, что народное образование все же может внедряться осторожно и умеренно, и когда-нибудь — кто знает? — появится Учредительное собрание и все, что под этим подразумевается.
— Однако сейчас, — произнес он живо (откладывая недобрый час, который если и придет, вернее, должен когда-нибудь прийти, но, Господи, пусть придет завтра), — сейчас, — он взял нож для разрезания бумаги, — об этом нечего и думать — это полная сдача большевикам! — И он с треском опустил нож на стол.
И вот тут, наконец, вступил доктор Мергатройд. Цена образования была взвешена и найдена легкой, полезность самоуправления сведена до подобающего уровня, ценность обоих уравновесила друг друга так, чтобы их фактически отмести, — и освободилась дорога для его любимой теории, изложить которую пришло самое время.
Этой любимой теорией был союз православной и англиканской церквей. Это была его навязчивая идея, суть и цель всей его жизни. В течение тридцати лет и даже больше он приставал с этой устаревшей идеей к архиепископам, епископам, патриархам, архимандритам, митрополитам и прочим святым отцам обеих стран. Личностью доктор Мергатройд был исключительно неопрятной, растрепанной и взъерошенной, а чтобы доказать свою несомненную связь с этой страной, он одевался в стиле русского мужика. Враги называли его «единственным англичанином, который никогда не мылся», и его выделяла настырность, редко встречающаяся даже у корреспондента. У него не было ни стыда, ни совести. Он являлся к королям и императорам, премьер-министрам и послам, главнокомандующим и разного рода религиозным энтузиастам — и проповедовал им союз православной и англиканской церквей. Реакция многих обнадеживала, другие были просто учтивы, но он считал эту теорию коронным фактором мировой политики, краеугольным камнем ситуации в России, ее коренным вопросом. Если и было что-то, что могло соединить две страны или предотвратить войну или способствовать торговле или уничтожить большевизм или спасти мир от всяческого зла, — это был, по его убежденному мнению, союз православной и англиканской церквей. В своей рассеянности ему как-то не приходило в голову, что грандиозная идея политического господства через посредство религии умерла навсегда вместе со светской властью папы, и что, как бы ни был обычный современный англичанин озабочен вопросами англиканской веры у себя в стране, православная вера волновала его не более, чем обычного русского — англиканская церковь, если он вообще слышал когда-нибудь об ее существовании. Но доктор Мергатройд был рассеян до такой степени, какая простительна только профессорам. Если вы говорили ему в любой час дня, что он уже пообедал, он хмурился и после длительных раздумий говорил: «Да, возможно, вы правы. Да, разумеется, вы правы. Я, должно быть, уже пообедал. Да, я уже пообедал. Да, да, да, да». Однако он никогда регулярно не питался, вернее, не питался вообще. Он просто не ощущал в еде необходимости. Он говорил: «Все, что мне нужно, это немного табаку».
Он принадлежал к тому классу людей, у которых никогда не водится денег; ибо, даже если бы они у него и завелись, он бы не знал, куда он их сунул. Точно так же все его зубы выпали по причине износа и плохого ухода. Но вот он так и продолжал жить без зубов, нисколько не чувствуя ни боли, ни неудобств от их отсутствия (ибо его пищеварение, как и все в его организме, совершенно рассыпалось), но ему никогда не приходило в голову, что по этому поводу необходимо что-то сделать. Его голова была постоянно занята другими вещами.
— Самое грозное оружие против большевизма, — произнес доктор Мергатройд, — это религия. Тут мы можем по-настоящему помочь. Спасение России — в союзе православной и англиканской церквей. Когда много лет тому назад я был в Москве и Киеве, я виделся с архимандритом Феодосием, митрополитами Феофаном и Гермогеном и отцом Никоном, и они просили меня передать самые теплые пожелания нашим архиепископам.
— Мда, — произнес генерал. — Мда… разумеется… союз церквей. Но почему этот капитан Негодяев так задерживается?
Он решительно надавил на кнопку.
На пороге вырос адъютант.
— Ну?
— Мы послали за механиком, ваше превосходительство.
— Как долго, — извинительно сказал генерал тете Терезе. — Да… разумеется… союз церквей. Но мы должны это распропагандировать.
— Ах да, пропаганда, — произнес доктор Мергатройд и, прежде чем мы смогли его остановить, он пустился в рассуждения о пропаганде. Это была другая его мания.
— Пропаганда — это все; она еще важнее, чем религия, однако наиболее эффективная пропаганда — та, что распространяется с помощью церкви — союза двух церквей. Мы должны организовать разветвленную организацию для противодействия коварной, лживой пропаганде большевиков. Мы должны затронуть религиозную струну. Это крайне важно. Необходимо обратиться к народу с призывом стоять до конца и не дать восторжествовать антихристовой силе большевиков. Мы будем отстаивать мысль, что церкви России и Англии должны объединить силы в защиту христианства: это приведет нас к союзу православной и англиканской церквей. Но на этом мы не остановимся. Эта организация — эта колоссальная организация — со штаб-квартирами во Владивостоке и Лондоне будет разделена на две группы: первая будет нацелена на просвещение русских относительно их британских союзников, вторая — на просвещение англичан относительно всего русского. Необходимо, чтобы во главе всей Ассоциации встал исключительно способный человек с прекрасным знанием языка и условий, чтобы координировать и напрямую управлять работой этой организации. Что ж, с вашего разрешения я готов выполнять эту работу. У меня множество друзей в обеих странах. Я привлеку епископов и архиепископов к совместной работе. Каждая группа будет находиться в непрерывной связи с другой, будет приобретать все необходимые данные на месте и передавать людям на другой стороне, чтобы работа не стояла. Мы купим все газеты, периодические издания, типографии в обеих странах и таким образом будем направлять общественное мнение путем выпуска газет, еженедельников, почасовых бюллетеней, брошюр, памфлетов, журналов, статей, книг всяческой направленности, отпечатанных большим тиражом, переведенных на все языки; какие-то будут легким чтением, какие-то — более серьезными работами, некоторые — с иллюстрациями, некоторые — с картами, диаграммами и графиками, — но все они будут направлены против большевизма. Мы мобилизуем лучших авторов, художников, ученых, священнослужителей и других, кто знает свой предмет, — солидных, сильных писателей, — и заставим их обвинить большевизм с точки зрения крестьянина, рабочего, кооператора, церкви, торговца, учителя, профессора. Надеюсь, что за короткое время возникнет новая литература. Потом мы организуем бесчисленные библиотеки с собраниями книг по каждому вопросу: по философии, науке, психологии, ботанике, садоводству, птицеводству, математике, фермерскому хозяйству, спорту, экономике — и все без исключения будут направлены против большевизма: «Большевизм как жестокая и негуманная наука», «Большевизм как преступная психология», «Большевизм как разрушительная экономическая система». Уродливое садоводство, безнадежная ботаника, нерациональное фермерство, аморальный спорт, неверная математика, невозможное птицеводство, — все как результат большевистской коммунистической системы. Нет таких пределов, которые мы не можем перейти! Кроме того, мы будем печатать особые книжки с картинками, чтобы уберечь грядущие поколения от коварного большевистского влияния. Мы разошлем по стране сотни фотографов, чтобы собрать свидетельства зверств большевиков. Мы привлечем известных художников к написанию картин изнасилований, убийств, грабежей и безобразий, учиненных коммунистами. С другой стороны, мы превознесем храбрость, верность, дисциплину и преданность сил закона и правопорядка и станем постоянно ободрять их и поддерживать их храбрость.
— Мда, — произнес генерал, поглаживая подбородок, — да. Но отчего это капитан Негодяев задерживается?
Он нажал на кнопку электрического звонка.
Его отпрыск-адъютант возник на пороге.
— Ну же? Телефонировали ли вы, наконец?
— Механик пьян, ваше превосходительство.
— Немедленно пошлите за другим механиком! — рявкнул генерал.
— Слушаюсь, ваше превосходительство! — Адъютант исчез.
— Мда, — произнес генерал, возвращаясь к разговору и поворачиваясь к доктору Мергатройду. — Передайте господину Черчиллю, передайте господину Ллойд-Джорджу, передайте президенту Вильсону, передайте всему миру, что генерал Пшемович-Пшевицкий тверд, тверд, как скала, и будет драться с жидобольшевиками до последнего человека, — закончил он и яростно надавил на кнопку.
На пороге вырос адъютант.
— Ну-с, что там телефон? — мрачно осведомился генерал.
— Другой механик в отлучке, ваше превосходительство.
— В таком случае, — произнес генерал, вытянув часы и глянув на тетю Терезу, — отрядите машину за капитаном Негодяевым, слышите! Машину немедленно!
— Так точно, ваше превосходительство!
Адъютанта вынесло из комнаты.
— Мда, — произнес генерал. — Мда… разумеется…
Где-то через десять минут на пороге появился капитан Негодяев.
— Ага! — торжественно и милостиво произнес генерал. — Как я понимаю, ваши жена и дочь в Новороссийске.
— Так точно, ваше превосходительство. У меня, ваше превосходительство, две дочери, — объяснял капитан Негодяев, бледнея, как лист, под взглядами: — Маша и Наташа, ваше превосходительство. — Так, так, так, — нетерпеливо произнес генерал.
— Маша, ваше превосходительство, замужем и живет со своим супругом, Ипполитом Сергеевичем Благовещенским, в Новороссийске, ваше превосходительство. А Наташе, ваше превосходительство, только семь лет, ваше превосходительство.
— Так, так, так, — нетерпеливо произнес генерал и, свирепо поворачиваясь к сыну-адъютанту, рявкнул: — Телеграмму в Новороссийск, доставить немедленно'.
Адъютант сорвался с места.
Генерал нажал на кнопку.
Адъютант выскочил, как чертик из табакерки, и стоял весь внимание, трясясь, как тушканчик.
— Срочно. Очистить линию. — взревел генерал.
— Слушаюсь, ваше превосходительство! — Адъютант пропал с глаз.
Генерал как будто медлил достаточно и теперь, встряхнувшись, решил показать, что он человек дела. Он взглянул на тетю Терезу, чтобы проверить, нравится ли ей это. Она выглядела слабой и беспомощной.
Когда тетя Тереза поднялась после уверений генерала, что по ее желанию будет перевернут каждый камень, она повернулась к доктору Мергатройду и поблагодарила его за весьма интересные, яркие рассуждения.
— Быть может, вы сделаете нам визит? — произнесла она через плечо.
В сопровождении генеральской свиты мы вышли из вагона и отбыли домой.
26
По прибытии нас ожидала телеграмма. Трясущимися руками я распечатал ее. В ней стояло: «Ваша схема одобрена. Назначены офицером связи и военным цензором. Указания следуют».
— А письмо? Где же письмо? — спрашивала тетя Тереза, едва увидев Скотли.
Но письмо было мне. Дядя Люси спрашивал, возможно ли осуществить их отъезд на жительство в Англию. Оставаться в Красноярске было невозможно, поскольку практически все у них отобрали, и он просил меня, если это по моим возможностям, организовать их скорейший отъезд из Шанхая в Англию.
Мне стало досадно. В раздражении я думал: другие сгинули в вихрях великой войны и революции. Но почему не мой дядюшка и его семья? Уж этот болезненный инстинкт самосохранения! Почему он не остался и не сгинул? Очевидно, он решил, что отъезд в Англию легко устроить. Но так ли это? Меня раздражал тот оптимизм, с которым некоторые люди считают, что из неприятностей можно вылезти. У меня закралось подозрение, что он, с его поверхностным пессимизмом, на самом деле обыкновенный оптимист самого утомительного толка. Когда я отправлялся на фронт, он прислал мне такую записку:
Советую тебе явиться в военное министерство, лично встретиться с лордом Китченером и сказать ему, что по телосложению ты не годен для суровой окопной жизни, однако желаешь «внести свою лепту» и сослужить службу королю и стране, и у тебя есть способности к языкам, поэтому ты мог бы работать на какой-нибудь сидячей должности в военном министерстве на благо всех.
Я подумал о тех неудобствах, которые возникнут, когда они вселятся в нашу и так переполненную квартиру, и высказался против этого.
За ужином тетя Тереза осведомилась у Скотли насчет дяди Люси.
— Ну да, я с ним виделся, — ответил тот.
— Вы виделись с моим братом Люси? — возбужденно переспросила она.
— Виделся.
— И что же? — Чудной он тип, ваш братец Люси, — ответил он. — точно вам говорю!
До этого майор Скотли имел чистосердечный разговор с тетей Молли, из которого действительно выходило, что дядя Люси был «чудной тип». Его отец — как сообщила тетя Молли — наказал ему на смертном одре заботиться об остальных родственниках. Эта сцена у смертного одра произвела такое впечатление на дядю Люси, что с тех пор он забыл о родственниках. Все заработанные деньги он пересылает сестрам, а когда у него родились дети, и тетя Молли захотела пристроить к ним нянь, дядя Люси заявил, что он не верит в нянь. Когда же дети подросли, и ей понадобились деньги для их образования, дядя Люси отказал в необходимых средствах, заявив, что, как и Толстой, не верит в образование. Когда пришло время решать, каково будет их призвание и профессия, дядя Люси заявил, что не верит в призвания и профессии. Это продолжалось до того дня, когда, произведя на свет восьмого или девятого отпрыска, тетя Молли встала на дыбы и самолично взялась за управление поместьем. Между тем семья разрасталась: и когда они строем возвращались от фотографа и шли через городской сад, дядя Люси был похож на гида, ведущего толпу досужих туристов, и всем, за исключением совсем маленьких, было неловко. Дядя Люси никогда не проявлял к ним особого интереса и, отводя дочку в школу, вечно задавал ей один и тот же вопрос — в каком она классе.
— А как же наши деньги? — вмешалась тетя Тереза.
— Ах да. Он сказал, что, как и Толстой, не верит в деньги.
— Как мило!
— Я пытался разговорить его. Но он сказал, что в его доме это запрещенная тема.
На следующее утро, на четвертые сутки после того, как он последний раз выполнял эту операцию, майор Скотли произвел вонь. Дядя Эммануил немедленно зажег сигару, но промолчал. В гостиной Владислав качал головой:
— Хоть святых выноси. Во Франции, — добавил он, — такого в приличном доме не допустят.
Берта уже не возражала против привычек Скотли.
— У него деликатная кожа — il a la peau sensible, — говорила она, — которая не выносит прикосновения бритвы.
Она созналась мне, что ей даже нравятся его ноздри: было что-то откровенное, даже трогательное — n’est pas? — в их вертикальном положении, что-то, странным образом напоминающее ей собаку, которая по команде «Служить!» расстилается перед тобой в непривычной позе.
Тем не менее, я решил, что пришло время поговорить со Скотли.
— У меня есть полное право бриться так, как я пожелаю, — возразил он.
— Права человека ограничены, — заметил я. — Например, у него нет права распространять вокруг вонь, если только он не в пустыне, наедине с Богом.
Но ничто не могло поколебать веру Скотли в добротность его устройства, и в тот же день за чаем он повернулся к капитану Негодяеву и предложил воспользоваться его «препаратом».
— Удалите с лица этот желтый мох, — посоветовал он.
— Благодарю вас, я бреюсь редко, — сказал капитан Негодяев. — Я просто пудрю подбородок, этого вполне достаточно.
Тогда Скотли предложил тете Терезе попробовать его «препарат» на себе с тем, чтобы убрать, как он выразился, «эти ваши усы». Но тетя Тереза пожелала, чтобы первой это сделала Берта. Если ту это чрезмерно не обезобразит, тогда у тети Терезы будут все основания применить этот метод на собственной губе и подбородке.
Ближе к вечеру капитан Негодяев становился похожим на перепуганную крысу. Прослужив под разными правительствами, он боялся преследований и поздно ночью приходил ко мне в спальню, чтобы вести загадочные разговоры об ответных мерах красных против белых офицеров и об ответных мерах белых против тех офицеров, которым, подобно ему, приходилось служить в либеральном правительстве. Он просиживал у меня до рассвета и говорил без умолку, пока бледная заря не начинала передразнивать наш желтый свет.
27
Период обручения, как известно всякому обручавшемуся, — время переходное и не совсем приятное. Чтобы умилостивить мою августейшую тетю, мы с Сильвией, держась за руки, каждый день просиживали часами в гостиной, где тетя имела обыкновение вязать; мы обменивались долгими взглядами, в которых были нежность и обожание, — так делал Анатоль перед смертью, да и дядя Эммануил в сентиментальный период сватовства к тете, когда она позволяла себе положить голову на его боевое плечо. Но мои усилия не встречали заслуженного одобрения: тетя Тереза в свете своих собственных романтических воспоминаний считала, что я недостаточно выказываю свою любовь, а ее дочь недостаточно нежна и отзывчива, и критиковала неприязненные слова моей суженой об этих долгих, безмолвных взглядах: «Милый, не будь таким слащавым!» Тетя Тереза выходила в свет вместе с нами (если позволяло ее здоровье, а если оно не позволяло, то она запрещала нам выходить вообще). Она не любила оставлять нас наедине, хотя мы были родственниками и до помолвки оставались вдвоем бессчетное количество раз. И нам становилось тоскливо с ней, тоскливо друг с другом и тоскливо от самих себя. Оставаясь наедине после того, когда она уходила спать, мы целовались, чтобы заняться чем-нибудь более приятным. Неожиданно мы как будто намертво утеряли прежнюю способность вести беседы. Я вздыхал. Сильвия вздыхала.
— Так хочется, — произнес я, — чтобы твоя матушка поторопилась со свадьбой.
Она помедлила с ответом, размышляя, что бы сказать.
— Ты такой озорник, дорогой, — произнесла она. Сильвии нравились короткие поцелуи.
— Разве тебе не нравятся долгие поцелуи, дорогая?
— Я не могу дышать, милый, когда они слишком долгие; зато я могу сделать вдох в промежутках между короткими поцелуями, если ты понимаешь, о чем я, ведь тогда можно целоваться еще, и еще, и еще.
Я подарил ей кольцо, на котором была выгравирована надпись: «Положи меня, как печать, на сердце твое»[59].
28
ПОЛИГЛОТОВ ПРИБЫВАЕТ
Был конец лета, зарядили дожди. Хмурое унылое утро, горит электричество, как будто уже наступил вечер. Наконец, раздался звонок в дверь.
Госпожа Негодяева, женщина с таким лицом, будто кто-то нечаянно на него наступил, держала за руку фигурку поменьше, с бледным личиком, обрамленным светлыми локонами, и тонкими-претонкими ножками. На все вопросы Наташа только пожимала плечами. Глядя, как она пьет чай, я отметил изысканный рисунок бровей. Сидя за столом среди взрослых и утопая в кресле, еле-еле доставая подбородком до края стола, она со своим торжественно-серьезным личиком выглядела совсем как человеческое существо, воспроизведенное в миниатюре. На борту парохода, доставившего их сюда, она играла со своими сверстниками-англичанами, и госпожа Негодяева с гордостью рассказывала, что Наташа уже говорит по-английски. Говорила она в основном о «моих друзьях», «моем дяде», «моей бабуле». Я спросил ее о большевиках в Новороссийске.
— Большевики? Что означать «большевики»? — Она пожала плечами. — Просто многие грязные люди на улице.
Я засмеялся на это. Она прыснула в ответ, вызвав маленькую бурю в стакане с чаем.
— Но там у меня много, очень много моих друзей. И моя сестра, и мой дядя, и моя бабуля. А, и еще я оставила в Рашие моего маленького скотеночка — такого хорошенького, — и еще тарелки, которые мне подарила бабуля, много, очень много тарелки и чашки — такие прелести! Ах! Такая-такая жалость! Такая очень-очень жалость!
По окончании ужина ее, уставшую после путешествия, сразу уложили в постель. Одетая в полосатую фланелевую ночную рубашку, маленькая, худенькая, она преклонила колени на кровати и, обратившись к иконе святого Николая Чудотворца, которую ее мать уже извлекла из узлов и повесила в углу, с закрытыми глазами, сложив тонкие ладони, произнесла: «Дорогой маленький бог, смилуйся над нашей бедной Россией».
После чего ее родители присоединились к нам в гостиной. Я наблюдал за лицом говорящей госпожи Негодяевой. Лицом его можно было назвать только из вежливости.
— Сердце у меня болит за бедную Машу, — говорила она. — Жизнь у нее тяжелая, ведь Ипполит такой странный. Мне стало жаль Машу с самой свадьбы, когда Ипполит стал приставать ко мне насчет приданого, которого ему показалось недостаточно. Я еще сказала себе: «Если он сейчас такой, то каков он будет потом?» А в ночь после свадьбы Ипполит ушел в кафе, где просидел до самого утра за вином и картами. Вскоре он взял себе другую женщину и пропадал с ней неделями. Маша пыталась простить его, потому что любила. Он покупал дорогие подарки на Машины деньги для той женщины, но Маша слова ему не сказала, потому что любила. Наконец, он начал приводить ту в свой дом и, честно говоря, в Машину спальню. И это Маша пыталась пережить, поскольку любила его очень, очень сильно. Но когда они уезжали — Ипполит и та женщина, — то взломали секретер и забрали портфель со всеми нашими деньгами. Мы с Машей не считаем, что это был приличный поступок после всего того, что мы для них сделали, не правда ли?
Я согласился. По правде, я пошел дальше и сказал, что приличным поступком это вообще нельзя назвать.
Утром Наташа вовсю рассказывала о том, чем она занималась в «Рашие», как она произносила это слово. О Маше она говорила со вздохом.
— Что же Ипполит? — спросил я.
— Гадкий людь, — был ее ответ.
С самого же начала Наташу полюбили все. Даже лавочники, даже Владислав, который редко одобрял то, что не напоминало Париж. Целый день напролет она пела грустную-грустную песню, на слух явно славянскую, которая все же, кажется, была импровизацией, ибо не имела узнаваемого мотива, зато много-много чувств. И поскольку ей было скучно без игрушек, она приходила ко мне и упрашивала: «Поиграйте со мной! Ну, пожалуйста!» Или подкрадывалась сзади, закрывала мне глаза своими тонкими холодными ладошками и допытывалась: «Угадай! Угадай, кто это?» И когда я угадывал, она хохотала, сморщив нос, заливисто, взахлеб. Или в другой раз приходила с карамелью во рту, сияя своими яркими зелеными глазами, и приказывала: «Закрой глаза, открой рот!» Однажды, взобравшись ко мне на чердак, где я обычно занимался литературной деятельностью, она застала меня врасплох, когда я целовал фотографию Сильвии. «Милая моя, дорогая!» — шептал я. Наташа заглянула мне через плечо и издала длинный воркующий звук удовольствия — гур-гур-гур! — наподобие голубя.
— Узнаешь портрет?
— Ах, какая красивая! Так прелесть! — воскликнула она.
— А твое фото? Оно тоже красивое?
Наташа пожала плечами.
— Мистер Жорж! — произнесла она капризно. — Мистер Жорж!
— Да?
— Поиграйте со мной! Ну, пожалуйста!
— Я занят.
— О, дядя Джорджи, — просила она, тяня меня за руку, — я люблю тебя. Я люблю тебя, дядя Джорджи. Потому что ты такой смешной!
Наташа писала на русском историйки о мальчике Ване, который ходил в школу, и другом мальчике, Пете, который тоже ходил в школу, но ничего, кроме этой школы, с ними, кажется, больше не происходило, так что истории оставались без концовки. Она также написала грустное стихотворение о ребенке, глядящем на звезды и думающем о Боге, и еще одно, о матери (той женщине, которая выглядела так, будто кто-то нечаянно наступил ей на лицо), невообразимую красоту которого она превозносила и сравнивала с красотой лебедя. У Наташи было два козленка, подаренных ей на день рождения соседом, — одного она назвала Прыгунчиком, а другого — Красавчиком.
Время от времени капитан Негодяев страдал от острых приступов мании преследования: посередине ночи он будил жену и дочь и приказывал одеваться, чтобы немедленно бежать. И они сидели так, полностью одетые, в шубах, и пальто, и шапках, и муфтах, и теплых галошах, в жарко натопленной гостиной, и госпожа Негодяева выглядела так, будто кто-то огрел ее зонтиком, не в состоянии уразуметь то, что перед этим произошло. Однако Наташа воспринимала все как должное. С зонтиком против солнца в руках, она сидела, серьезная и тихая, и час, и два, — пока, наконец, капитан Негодяев не провозглашал, что опасность миновала, и можно отправляться в постель.
Эти инциденты регулярно повторялись и всегда вызывали у моей тетки une crise de nerfs.
29
ПОЛИГЛОТОВ ЕЩЕ ПРИБЫВАЕТ
Подготовка к нашей свадьбе завершилась, пригласительные карточки уже были разосланы, когда одним ранним ноябрьским утром меня растолкал Владислав (ибо обычно меня будят, сначала уважительно осведомляясь: «Не рано ли вы легли вчера?») со словами:
— Ваш дядя прибыли и дожидаются.
— Какой-такой дядя? Где? Что? Почему?
В соседней комнате дядя Люси в возбуждении мерял шагами пол.
Я начал в спешке одеваться, в то время как Владислав ретировался, но, как бывает в таких случаях, никак не мог найти жилета в бесчисленных отделениях шкафа. Из гостиной донесся низкий голос дяди Люси — он говорил Владиславу:
— Скорее. Скорее. Скорее. Нечего терять время.
Я начал выдвигать все ящики шкафа. Третий ящик… все ящики, но жилета не было. Почему случается так, что когда ты ищешь пару ящиков, то всегда находишь пару лишних жилетов? А когда ищешь жилет, то попадаются одни ящики? Я не знаю, почему так, но знаю, что это так. Это такая несущественная тайна, разгадка которой (как и разгадка великой тайны загробной жизни) еще не найдена. Но она расхолаживает меня, и мне начинает мниться — такие предчувствия обычно приписывают Томасу Гарди, — что Провидение — штука безжалостная, бессовестная, глумливая и злобная.
Сквозь закрытую дверь донесся голос дяди Люси: — Скорее. Скорее. Скорее, — и я сразу же представил, как он там расхаживает взад-вперед, как маятник, заложив руки за спину.
— Ваш дядя, ваш дядя там вас дожидаются, — снова Владислав.
— Сейчас пошлите за мадам Бертой.
— Слушаюсь, — и он ретировался.
Читатель может подумать, что я неблагоразумен. Однако могу его заверить (это книга не предназначена для женщин), что только прошлым вечером комод был полон жилетов — и поблизости не было ни одного ящика.
— Берта! — воскликнул я с предельной несдержанностью, когда она вошла. — Просто смешно! В шкафу полно ящиков — и ни одного жилета!
Ярость моя была такова, что я чувствовал, что если убью Берту, присяжные меня оправдают, а если не оправдают, то я убью их.
Она растерянно смотрела на меня.
— Да не стойте же, как Будда!
Это прозвучало грубовато. Но я так чувствовал.
Она взглянула на меня искоса, словно решая, обижаться или нет. По правде говоря, она не знала, как выглядит Будда. Да и я забыл.
— Я, может, не так красива, как другие, — возразила она, наконец обидевшись, — но и вы сами не красавец.
Странно. Мне-то что с того? Даже уже когда Берта была в комнате, я не переставая смотрелся в зеркало: результат был довольно приятный.
— Поднять меня в такую рань, — произнесла она. В ее голосе звучало брюзжание, выводившее меня из себя.
— Меня ждет дядя, — произнес я.
— А я и дяде вашему скажу!
— Где мой жилет?! — завопил я в отчаянии.
Но в Берте не зря течет французская кровь. Не успел я и слова вставить, как она разразилась — тр-тр-тр! — потоками встречных обвинений, основным мотивом которых было: «А мне почем знать, где ваши caleçons?»
— Жилеты! — завопил я как сумасшедший, — не caleçons! Жилеты, жилеты! У меня полон шкаф caleçons.
— У вас есть ваш Пикап! У вас есть Владислав! А я всего лишь женщина! — кричала она в ответ.
Воистину так. У меня есть Пикап. Владислав, хоть и в услужении у капитана Негодяева, но отчасти находится и под моей командой. Однако по какому-то таинственному неписаному закону прачечными делами в доме заправляет Берта. Кроме того, не люблю, когда находят ошибки у моего человека, который скорее солдат, чем слуга. Как это похоже на женщин — не обращать внимания на то, из чего они извлекают выгоду. «Тр-тр-тр!» Она трещала и трещала, разливаясь потоками сердитого многословия, против которого мой французский, как я осознал, был бессилен. Мое знание французского сродни моему умению играть на фортепиано — грандиозно по замыслу, но несколько размыто в исполнении. Я стараюсь обходить грамматические формальности, я путаю падежи и времена, но вдобавок к этому я придаю своему языку этакий бесшабашный парижский акцент и намеренно допускаю неточности на совершенно ослепительной скорости. Французы, те просто садятся. Однако моя тактика доказала полную свою непригодность в диалектической дуэли с Бертой. В детстве наша гувернантка, мадемуазель Жардель, на уроках французского заставляла нас повторять за столом: «Passez-moi le sel, s’il vous plait»[60] или обходиться без этого. Мне хотелось бы думать, что в те времена я говорил по-французски свободно; в чем я сомневаюсь. В переломные моменты он улетучивается из моей головы, и я могу только кричать: «Enfin! Enfin!» А срочно нуждаясь в эффектной шутке, я выжимаю из себя: «Sacrebleu!»[61]
— Enfin! — кричала она. — Я одна на целый дом. Вы все бездельничаете. Ваши слуги бездельничают.
— Я ценю, — отвечал я, — когда в доме умеренный большевизм.
— Все сидят сложа руки. Ваша тетушка — malade imaginaire; только и ноет целыми днями. Cet idiot de capitaine russe только и делает, что одевается да раздевается и наводит страх на семью. Вы только и думаете, что о своих caleçons…
— О, к черту les caleçons.
— Одна на целый дом, — взвыла она и снова разразилась — тр-тр-тр! — и пошла, и пошла.
— Теперь вижу, что надо было вас прикончить, когда у меня было такое настроение, — тихо произнес я.
— À quoi bon?[62] Вас бы послали на гильотину.
— Присяжные бы меня оправдали.
— Хотела бы я на это посмотреть! — дико расхохоталась она.
— Послушайте, Берта, — произнес я, прилагая все усилия быть серьезным и разумным, — я интеллектуал, идеалист. Мне доставляет мучения поведение, не соответствующее моим идеалам.
— Да, у вас закрадываются такие идеи, Жорж.
Я пожал плечами.
— Боюсь, Берта, что вы пренебрегали занятиями филологией. Вы знаете, идеал совсем не то же самое, что идея.
— À quoi bon? Enfin, — сказала она. — Я одна на весь дом. Вы все сидите сложа руки целыми днями, ничего не делаете.
— Берта, меня дожидается дядя.
Наконец, одевшись — без жилета, даже не подведя брови, — я выскочил из комнаты.
30
По столовой, остановившись на миг при моем появлении, расхаживал дядя Люси, очкастая личность с песочными усиками и острой бородкой. Дядя был бледен; единственным красочным пятном на его лице был нос.
— Скорее. Скорее. Скорее, — бросил он, — нечего время терять.
Он объяснил, что его семья прибыла поздно ночью и остановилась в гостинице — что все они набились в три спальни, что гостиница переполнена и вот-вот развалится, и он просит позволения разместить их всех в нашей квартире.
— Но, дядя, у нас вряд ли наберется столько кроватей, — в потрясении вымолвил я.
Он отмахнулся — жест, напомнивший мне его сестру Терезу.
— Нам все сойдет, — сказал он. — Мы все можем спать и на полу. Места много, — он повел вокруг рукой. — Время другое. Пошли.
— Но подождите, дядя, выпейте кофе.
— Нечего время терять. Скорее. Скорее. Скорее, — молвил он.
Часы на полке только что пробили половину седьмого. Мы помогли друг другу надеть шубы и вышли на улицу.
На углу мы подозвали извозчика и поехали в гостиницу; холодный утренний ветерок щипал мне уши. Я заметил, что у дяди большие волосатые уши, и он не подворачивает воротничок. Дядя Люси был глух, как тетерев, не желая меня переспрашивать, отвечал как попало, и, упустив мой ответ, кивал и погружался в размышления. Не успели мы высадиться у подъезда гостиницы, дядя Люси заметил, что моя шинель сзади вся испачкана смолой после того, как я откинулся на сиденье, и он начал беспокоиться и извиняться, словно это произошло по его вине.
— Немного мыла и бензина, — произнес он. — Я отмою ее тебе с мылом и бензином, когда мы вернемся.
Дядя оставался озабоченным и, бросая взгляды на мою испачканную шинель, повторял: «Мыло и бензин», а я тем временем думал только о том, что без жилета я мог подхватить простуду, которая могла перейти в воспаление легких, и я мог бы вообще умереть. Он настоял на том, что заплатит за извозчика, и сразу же повел в свой номер.
Там я увидел тетю Молли, высокую, дородную, цветущую женщину с добрыми карими глазками. Она поцеловала меня в щеку, и от ее собственных гладких щек пахло ароматным мылом. В большой постели, под одеялом, прятались две девочки: одна темненькая, другая светленькая; за обеих нес ответственность дядя Люси. За кого несла ответственность тетя Молли — за них обеих, или за одну, и за какую именно, — было неясно. Ибо, как я себе представляю, дядя Люси был в таким вопросах человеком неверным. Но неважно.
— Твои забытые кузины, — представила тетя Молли.
— Какая из них какая? — спросил я, нагибаясь и целуя их мокрые губы.
— Это Бабби — темненькая. А светленькая — Нора, наш поскребышек.
— И сколько же лет Норе?
— Два с половиной годика, — ответила та за себя.
— Сколько же у вас всего детей, дядя Люси? — спросил я.
Он принялся считать на пальцах, но скоро сбился о счета. Он был женат несколько раз. И нажил так много.
— Погоди-ка секунду, — сказала тетя Молли. — Я приведу Гарри.
Я подождал, и вскоре за дверью послышались приглушенные увещевания и упрямое шарканье.
— Гарри! — уговаривала тетя.
— Нет! — говорил тот, упираясь и отбиваясь. Но она втащила его за руку, смущенного, сопротивляющегося, и поставила передо мной — четырехлетнего голубоглазого мальчугана.
— Это Гарри, — представила она.
Он был страшно робкий; он видел мой снимок в военной форме и испугался шпаги. Но, когда мы остались вдвоем, он вскоре оживился и принялся рассказывать мне о том, как на его глазах автомобиль переехал собаку.
— Бедняга, бедняга! — повторял он. — Вся в крови. — Но почему ты не хотел со мной увидеться?
— Потому что я не знал, какой вы.
— Ну и как, я лучше, чем ты думал, или хуже?
— Не, я думал, вы более хуже.
— Поиграем у меня в комнате? — пригласил он под конец.
— Нет. Я… тебя боюсь.
Он посмотрел на меня ободряюще.
— Почему вы меня боитесь? Я хороший. Вот и все. А коров вы тоже боитесь?
Мы посетили другие комнаты. И только тут я понял, что означает пустить дядю Люси в нашу квартиру. Его сопровождал целый выводок замужних дочерей, их мужей, нянь, невест и прочих родственников и свойственников. Я сталкивался с поразительно красивыми девицами, которые оказывались моими дотоле незнакомыми кузинами, с мальчишками всех возрастов, с младенцами и сосунками, со взрослыми мужчинами и женщинами, и все они, как я осознал, приходились мне близкой родней, и все носили ту же самую огорошивающую фамилию. Помимо всего прочего, тут был дядин старший сын, пейзажист, многообещающий молодец лет тридцати девяти, который много говорил и пил, но мало рисовал. Их знание английского было разное. Малыши, у которых были английские няни, изъяснялись свободно. Те, что постарше, говорили с трудом. И это была вина их отца. Дяде Люси не передалась страсть дедушки Дьяболоха путешествовать; он нигде не был. С момента появления на свет в Манчестере он не выезжал за пределы России. Единственные англичане, с которыми дядя Люси знался в России, были ланкаширские рабочие и механики, называвшие себя "инженерами", — в России под этим подразумевается высшее образование. Но поскольку выпускники русских технических школ обладали меньшей тягой к машинерии, чем английские механики, требование англичан называться инженерами имело под собой некоторые основания. Эти английские механики не произвели, однако, на дядю Люси впечатления лоска или образованности, и он отправил своих сыновей учиться в Швейцарию и Германию — страны, о которых у него было наивысшее представление, — и они вернулись оттуда с дуэльными шрамами на щеках, усыпая речь немецкими словами. И когда тетя Тереза приветствовала их словами: «Как поживаете?», то один ответил: «Очень мило», а другой: «Очень замечательно».
Разными способами эти люди и их пожитки были перевезены к нам. В передней я увидел Нору. Она торчала там — грибочек под грибной шляпкой. Маленький ходячим грибком она мне показалась, выросшим в темноте, — когда дядя Люси не смотрел. Детские пальто и валенки были свалены в передней, а из квартиры доносился топот — это дети носились по комнатам. Кроме того, там был еще полуторагодовалый мальчик, двоюродный внук тети Молли, по имени Тео, с длинными льняными кудрями, который, завидев Дона, догнал его и потянул за хвост.
Я съездил на работу и вернулся к обеду. Но за этот короткий промежуток времени наша квартира превратилась одновременно в орущий детсад и базар.
Повсюду было больше человеческих существ, чем кроватей, стульев и диванов вместе взятых, и, вставая, приходилось быть аккуратным, чтобы не наступить на какого-нибудь развалившегося на полу маленького Дьяболоха. В гостиной, куда набилась куча родственников, стоял невероятный галдеж. Капитан Негодяев стоя разговаривал с дядей Люси, который слушал его, наклонив голову и приложив к уху слуховую трубку. Дядя Люси в свое время был немножко демократ, и когда пришла революция, то приветствовал революцию. Но когда революция в своей эволюции лишила его собственности, он решил, что революция была ошибкой. Капитан Негодяев тоже считал, что революция была ошибкой, и получилось так, что общим между дядей Люси и капитаном Негодяевым было то, что они считали революцию ошибкой.
— Большевизм — это состояние души, — произнес капитан Негодяев с таким видом, будто изрекал некую глубокую философскую истину.
— Стяжательское состояние души, — с горьким смехом возразил дядя Люси.
— Очень верно сказано, — согласился русский офицер, кивая. — Мы, семейные люди, особенно чувствуем правоту этого утверждения. У меня, Люси Христофорович, две дочери: Маша и Наташа. Маша живет в Новороссийске со своим мужем, Ипполитом Сергеевичем Благовещенским. Как я сказал, она замужем, но не счастливо. Бедная Маша! Но Наташа здесь. Наташа! — позвал он. — Вот Наташа.
Дядя Люси взглянул на нее сквозь свои золотые очки и одобрительно коснулся большим и указательным пальцами нежного подбородка. Затем он долго рылся в кошельке и, наконец, дал ей банкноту в 200,000 рублей — тогда равную примерно полутора пенни. Наташа благодарно присела и, сияя, убежала.
— Гляди! Гляди! — донесся ее голос из коридора. — Гарри, гляди!
— Не на фто глядеть, — сказал Гарри. — Папа мне дает… еще больше.
— Ах, какая милая девочка! — Тетя Молли потрепала ее по щеке.
— К несчастью, Марья Николавна, при таком положении вещей ее образование страдает. И все-таки она учит английский с нуля, что доставляет мне громадное наслаждение.
— Ах, так она говорит по-английски? Как тебя зовут? — спросила тетя Молли Наташу по-английски.
— Я сама не знаю, — ответила та. — У меня два имя, и я не знаю, которое мой.
— Она приехала под девичьей фамилией матери, чтобы скрыть отцовскую, — пояснил я.
Тетя Молли опять потрепала ее по щеке; потом зашла в свою комнату и, вернувшись, дала Наташе банан. Наташа присела и, сияя, убежала.
— Ах, Марья Николавна, сердце у меня болит за бедную Машу, — говорила госпожа Негодяева. — Ипполит ужасный человек. Вы мне не поверите…
Капитан Негодяев подозвал Гарри и дал ему карамельку.
— Что надо сказать? — спросил дядя Люси.
— Спасибо, — сказал Гарри.
— Но когда они взломали секретер и вытащили портмоне со всеми нашими деньгами, вы знаете, мы с Машей считаем, что это было не совсем прилично.
Дядя Люси, всю жизнь трудившийся и распоряжавшийся, находил свою невольную праздность весьма докучливой и поэтому предложил Владиславу помощь по колке дров:
— Нас тут слишком много. Все должны помогать.
— Люси, не глупи, — мягко отговаривала его тетя Молли.
Да и сам Владислав не особенно горел желанием.
— Не барская это работа, — говорил он дяде Люси, стоявшему у него на пути с топором в руках и замедлявшему проход. — Оставьте это дело, сударь, нам, привыкшим. Вот во Франции…
И дядя Люси, отряхивая ладони, вернулся в гостиную и в поисках какого-нибудь другого дела принялся разглядывать картины на стенах — все унылые, как жизнь. Дети, с топотом носясь по комнатам, повторяли:
— А я люблю вот это.
— А я вот это.
— А я вот это. — А я вот это, — пока тетя Тереза не велела прекратить шум. Нора скакала на одной ножке, высунув язык от усердия, а ее брат Гарри, чуть выше ее ростом, ходил за ней по пятам с независимой миной, руки в карманах.
— А у меня есть туалетный столик, — с гордостью сказал он.
— И у меня ешть тувалетный штолик, — откликнулась она и показала на каминную полку.
— Это твой туалетный столик?
— Да.
Ко мне подошел Гарри и прошептал в ухо:
— Мы ей так говорим, чтобы она не плакала. Она ведь еще ребенок.
— А это моя кроватка, — сказала она.
— Глупенькая! Это не кроватка. Это диван, — поправил ее Гарри.
— Это мой дюван, — сказала она.
— Значит, ты на нем спишь?
— Да.
— Ну, разве она не маленькая прелесть? Иди сюда, дорогуша, — сказал он, обнимая ее.
— Почему ты зовешь ее дорогушей? Разве так ее зовут?
— Нет, ее зовут Нора Роуз Дья-болох, — ответил он. — Ее зовут мисс Дья-болох. Но я зову ее дорогушей. Она ведь еще ребенок.
— А Нора любит тебя?
— Да, я люблю ее, а она меня.
— Откуда ты это знаешь?
— Потому что когда я ей говорю: «Нора, обними меня за талию», она меня обнимает — и целует.
— Ты знаешь, Гарри, а твоя сестренка совсем не дура.
— Нет, не дура.
— И ты не дурак, Гарри, так ведь?
— Я-то нет, а вот папа — да.
— Почему?
— Потому что так мама говорит.
Дядя Люси стоял посередине гостиной, держа у самого уха слуховую трубку (но при этом слыша только себя самого), и говорил о понесенных им серьезных убытках, высказывая опасение вообще потерять все свое состояние.
— Крах, — говорил он. — Непоправимый крах.
— Courage, mon ami! Courage! — сказал дядя Эммануил, безмятежно дымя длинной толстой сигарой, и хлопнул дядю Люси по плечу — не слишком сильно, однако, поскольку он был еще не уверен насчет своего beaufrère[63]. Несмотря на то, что большевики нанесли ему ощутимый урон, дядя Люси, как я подметил, относился довольно сочувственно к некоторым пунктам их программы и тешил себя надеждой, что публикация некоторых секретных дипломатических документов положит конец аморальной дипломатии прошлых лет. Кроме всего прочего, он возлагал надежды на Лигу наций. Дядя Эммануил, с другой стороны, щеголял циничным простодушием касательно человеческих взаимоотношений. Он не верил в Лигу наций, придавал особое значение врожденной порочности человеческой натуры, которой с презрением отказывал в способности к усовершенствованию, и, более того, сам не имел никакого желания совершенствоваться. Циничная дядина позиция ни разу не принесла ему выгоды, за всю жизнь он не заработал ни полушки, разрываясь на вторых ролях между начальством и своей женой. Дяде Люси, который был немножко социалистом и к тому же весьма богатым когда-то человеком, дядя Эммануил сказал:
— Я уважаю твои идеалы, твои непрактичные устремления; но я — человек фактов и не верю в высокопарные теории: мой кошелек — вот моя политика. Да! — И он огляделся в поисках одобрения. Но поскольку все знали, что в кошельке дяди Эммануила отродясь ничего не водилось, его заявление было встречено без энтузиазма.
Столовую в три смены привели в порядок, и тетя Молли, крупная полнокровная женщина, уселась во главе стола, окруженная многочисленной своей порослью. Тетя Тереза, густо напудренная, обвешанная украшениями и закутанная в старинные кружева, восседала в большом кресле, опираясь на подушки, немного скособочившись, чтобы показать, что, в отличие от всех остальных, она тяжело больна. Когда она заговаривала с сидевшим напротив дядей Люси, она повышала голос с видом самозаклания, словно это было слишком утомительно для ее нервов. «Ах!» — вздыхала она, когда он не улавливал ее слов. И, повторяя сказанное громче, она поглядывала на окружающих так, чтобы стало ясно — она делает это ценой собственного деликатного здоровья. Когда дядя Люси говорил ей что-то, она прикрывала глаза, как бы заставляя себя слушать его чересчур громкий голос, еще не приученный к ее чувствительному слуху. Дядя Люси не переставая задавал вопросы насчет состоянии дел на русско-польских фронтах, которыми он весьма интересовался, но, не сумев расслышать мои ответы, повернулся к жене. Однако умственные силы тети Молли были подорваны рождением дюжины детей, и, пересказывая ему мой ответ, она перепутала события так, что дядя, умный человек, сразу же понял, что тут что-то не то. В отчаянии он повернулся к своему сыну, восемнадцатилетнему хаму, сидевшему рядом.
— Что там сказал Джордж? — вопросил он и приложил к уху трубку.
— Русские побили польских, — сказал хам прямо ему в трубку.
— Говори громче. Не слышу.
— Джордж говорит, — заорал хам, — что русские побили польских.
— Позор! — вскричал дядя. — Позор!
Мне стало интересно, почему позор и отчего бы это дядины симпатии к России сменились вдруг любовью к полякам.
— Позор, — продолжал дядя, — что ты, англичанин, не можешь толком говорить по-английски.
Хам пожал плечами. С учетом того, что он никогда не покидал России и не разговаривал дома по-английски, было еще удивительно, как он вообще может на нем изъясняться. К концу трапезы Владислав принес мою кофеварку. За сорок пять минут работы кофеварка сумела наполнить одну лишь маленькую чашечку. Тем не менее, из вежливости я осведомился у дяди Люси, не желает ли он кофе, страстно понадеявшись на то, что он кофе не захочет. Но, как всегда, он меня не расслышал. Он еще не привык к моему голосу.
— Не желаете ли кофе? — спросил я.
— Чего?
— Кофе не желаете? — завопил я.
— Чего?
— Не желаете ли кофе? — заорал я на весь стол так, что мой собственный голос завибрировал у меня в ушах.
— Говори громче. Я тебя не слышу.
— Джордж спрашивает, — закричала тетя Молли, к чьему голосу дядя Люси был особенно чувствителен, — не желаешь ли ты кофе?
— Кофе?.. Да.
«Чтоб тебя!» — выругался я про себя.
Когда обед закончился, тетя Молли поднялась, и за ней последовали ее отпрыски, как бесчисленные цыплята за курицей, — цып-цып-цып! Они семенили перед ней, сзади, по бокам, а она проследовала в гостиную и уселась в мягкое кресло, полная, дородная женщина с маленькими, карими, добрыми глазами, в окружении своих цыплят. Она была замужем долгое время, но они продолжали появляться каждый год, словно подарки ко дню рождения, а иногда — на Рождество или на Пасху. И когда ты видел ее окруженной этими кареглазыми херувимами (или голубоглазыми, как дядя Люси), это зрелище трогало тебя, ты начинал говорить и передвигаться потише, почтительно, чувствуя так, словно находишься в святилище, святая святых материнства, словно стоя перед той картиной Рафаэля. Некоторые отпрыски были от других матерей, а некоторые, без сомнения, плоды дядиной неверности. Но если и так, по ее поведению этого сказать было нельзя. Для нее все были равны. Ее протестом против дядиных интрижек было то, что она просто его игнорировала. Но делала это так мягко и неназойливо, что он никогда этого не замечал.
И тут я услышал обрывок разговора дяди Эммануила с дядей Люси, который, как я рассудил, имел некоторое отношение к финансовой стороне их недавней переписки. Дядя Эммануил, офицер, — что означает меч, храбрость, честь (какую-никакую), — сказал дяде Люси, помещику, — шкуры, мельницы, коммерция, транспортные накладные:
— Мое уважение к тебе больше моей симпатии.
И меня удивило остроумие в немедленном ответе дяди Люси:
— А моя симпатия к тебе больше моего уважения.
Дядя Люси, хоть он и любил разглагольствовать о своей бедности, всегда имел при себе портмоне, раздутое от крупных купюр — иностранных и русских. У него имелись небольшие вклады за границей, но это было все. Большевики прибрали к рукам большую часть его капитала.
Тетя Тереза подошла к брату, уронила голову ему на плечо и произнесла:
— Ох, Люси, пожалей меня! Я так хрупка, так больна, так слаба, так несчастна! Я не проживу долго!
— Говори громче. Я тебя не слышу.
— О Господи! — вздохнула тетя и возвела очи горе. — Если бы только отец был жив и видел наше положение!
Дядя взглянул на нее с состраданием.
— Ничего, — сказал он. — Ты будешь получать свои дивиденды, как и прежде.
Повисла пауза, наши сердца бились как будто в пустоте.
— Мы в долгах, — произнесла она шепотом.
— Ничего, ты получишь свою задолженность.
На ее глаза навернулись слезы.
— Я должна присесть, — проговорила она.
Дядя Эммануил зажег сигару.
— Какая хорошенькая и воспитанная девочка Наташа, — заметила тетя Молли.
— Да, я очень ее люблю, — сказала тетя Тереза с оживленностью и веселостью, для нее необычными, — и еще мне нравится ее мать. Отец ее довольно странный человек, правда, безобидный, хотя должна сознаться, что я не в большом восторге от его лица, к тому же мне интересно, чем он весь день занимается. Он очень кроткий, мягкий и услужливый, но дома он запугивает свою жену. У него что-то вроде мании преследования, и время от времени он поднимает тревогу, будит жену и дочь в середине ночи и приказывает им одеваться, чтобы бежать в любую минуту. И так они сидят, полностью собранные и одетые, в своих шубах, муфтах, шапках и теплых галошах. Потом он провозглашает: «Все спокойно!» и отсылает их обратно спать. Такое происходит примерно раз в месяц.
Тетя Молли вздохнула — Мне его жаль. Он так жалко ковыляет на своей деревянной ноге.
То, как дети знакомились друг с дружкой, своей прямотой напомнило мне собачьи знакомства. Увидев фото дяди Люси на «туалетном столике» Гарри, Наташа сказала:
— Это твой папа? Очень милый.
— Зато с мамой он не милый, — ответил Гарри.
— А у меня тоже есть папа, — сказала Наташа.
— Нет, нету.
— Нет, есть. Тот рушкий господин — он мой папа.
— Я знаю, но нам его лицо не нравится, и еще интересно, чем он занимается.
— Ой! Ты плохой, плохой, плохой!
— Он вообще не твой папа, — сказала Гарри. — Он — аист, который тебя принес.
Раскрыв рот от удивления, она спросила:
— Что означать «аист»?
— Потому что он ковыляет на одной ноге.
— Сильвия, не мигай! — приказала тетя Тереза. — Свадьбу, — повернулась она к тете Молли, — нужно будет отложить на послерождественское время.
Сильвия, серьезная и застенчивая в присутствии пожилых женщин, сразу рассыпалась «Ха-ха-ха!» в компании многочисленных ее мальчишек-кузенов.
— Ты не возражаешь против того, чтобы свадьбу отложили до Рождества? — спросил я ее.
Она перестала смеяться.
— Как хочешь, дорогой. Ха-ха-ха! — И она опять оживилась.
Вернувшись со службы и войдя в столовую, я увидел, что комната полна ужинающих младенцев. С повязанными на шею салфетками, они сидели вплотную ко столу на слишком низких стульях, касаясь подбородками краешка стола, зевая и болтая ногами. За их спинами стояли мамы и няни, понуждающие их кушать негромкими увещеваниями. Нора ела яйцо, вставленное в чашечку; чайную ложку она совала в рот выпуклой стороной вверх и причмокивала, в то время как ее взгляд гулял по потолку.
— Еще хляба, мамочка.
— Скажи «пожалуйста».
— Пожалуйста.
— Ну не замарашка? — заметил Скотли, тяжело кивнул и загоготал.
Голубые, цвета незабудки, глаза Гарри соответствовали светло-сиреневой каемке чашки, из которой он пил, зажав чашку с блюдцем в своих маленьких кулачках и водя взглядом поверх чашки по всей комнате.
Закончив есть, Нора сползла с кресла, и тотчас же раздался топоток ее ног. Наташа побежала за ней:
— Эй, Норкин!
Ноги Норы в чем-то работали по принципу гребного винта — довольно ровно, но не соразмеряя свой темп с особенностями поверхности, поэтому частенько из-за внезапного отсутствия сопротивления они продолжали крутиться в воздухе с неожиданной скоростью, как гребной винт, появляющийся вдруг из-под воды. Тем же непоследовательным путем она врезалась в тетин столик с лекарствами, что было чересчур для нервов тети Терезы. И тетя Тереза не преминула высказать Норе, какой милой и послушной девочкой была она сама, тетя Тереза, когда ей было столько же лет, сколько Норе. На ту это, кажется, совершенно не подействовало, и пока тетя Тереза поучала ее, она делала руками весьма осмысленные движения, словно собираясь взлететь. Тетя Молли, усталая и рассерженная шумными детьми, присев на минутку, пустилась в нежные воспоминания о собственном детстве. Тетя Тереза с Бертой демонстрировали вежливое, но неубедительное изумление этим признаниям. Одна женщина из Красноярска, рассказывала тетя Молли, как-то организовала конкурс рисования, и Гарри выиграл первый приз.
— Подумать только! — протянула тетя Тереза, на секунду роняя свое вязание, по которому она была мастер.
— А когда Бабби был один годик, на наш вопрос: «Что у Бабби есть хорошего?», она отвечала: «Хороший аппетит».
— Подумать только… замечательно, — реагировала тетя Тереза и тут же принималась считать петли.
— Charmant, — откликалась Берта.
— Когда Норе едва исполнилось два года, я ее спросила однажды: «Ты меня любишь?» А она говорит: «А ты хотела бы, чтобы я тебя любила?» «Да, хотела бы». Тут она говорит: «Ну, тогда я люблю тебя нежно».
Берта заулыбалась и замурлыкала, как кошка, а тетя Тереза сначала пересчитала петли.
— Подумать только! — произнесла она после этого с запоздалой улыбкой.
— Ну, Бабби, — протянула тетя Тереза, — ты хорошая девочка? Ты любишь свою мамочку?
— Да, очень сильно. У меня колясочка, и все мои собачки могут в ней кататься, потому что если они будут просто бегать и ходить, то ведь они станут совсем худенькими.
Дядя Люси, стыдясь навязанной ему праздности, расхаживал всюду с молотком, долотом и тяжелой совестью, изо всех сил пытаясь быть полезным. Он поднялся ко мне на чердак и, увидев мою пишущую машинку, сказал, что может построить такой электрический аппарат, с помощью которого, сидя на чердаке, можно будет печатать на пишущей машинке, стоящей в подвале. Это показалось мне чудесным изобретением, достойным чуть ли не патента. Но когда я спросил его, в чем состоит преимущество того, что я буду находиться на чердаке, а машинка будет печатать в подвале, дядя Люси согласился, что не видит в таком раскладе вещей никакого явного преимущества. Он ушел, помахивая молотком и ища нечто, хоть отдаленно напоминающее гвоздь, чтобы его забить.
Девицы-кузины спали в столовой, примыкающей к спальне, за ширмами. И я проводил часы, целуя их и желая спокойной ночи. Глухой ночью, снова и снова я выбирался из постели и с таким видом, будто что-то потерял, проходил за ширмы в столовой и запечатлевал на щеке моей рыжеволосой кузины поцелуй — долгий-предолгий…
Мне снилось — шагает сонмище полиглотов, целая армия полиглотов марширует неустанно, вперед, и вперед, и вперед — грохот шагающих ног.
31
ГНЕЗДО ПОЛИГЛОТОВ
А утром тетя Молли попросила меня не сморкаться так громко, потому что это будит детей. Когда я брился, в комнату вошел Гарри, а следом за ним Нора.
— Знаете, что мне сегодня Нора сказала? — начал он. — Говорит: «Доброго тебе утра». — И, увидев на моем лице мыло, он стал просить: — Побрейте меня! Побрейте меня!
— А как Наташа? — осведомился я.
На его лице отразилось немного восторга.
— Она нифего нам не разрешает, — пожаловался он.
— О!
— Побрейте меня! — просил он. Я намылил ему лицо, он стоял тихонько с блаженным выражением незабудковых глаз.
— А теперь Нору, — сказал он. — Нора, ты хочешь?
— Да-a.
И я намылил ей лицо тоже.
Они заинтересованно смотрели, как я одеваюсь.
— А это зачем? — спрашивал Гарри, указывая на подтяжки.
— А это? — спрашивала Нора. Что говорил Гарри, то повторяла и Нора; что делал он, делала и она.
— У моего папы такие же, — говорил Гарри, указывая на мои подтяжки.
— У моего папы такие же, — повторяла Нора.
— Только лучше, — говорил Гарри.
— Только лучше, — откликалась Нора.
— Кто лучше, Нора или Наташа? — спросил я.
— Я, — сказал он.
Я замечал, что ритуал одевания наводит на игривость особенно примитивного свойства, так что я продолжал задавать глупые вопросы.
— Ну, кого мне утопить? Тебя или Нору?
— Сам утопись, — ответил он.
— Сам утопись, — повторила Нора.
— А ну-ка, — заорал я с угрожающим видом и схватил его за рукав. Он отступил, подумал секунду и сказал:
— Иди к черту!
— Гарри!
— Иди к чурту, — повторила Нора.
— Кто научил вас таким ужасным словам?
— Папа.
— О, налейте на меня немножко, налейте этой жидкости для волос, — молил он, не сводя с меня глаз. Я плеснул ему на макушку, довольно щедро. Он стоял неподвижно с блаженным взглядом. Но когда жидкость побежала по его щекам, он зажмурился с гримасой.
— В чем дело?
— Щиплет, — сказал он. — И на Нору тоже.
Эти вторжения в мой утренний туалет сильно замедляли режим. Жизнь, как я заметил, не стоила того, чтобы жить: пока я вставал, брился, мылся, принимал ванну, одевался и так далее, день уже проходил, и пора было ложиться в постель. Такова была наша жизнь. Большая семья в маленькой квартире — и все занимаются этим целый день напролет. Занимались все в основном уборкой и чисткой, во время чего снова измазывались. Атмосфера в квартире была сонная, располагающая к грезам. Зимой закат наступал скоро. Тяжелые шторы были задернуты, закрывая от нас морозные, пыльные, бесснежные улицы Харбина, с ярко освещенными витринами магазинов, закрывающихся один за другим по мере того, как город погружался в сумерки, — а мы жили в теплых, натопленных комнатах с роскошными кожаными диванами и креслами и приглушенным освещением за шелковыми китайскими ширмами, разукрашенными цветами и птицами. Мальчики-китайцы в мягких сатиновых тапочках передвигались по устланным коврами полам бесшумно, как призраки, апатичные фигуры в длинных белоснежных халатах. На всем тихом интерьере был написан покой, мягкий, роскошный покой; но едва ты в половине шестого вечера входил в розовую спальню тети Терезы и видел ее в постели, среди пузырьков с лекарствами, семейных фотографий, особенно снимков ее сына, книг, подушек, косметики, писчего набора, красного кожаного бювара, ширм повсюду, лампа под розовым абажуром горит сзади, дожидавшийся тебя запах Mon Boudoir обрушивался на твои органы чувств, и ты начинал ступать тише, начинал разговаривать шепотом, зевать, потягиваться и только и ждать того момента, чтобы завернуться в стеганое одеяло и отдаться счастливым снам.
Только дети вносили разлад в эту атмосферу покоя. Нора неожиданно валилась с самых невероятных мест.
Однажды она умудрилась скатиться по лестнице, не задев ни одной ступеньки, и сразу же приземлилась на последнюю — противу всех существенных постулатов закона всемирного тяготения. «Я так напугалась», — сказала она. Младшие дети теперь ужинали до нас и, закончив, шли в столовую смотреть, как мы едим, — а Нора всегда просила «хляба». Но Гарри, более скованный, только смотрел издалека на то, как мы едим (когда ему что-то хотелось, он всегда отходил и только смотрел издали), а когда его спрашивали, хочется ли ему чего-нибудь, он отвечал с чувством: «Я ведь ничего не прошу!»
Нора вечно что-то жевала, а когда не жевала, то пила, и мать уполномочила Гарри расстегивать и снова застегивать панталоны сестренки, — обязанность, которая ввиду ее феноменального аппетита и жажды, отнимала у него очень много времени. Едва где-то поднималась какая-нибудь возня или происходило что-то необычное, непременно откуда-то слышался голосок Норы: «Иду, иду-у!», за чем следовал неровный топоток, и в самой гуще событий вырастал грибок. Его звали Нора; тем не менее, ее светлые легкие волосы были всегда аккуратно причесаны и подстрижены.
Наташа и Гарри любили играть в маму и папу, а Нора была их ребенком. Однако Нора игру не любила, потому что они укладывали ее в постель, где она должна была все время тихонько лежать; в сущности, ее роль мало отличалась от того, кем она была в обычной жизни, — «всего лишь ребенком». Тогда как она хотела бегать по комнатам, топоча ногами, или стоять на одной ноге и делать весьма осмысленные движения руками, как будто пытаясь взлететь. И все же эта троица играла вместе и выработала нечто вроде собственного языка, нечто среднее между английским и русским, и попервоначалу Наташин буйный английский сквозил разными «вилл», пренебрегая точностью и всем прочим ради скорости. И оказалось, что этот новояз понравился Гарри и Норе, ибо теперь, разговаривая по-английски, они намеренно искажали слова в угоду Наташиным прихотям. «С возвратом или без возврата?» — спрашивали они, принимая подарок. А когда Наташа говорила с ними по-русски, она коверкала слова, точно желая сделать им приятное. Они собирали разный хлам — все они. Гарри подбирал все, что выкидывала Наташа, а Бабби брала все, что выбрасывал Гарри. А то, что не подходило Бабби, подбирала Нора. Для ребенка из коммунистической страны Наташа выказывала удивительное чувство собственности — даже в отношении хлама, права на который утверждала яростным воплем «Мое!» Иной раз Гарри улепетывал с какой-то вещью в руках под ее крики: «Что ты делать? Что ты делать, Гарри?» И, припускаясь за ним и будучи по возрасту крепче, она отнимала у него эту вещь, — и тогда Гарри давал волю отчаянию и кричал по-русски: «Ne nado! Ne nado! Это наше!» — он поворачивался ко мне: «Скажите ей, это наше. Скажите же!»
После чего, привлеченные воплями, прибегали тетя Молли и капитан Негодяев и без особого суда и следствия давали хорошего шлепка своим отпрыскам — просто чтобы сделать друг другу одолжение.
32
ДЕВСТВЕННИЦА
Таким образом, нашу свадьбу отложили на период после рождества, и Сильвия покамест присматривала за Доном или играла «Четыре времени года». Одно из этих времен, помнится, «Зима», звучало так грустно, что слезы наворачивались мне на глаза, и я думал: как долго еще? Сколько еще ждать? — и, как бывает после обдумывания: — Зачем? Вечер блистал великолепием, чуточку потускневшим, этой умирающей, проникнутой грустью красотой, когда мы выходили из дому. Дядя Эммануил, занимавший скромную должность в югославском или каком-то еще союзническом консульстве, придумал себе форму — выглядела она не бог весть как, но сходила за «союзническую», — и сейчас расхаживал в ней в поисках добычи. Раньше он носил монокль, но, будучи близоруким на оба глаза, жаловался, что монокль помогает ему лишь отчасти. «В таком случае носите два монокля, по одному на глаз», — советовал я. Но он вообще от него отказался. Дядю трудно было назвать красавцем и, если честно, он был на треть ниже меня, — но при этом воображал, что неотразим и нацеплял эту самодельную форму для того, чтобы привлекать женщин. Сложно о нем писать. Мне даже приходят на ум некоторые мои знакомые, которые могут счесть эти нескромные откровения как нечто… нечто, говоря напрямик, не очень-то приятное. У меня есть незамужняя тетка, которой все это показалось бы весьма тягостным чтением. Но разве нас с вами волнуют подобные суеверия? Было бы невежливо осудить дядю Эммануила, не попытавшись прежде разобраться в его характере. В нем была страсть к жизни, которая отождествлялась для него с женскими чарами во всем их разнообразии; поэтому он проводил все свое время в погоне за красными фонарями. Он изменил тете Терезе в самом начале их медового месяца, потому что был чересчур любвеобилен. Дядюшкино добродушие предполагало веру в добродушие других, что нередко выглядело чуточку наивно. В тот вечер он забронировал номер на двоих, на себя и на свою новую подругу — очаровательную брюнетку. Но на следующее утро, уже собираясь продлить свое счастье на все выходные, он был уведомлен о том, что ввиду ремонта в гостинице ему надо к часу дня освободить номер. Дядюшка немедленно навел справки и узнал, что в трех верстах по железной дороге он найдет комнату в семейном пансионе — куда они с брюнеткой немедленно и отбыли. Пансион своей оригинальностью и очарованием превысил их ожидания. Дядя Эммануил объяснил, что он офицер армии союзников, прибывший помочь русским в их борьбе. Милая пожилая дама — лютеранка из прибалтийских губерний, добрая богобоязненная душа — была сплошные букли и улыбки. Они поняла ситуацию: пожилой офицер, верный союзник, только что женился на юной русской и, конечно же, нетерпелив. Она позаботится о том, чтобы его медовый месяц был как можно более приятен. Она все понимала. Она тоже была когда-то молода и вышла замуж за человека гораздо моложе ее годами, о котором она сохранила самые нежные воспоминания. Она всячески поспособствует тому, чтобы дядюшкин медовый месяц (как она вообразила) был удачным. Она отнеслась к делу серьезно: да, когда-то и у нее был муж — невысокий такой — она показала рукой — прямо как мой дядя.
— Ah, oui! Charmé[64], — вежливо произнес дядя Эммануил.
Но оказался пылким любовником. Она хранила память о нем. Я перевел это дяде, который стоял рядом, немного нервничая, с высокой брюнеткой под руку.
— Ah, oui! C’est ça[65], — довольно равнодушно сказал он.
Но сейчас он мертв, сообщила она.
Он пожал плечами.
— Je regrette[66], — сказал он.
Ее слезящиеся старческие глаза ласково смотрели на него.
— Господин с легкостью выносит свой возраст, — сказала она в виде комплимента.
Я и это перевел.
Это не доставило ему удовольствия. Совсем не доставило удовольствия. Возраст!
— Enfin! — сказал он. — Мы не можем стоять тут всю жизнь. Может ли мадам дать нам номер?
Да, она могла дать ему номер, один из лучших. Но у дочери ее были открытые смеющиеся карие глаза, которые пронзили сердце дяди Эммануила, когда он подписывал регистрационную книгу. Мы тотчас же поднялись на третий этаж, где для дяди была приготовлена комната с высокими потолками, оклеенная голубыми обоями, на стенах которой висели в рамках немецкие изречения: «Приидите ко Господу», «Господь — наше спасение» и «Сохранны Божием соизволением». Она выделила им также свой салон, чтобы оберечь молодоженов от любопытных взглядов, по желанию их сердец, и назначила им до смешного низкую цену за еду.
Но именно потому, что она была добросердечна, мой бедный дядя, и в лучшие времена бывший скверным психологом, решил, что ее доброта душевная безгранична; и не прошло двух недель, как он появился пред очи той же (но уже серьезной) богобоязненной дамы под ручку с невысокой блондинкой, с радостно-ухарским выражением на лице, словно заявляя: «А вот снова и мы!»
Но помолчим о дядиных поступках.
На субботний вечер в бывшем здании Офицерского собрания был назначен Праздничный Социал-Демократический Бал, и поскольку Сильвия нехорошо себя чувствовала, я взял с собой рыжеволосую кузину. Я был обручен с Сильвией — и не более того. Невероятная скука наших отношений, застывших в одной точке, стала невыносимой. Проведя день в гостиной тети Терезы, хотелось застрелиться. Чтобы объяснить свое отсутствие в тот вечер, я сказал Сильвии, что ужинаю у генерала. Она ничего не ответила — лишь погрустнела.
После обеда, по пути домой к полднику, я купил коробку шоколадных конфет для кузины и другую — для Сильвии, зашедшей в магазин вместе со мной.
— Это тебе.
— А для кого другая коробка?
— Другая? Для генерала, — ответил я.
Она промолчала, только стала совсем несчастной.
— В чем дело?
— Так, ничего, — вздохнула она.
(Она уже знала все о рыжеволосой кузине). Но все же взяла шоколад — и печально, скорбно удалилась.
И когда вечером мы с кузиной усаживались на извозчика, Сильвия, у которой разыгрался насморк, вышла в своем сером пальто на балкон — с растрепанными волосами и распухшей верхней губой она выглядела непривлекательной и неухоженной, — и проводила нас взглядом.
«Социал-Демократический Званый Вечер» оказался на вкус кузины «чересчур демократическим». Когда мы входили в бальный зал, с галерки на нас сыпалась подсолнечная шелуха и апельсиновые корки, словно так и полагалось, а в толпе, запрудившей залы, пробивали себе путь локтями солдаты и матросы.
— Кто вон тот высокий мужчина с длинной бородой, похожий на Тирпица[67], который разговаривает с британским консулом? — спросила кузина.
— Это знаменитый генерал Хорват[68].
— Ну и борода! — воскликнула она.
— Да уж. По этому поводу есть анекдот. Один дипломат спрашивает как-то генеральшу: «Как спит ваш супруг — оставляет бороду наверху или накрывает ее одеялом?» «Зависит от времени года, — отвечает та. — Летом, когда жарко, он любит проветрить бороду и раскладывает ее на одеяле. А зимой, чтобы было теплей, он засовывает ее под одеяло».
Она засмеялась, чуточку неискренне, словно ради меня.
По мере того, как «званый вечер» разворачивался, стали происходить инциденты. Кто-то ударил кого-то по голове пивной бутылкой. Кто-то застрелился. Какой-то офицер вызвал другого на дуэль — из-за пустяка. К нашему удивлению, мы наткнулись на дядю Эммануила — и боюсь, в довольно сомнительной компании известного шулера, секретного агента и молодой девушки из demi-monde[69].
— Позвольте представить вас любовнице моего брата, — произнес шулер при моем приближении. — Однако должен предупредить — и наш друг (он показал на шпиона) это подтвердит, — ее любовник — генерал Пшемович-Пшевицкий.
— Брехня! — фыркнула женщина. — Он это говорит только для того, чтобы вас отвадить. Вы его не знаете. Он безумно меня ревнует. — Она повернулась к дяде Эммануилу и хлопнула его веером по руке. — Почему вы такой серьезный? Взгляните на меня, мне так весело, я всегда смеюсь. Ха-ха-ха! — От этого смеха нас холодок подрал по коже, и никто не произнес ни слова.
— Надеюсь, вы не верите из этого ни слову, — она снова повернулась к дяде Эммануилу. — Он вечно рассказывает обо мне ужасные вещи, потому что хочет отвадить вас и приковать меня к себе. Поэтому я его не люблю. Я могу любить лишь того, кто чист. Как бы я хотела, Серж, — она повернулась к шулеру, — чтобы вы были чисты.
— Вам не следует этого хотеть, дорогая.
— Почему же?
— Вам надлежит любить равных себе.
— Что такое? — спросил дядя Эммануил и сардонически улыбнулся, когда ему это перевели.
— Что! — повернулась она к нему. — Да как вы смеете! О! О! О!
Поднялся невыносимый крик.
— Сударыня, уверяю вас. Уверяю вас, сударыня, — захлебывался дядя. Однако она не останавливалась, и к нам устремились люди, окружили нас, а она кричала что-то про медицинскую справку — и тут лишилась чувств.
— Уйдемте, — прошептал я дяде. — Ради всего святого, уйдемте сейчас же!
И, вызволив кузину из объятий танцевавшего с ней партнера, мы выбрались наружу через боковой выход.
Препроводив кузину на порог, дядя повернулся ко мне и робко предложил пойти в бани. Я знал, что это значит, и засомневался.
— Ведь вы женаты, — укорил я его.
— Ну и что? Могу же я иногда обедать в ресторане, хотя меня есть кухня дома?
Довод звучал слишком разумно для опровержения.
Уже занимался рассвет, когда мы поехали в бани.
Дядя был в отличном распоряжении духа и выглядел очень довольным собой, напевая (точно желая добавить пороху в наше приключение): «Nach Frankreich zogen zwei Grenadier…»[70] Когда-то он изучал немецкий для будущих военных надобностей и обожал при случае продемонстрировать свое знание. Шагая рядом с ним, я делал шаги подлиннее — чтобы его как следует оскорбить. Он был коротышка — на треть ниже меня — и трусил рядом со мной, как фокстерьер, тогда как я плыл вперед, как лайнер рядом с пыхтящим буксиром.
В банях нас препроводили в отдельные, но соприкасающиеся «номера», состоящие из раздевалки и ванной, из которой, как из паровозной трубы, поднимался пар.
Немедленно появился слуга-китаец.
— Мыло? — спросил он, и я перевел это для дяди.
— Да.
— Мочалку?
— Да.
— Полотенца?
— Да?
— Березовые веники?
Дядя подумал.
— Да, — сказал он.
— Что-нибудь еще?
Дядя кивнул.
— Японку?
Дядя покачал головой.
— Русскую?
Дядя кивнул.
Китаец вышел, хлопнув дверью, и его шаги по каменному полу громко отдались и четко в пустом коридоре. Мы сидели молча, с колотящимися сердцами. Дядя Эммануил немного пристыжено играл со своей цепочкой от часов. В помещении была удушливая жара. Затем он испустил вздох облегчения и робко произнес:
— Que voulez-vous?
В моем «номере» было так же жарко. Бисеринки пота катились у меня по лицу и повисали на кончике носа, пока я, скрючившись, подглядывал в дырочку за тем, что делается во владениях дяди.
Тут дверь распахнулась. Нечто гибкое, в черной шляпке и черных шелковых чулках, промелькнуло в дыре и заслонило мне обзор. Сняла шляпку… Шорох платья…
Не знаю, насколько вас все это задевает. Я — серьезный молодой человек, интеллектуал, пурист, и не одобряю дядиной степенной распущенности. Обойдем молчанием поступки моего дядюшки!
Теперь китаец явился в мой номер.
— Мыло?
— Да.
— Мочалку?
— Да.
— Полотенца?
— Да?
— Березовые веники?
— Да.
— Что-нибудь еще?
Однако боюсь, что отклоняюсь от цели моего повествования. Я вышел из бани вымытым, чистым, освященным, и присоединился к дяде. Ай да дядя! Он приложил палец к губам, пока мы шли домой по скользким, морозным улицам.
— Silence, mon ami![71]
Я и так молчал, и он сказал, словно оправдываясь:
— Я всегда говорю — вне семьи делай что пожелаешь, это никому не принесет вреда. Но chez soi, dans le famille, опора общества, священный очаг, le дом… а, это другое дело! Тут я непреклонен. Évidemment, некоторые мужья нынче не особо sérieux и позволяют себе des bêtises с горничными или — enfin! — с поварихами. Я — никогда! Jamais de la vie![72]
Я немного сердился на него — и промолчал.
— На мой взгляд, — сказал он, — это довольно интересное здание.
— Это только на ваш взгляд.
— И все же думаю…
— Не о чем тут думать.
— Да что с тобой такое? — спросил он.
— Отстаньте от меня.
— Enfin! Где сегодня твоя вежливость?
Я посмотрел на него с ненавистью.
— Хоть вы мне и дядя, но я проклинаю вас!
На какой-то момент дядя Эммануил выглядел совершенно потрясенным — но, быстро оправившись, парировал:
— А я тебя!
33
ХОРОШИЙ УРОК ДЛЯ ПУРИСТА
На следующий день, в воскресенье, в день рождения тети Терезы, дядя Эммануил, следуя давно установившейся традиции, продекламировал двустишие собственного сочинения (здорово отдававшее Мюссе), написанное им сразу же по возвращении из бань, в котором он сравнивал свою старую невесту с птицами и цветами, яркой звездой и бледной красой луны — в то время, как тетя Тереза жаловалась на нервы немного больше обычного. В этот день ей нанесли визит генерал, его сын-адъютант, доктор Мергатройд и кто-то еще из местного «дипломатического корпуса», чтобы засвидетельствовать свое глубочайшее почтение. Тетя полагала, что, поскольку я — ее племянник, я вполне естественно должен занимать какой-нибудь высокий, важный пост, и, чтобы сделать ей приятное, я стал именовать себя «британский военный посланник». И она рассудила, что раз я британский военный посланник, то наша квартира пользуется экстерриториальными правами и наделе является британской почвой (хотя, будучи расположена на пятом этаже дома, находящегося во владении российского подданного, она вообще не касалась никакой почвы). Это притязание, на ее взгляд, подкреплялось тем, что сама она родилась в Манчестере. И так крепко вросло это мнение в умы всех обитателей квартиры, что однажды, когда к нам неуклюже ввалилась почтальонша и, обруганная Владиславом, начала в ответ вопить: «Ах ты, желтоволосый дьявол, такой-сякой!», тот осадил ее страшным: «Ш-ш! Ты, старая косая карга! Тут тебе не Россия орать; тут Англия, поняла?!»
На обед было особое меню, и едва внесли спаржу au sauce mousseline[73], раздался звонок в дверь, и вошел Владислав с сообщением, что дядю Эммануила дожидается какая-то дама. Он поднялся и через какое-то время прислал за мной. Дамой оказалась та женщина, встреченная нами на социально-демократическом балу. На мои расспросы она отвечала, что считает дядю Эммануила замешанным в вопросы ее личной чести, ибо он непочтительно рассмеялся, намекая на ее чистоту, которую она сейчас намерена защитить. Ситуация была деликатная. Женщина подчеркнула, что уже выделила средства на получение русской медицинской справки и сейчас требует такого же бельгийского документа.
Терпеть не могу разные гнусные подробности (по темпераменту я романтик), но я в подробностях перевел все дяде, который стоял рядом, красный, руки в карманах, возмущенный семьянин, в чью святыню бессовестно вторглись.
— Ah mais! Ce n’est pas un hospital, par exemple!
Я перевел:
— Дядя говорит, что это не больница.
— Вот именно, — сказала она. — Я хочу медицинскую справку.
— Сударыня, я не доктор, — возразил я.
— Madame, nous sommes des militaires et point des docteurs[74].
— Хорошо, — сказала она, — но y вас должен быть бельгийский доктор.
— Ah, mais c’est une… une légation, quoi!
— Это военная миссия — посольство, — перевел я.
— Странно! Посольство — и нет врача! — воскликнула она.
— Enfin, madame, ce n’est pas très délicat.
— Дядя говорит, что с вашей стороны, сударыня, это не очень деликатно, — перевел я.
— Но я просто хочу увидеться с вашим доктором, — взглянула она на меня.
— Сударыня, я не доктор, я… цензор.
— Но у вас должен быть доктор.
— Je vous demande pardon, madame[75], y нас его нет, — сказал дядя Эммануил.
— Какая чепуха, у вас он должен быть!
— Ah, je vous demande pardon, madame, это не чепуха.
Владислав высказал желание вышвырнуть ее на улицу. Но дядя, чьим жизненным девизом было: «Живи и дай жить другим», возразил:
— О нет, зачем же? Зачем поднимать шум? Это не бар, это un дом, не надо здесь scandale, нет, нет!
Вообще-то он был не прочь встретиться с ней на улице, — но не в доме! Ибо на свой манер она была вовсе не дурна собой. Но он стеснялся в моем присутствии назначить ей свидание. Я был любезен и терпелив, памятуя о том, что я все-таки «военный посланник». Она тоже успокоилась, но, кажется, совершенно запуталась.
— Понимаете, — говорил я, — это британская миссия, не больница.
— Ага! Я понимаю… понимаю. Тогда я приду завтра.
— Нет, сударыня, вы явились не туда!
Она немного подумала.
— Ага, — сказала она. — В таком случае я принесу с собой паспорт и метрическое свидетельство.
Мы вздохнули и застыли, потеряв дар речи.
— Это, сударыня, вам не доктор. Это Военный Посланник, военное посольство, — нетерпеливо сказал Владислав, словно считая, что мы неспособны вбить ей в голову эти сведения.
— А где же тогда другое посольство? — спросила она.
— Консульство, — сказал я, чтобы от нее избавиться.
— Ага, — сказала она, — тогда дайте мне представление в консульство.
— Убирайтесь! — приказал Владислав.
— В таком случае, — сказала она, — я приду завтра.
Он закрыл за ней дверь и вздохнул.
— Во Франции, — произнес он, — они бы ее даже слушать не стали.
Не успела она уйти, как Владислав вручил мне карточку другой, незнакомой мне женщины, «дочери действительного статского советника». На вопрос, чем я могу быть для нее полезен, она заявила, что хочет меня поблагодарить — за все.
— За все? И ни за что особенно?
— Да-да-да, — с готовностью подтвердила она, блаженно улыбаясь. Именно так — и еще вручить мне брошюру ее собственного сочинения по вопросам орфографии. Я пообещал тщательно изучить этот документ. но она продолжала приходить несколько раз в неделю, настаивая на том, что проблема упразднения буквы «ять», а также твердого знака, — это проблема такого масштаба и срочности, что союзники с их задачей восстановления страны не могут ее обходить стороной. Пока, наконец, изнуренный настырностью этой женщины, я не порекомендовал ей обратиться к моему американскому коллеге — и пожелал ему удачи. Но он отыгрался на мне, подослав сумасшедшего, считавшего себя ни кем иным, как императором Францем-Иосифом, и желавшего восстановления на троне, с каковой целью он просил меня подписать соответствующую петицию. Однажды, устав от визитов австрийского монарха и дочери действительного статского советника, я посадил их вдвоем в машину и отправил к моему американскому коллеге — пожелав удачи с обоими.
— Это ужасно, — произнесла тетя Тереза, когда я вошел в столовую.
— Что ужасно?
— Степан вернулся.
— Гм.
Степан был наш кучер. Тетя Тереза с ее деликатным здоровьем не могла совершать длительных прогулок, однако нуждалась в свежем воздухе, и поэтому для ее нужд держали пару тощих кобыл и бородатого, разбойничьего вида Степана, рядом с которым на мягкое сиденье садился Владислав, одетый в поношенную ливрею. Степан был фаталист и на все вопросы, включая оценку его езды, отвечал: «Усе возможно». К жизни, похоже, он относился с униженным смирением. И поэтому допился до того, что однажды опрокинул коляску с тетей Терезой. Когда она предостерегла его против этого, он промолвил: «Усе возможно», — и опрокинул коляску опять. После этого тетя его уволила. Она уволила его два месяца назад, однако он так и оставался в своей каморке, молчаливый и нелюдимый, и казалось, что ничто не может сдвинуть его с места. Кажется, ночами он отлучался куда-то ненадолго, но потом опять возвращался к себе.
Я говорил с ним. Владислав говорил с ним. Дядя Люси и тот говорил с ним. Мы все с ним говорили, и я даже привел капитана Негодяева, чтобы и он с ним поговорил. Однако ничто не могло сдвинуть Степана с места.
— Пошлите за генералом, — наконец, приказала тетя Тереза.
Генерал явился после трех.
— Я с ним поговорю. Уж я-то с ним справлюсь, не извольте беспокоиться, — заявил он, освободился от шинели и, потирая руки, прошел в гостиную. — Я разберусь с подлецом. Приведите его сюда.
— Он не придет, — сказала тетя Тереза. — Вся беда в том, что он никуда не ходит. И никуда не уйдет.
— Тогда я сам к нему приду. Я с ним сам поговорю. Не беспокойтесь, я управлюсь с этим подлецом.
Мы последовали за генералом в конюшню, над которой располагалось Степаново жилище. Без лишних церемоний генерал распахнул дверь в его берлогу. Нестерпимая вонь навалилась на нас, словно дикий зверь, так что мы бессознательно отшатнулись обратно, а генерал прижал к носу надушенный платок. Однако Степан, на чьем лице застыло выражение какой-то дикой самодовольной мрачности, неподвижно сидел на своей койке и молчал.
— Подлец! — рявкнул генерал и осыпал его угрозами. Но Степан не промолвил ни слова
— Даю тебе три минуты убраться отсюда, ты слышишь, подлец? — гремел генерал. — Да я тебя так… я тебя эдак… я тебя наперекосяк…
Но Степан не двигался и молчал.
— Подлец! — гремел генерал. — Негодяй! Да я тебя сейчас выволоку и за ноздри повешу на ближайшем заборе, этакая бестия! Пресмыкающееся! Крокодил!
Но Степан не двигался и не говорил ни слова. Генерал не унимался.
— Я с тобой разговариваю или с этой стеной, мерзавец? — гремел он. И давай его поливать дальше, и дальше, и дальше, так и сяк, и с боков, и со спины, и отовсюду: — Да ты сын того, да ты сын сего, да ты сын всего!
Без толку: Степан словно его не слышал.
Генерал взялся на него с новым пылом, с удвоенной энергией, с редким жаром. Какое-то время спустя он замолк, чтобы вздохнуть и оценить эффект, произведенный его глоткой. Однако оказалось, что эффекта никакого.
— Упрямый народ, — произнес генерал, вытирая лоб платком. — Уф! Аж взопрел. Был у меня когда-то денщик, Соловьев. Я даже с ним разговаривал, понимаете ли, словно с человеческим существом, — разговаривал! А у него взгляд — у коровы и то больше мысли. Только когда я применил кое-какие крепкие словечки, имевшие отношение к его семейному древу, мать его помянул, ну и так далее, по-дедовски, знаете, — «Ах ты щучий сын!» и так далее, только тут, понимаете ли, лицо у него просветлело, словно зажглась у него в голове некая искра разума, и не поверите — потихоньку-полегоньку проявилось в нем нечто почти человеческое, и он произнес: «Так точно, выше превосходительство!» Вот с каким материалом приходится дело иметь. Да-с… А здесь поделать ничего нельзя. Ничего не поделаешь с этой канальей… А вы как поживаете? — он повернулся к тете Терезе. С нежностью смотрел он на нее. Солнце било ему в окруженные морщинами карие глаза.
— Я… как обычно. Однако этот кучер, право…
— Откуда он? — спросил генерал.
— Кажется, откуда-то из Малороссии, — ответил я.
— Тогда уж точно ничего не поделаешь. Ничего сделать нельзя с этим племенем!… А вы что поделывали?
— Полагаю, мы должны оставить его? — уныло вздохнула она, взглядом выдавая свое подозрение, что от генерала уже ждать нечего, что он больше бранится, чем сердится.
Генерал вздохнул и задумался.
— Он может послушаться меня и уйти. Впрочем, завтра я приду снова, и поглядим.
Но все было безуспешно. Той ночью кучер вернулся снова. Назавтра генерал явился, как и обещал.
— Упрямейший народ, — вздохнул он, выслушав новость от тети Терезы. — Не говорил ли я вам — был у меня денщик, Соловьев, — тяжелый случай, но я сумел высечь из него искру разума. Но тут… — Он вздохнул. — Тут… ничего не попишешь.
34
Листвою старый дуб покрыт…
Близилось Рождество, и дети заговорили о подарках. Русское Рождество наступало тринадцатью днями позже, что Наташа объясняла тем, что Дед Мороз не может быть в двух местах одновременно. Дети любили ходить в большой магазин на Китайской, где, кроме великолепной рождественской витрины, был человек, наряженный Дедом Морозом, который должен был здороваться за руку со всеми детьми, длинным потоком тянувшимися в магазин; выглядел он при этом очень зло и раздраженно, будучи сыт своей работой по горло. Но дети обожали его даже такого. Берта купила пару алых войлочных тапочек с алыми помпонами для Норы и довязывала для нее маленький полосатый джемпер, тогда как дядя Люси мастерил три стульчика для трех игрушечных мишек. Гарри с Норой четко знали, что просить, и вечером, перед тем, как лечь спать, оба сказали в дымоход:
— Пендальную машину, пожалуйста.
— Коляску и куклу, пожалуйста.
— Чего тебе больше хочется — лошадку или куклу? — спросил я Бабби.
— Лошадку и куклу.
— А тебе, Нора?
— Когда-нибудь, когда у вас будет особнительно много денег…
— Так?
— Маренький домик.
— Кукольный?
— Да.
— А что принес тебе Дед Мороз?
— Коляску и куклу.
— Сразу и то, и другое?
— Кавется, да, — сказала она.
24-го числа, после обеда, прибыл пакет с карточкой от генерала Пшемовича-Пшевицкого, адресованный тете Терезе и Сильвии, в котором оказались две пары крепдешиновых кофточек и панталоны японского производства; те, что предназначались Сильвии, были розовыми, с маленькими китайцами, вручную вышитыми по краю.
— Ах, как красивые! Ах, так прелесть! — восклицала Наташа, когда Сильвия предъявила их для осмотра. Панталоны, предназначенные тете Терезе, были зеленого цвета и без китайцев. Она была смущена и в то же время втайне польщена подарком. Хотя он был слишком бесстыден — если у генерала было нечто… такое на уме. То, что он соединил их с дочерью, успокаивало. И все-таки, неужели он думал о том, что Сильвия их наденет? Уже одно это было бесстыдным — и она даже почувствовала укол ревности. Каким все-таки нетактичным был этот человек — высокий мужчина с жесткими черными усами и коротким, седеющим ежиком волос. Многое, разумеется, нужно ему простить, ведь он вырос из простого городового! И опять же он только из Японии, дарить шелковые изделия в таких обстоятельствах — жест естественный. Недомолвками в таком ключе она перекинулась с Бертой. Однако панталоны были красивыми и напомнили ей юность — хотя в юности они не носили таких панталон.
Неделя перед Рождеством была необыкновенно скучной. Унылая жизнь. В детстве, оставаясь дома на праздники, я забирался на вешалку и представлял, что я птица. День проходил, наступали сумерки — прямо как сейчас, на Дальнем Востоке. И «Дальний Восток» напоминал о том, что мы очень далеко. Но далеко от чего? — мир все-таки кругл. Тоскливый день. Ты стоишь, прижавшись носом к оконному стеклу, и смотришь на уличное движение: мимо проносится жизнь. Ты утомлен жизнью, но она проносится слишком быстро: хуже того, ты стоишь у окна тут, в Харбине, и думаешь, что ты должен быть где-нибудь в Адрианополе. И может показаться, что, чем бы ты ни занялся — выбежал на улицу, закричал, пустился в пляс, принялся за работу, забыл, пустился в путешествие, занялся политикой, запил, женился, полюбил, — все это проскользнет так же быстро, пока ты об этом не думаешь; и едва ты попытаешься поразмыслить над этим, жизнь снова войдет в унылую колею.
Рождество выдалось холодным, но бесснежным и солнечным, и меня разбудил Гарри, пришедший за подарком. — Что такое? — спросил я.
Он улыбнулся своей старческой улыбкой, немного смущенно.
— Я ничего такого не прошу, — произнес он.
За дверью послышалась возня.
— А, это Нора в своих помпомах, — сказал он.
Она вошла, грибочек, сияя улыбкой, в красных тапочках и полосатом джемпере.
— Ты мне чего-нибудь купил? — спросила она.
— Нельзя просить, — прошептал он ей на ухо, отчего ему пришлось наклониться. И оба замерли в ожидании. Получив подарки, они сразу же убежали.
В столовой была Наташа — такая красивая, такая хрупкая, такая счастливая в своем новом розово-белом платье.
— Глянь меня! Глянь меня! — закричала она, поворачиваясь. — Закрой глаза, открой рот. — И я получил шоколадку. — Будет чуточка тортов, винегрета, мяса, чаю, печеностей, кокосов! — сказала она с шаловливой гримасой.
— Какие красивые у тебя туфельки.
— 4.25, — ответила она.
— Шанхайских долларов?
Она пожала плечами, причмокнув конфетой.
— Я не знаю, что это означать. Мне их папа купил.
Она продолжала стоять, удивляясь, почему я не восхищаюсь ее новым платьем. На ночь она завила волосы папильотками, чтобы произвести больший эффект на Гарри.
— Интересно, что Гарри скажет, когда увидит меня в новом платье! Он скажет: «Наташа, какое красивое!»
Вошел Гарри, и Наташа смущенно стала ждать, что он заметит ее платье. Но, не обращая на нее внимания, он спросил:
— А где же пендальная машина?
Его не было. Дед Мороз, пролетев над дымоходом, подвел Гарри.
— Вот черт! — сказал Гарри — и улыбнулся.
Когда появилась Сильвия, похожая на чайную розу в своем платье из жоржета цвета шампанского, Наташа пришла в экстатический восторг:
— Взгляните, взгляните! Какая красота! О! Взгляните же!
И действительно, подарок Берты пришелся как нельзя кстати.
— А, Норчик! — закричала Наташа, увидев ту, и запрыгала — а потом подняла ее за талию, что, как было заметно по Нориному лицу, не принесло ей большого удовольствия.
— Отстань! Оставь меня! Прекрати! — произнесла она.
Она стояла — грибочек, раскрасневшаяся, ужасно аппетитная.
— Ну не яблочко ли она? — произнесла тетя Тереза. — Иди сюда, на колени к твоей старой тете, мое яблочко наливное.
Нора вскарабкалась ей на колени и, нежно обвив ее шею руками, сказала:
— Тетушка Терри, ты купила мне что-нибудь?
— Видел мое платье, Гарри? — осмелилась Наташа.
— Гм… да, — ответил он, глядя на нее, сияющую. — А ты видела Норины пом-помы?
— Закрой глаза, открой рот, — приказала Наташа.
Чему он немедленно повиновался.
— Это не конфета! — закричал он, выплевывая фольгу, а Наташа заливисто засмеялась, подпрыгивая на месте и хлопая в ладоши.
Когда мы сидели за рождественским столом, явилась девственница, дядя Эммануил вышел к ней, и она принялась изводить его бельгийской справкой. Когда он вернулся, его пудинг уже остыл. В четыре часа зажгли елку. Дядя Эммануил, надевший свою самодельную форму и с особой тщательностью нафабривший усы, подарил Гарри игрушечную машинку, которая, стоило ее завести, пересекала комнату и утыкалась в стену. Но Гарри капризничал, и дядя Люси никак не мог уговорить его хотя бы немного заинтересоваться машинкой.
— Смотри, Гарри, смотри, — призывал дядя Люси, чтобы сохранить лицо и, возможно, чтобы спасти дядю Эммануила от чувства унижения. Но Гарри не смотрел и вообще повернулся к ней спиной.
— Она плохая! Я ведь не могу в нее залезть, — сказал он и тут же — шлеп! — получил от отца оплеуху. Не сразу, а словно набравшись жалости к себе, он тихонько захныкал.
— Ну что ты! Ну что ты! — говорили люди вокруг.
— Хочу пендальную машину, — всхлипывал он, утирая слезы кулаком. Он плакал все громче и громче, и пришлось, наконец, подарить ему игрушечный шкаф, который тетя Тереза подарила перед этим Наташе, пообещав подарить ей точно такой же, как только праздники закончатся. Наташа противилась.
— Нет, он мой! Он мой! — повторяла она.
Но капитан Негодяев из уважения к хозяевам приказал немедленно отдать подарок.
— Насовсем? — спросил Гарри, не веря своим глазам, и старческая улыбка появилась на его заплаканном лице, когда он принял подарок.
Наташа тихонько плакала.
— Я подарю тебе другой, Наташа, еще лучше, — протянула тетя Тереза. А тетя Молли подарила Наташе книжку «Хижина дяди Тома», предназначенную для Гарри, чтобы смягчить ее временную утрату. Наташа улыбнулась сквозь слезы, глядя на книжку.
— Без возврата? — спросила она.
— Без.
И она прогнала слезы улыбкой.
Тем временем свечи мерцали, быстро догорая… Унылая жизнь. Как быстро она проходит! Даже тогда, когда кажется, что она тяжко висит на твоих руках. Еще немного, и мы присоединимся к тем толпам, что ушли перед нами. Отчего же мы тогда не торопимся жить? Но как? Как использовать большую часть жизни? Если ты пытаешься схватить ее, она утекает у тебя между пальцами. Играла веселая музыка, а жизнь как будто остановилась. О, если бы она никогда уже не двинулась, я бы еще это вынес, — но ведь в следующий миг она ускользнет прочь — прямо в мусорный ящик… Что, черт подери, творится с этой жизнью? Я вот, например, любил встречать Рождество в чужих домах, потому что тогда мне нравилось думать о собственном; но я никогда не любил быть дома. Сейчас дети в возрасте от десяти до пятнадцати все были застенчивы и упирались, им, кажется, рождественская елка мешала.
— Какие необычные, неестественные дети! — возмутилась тетя Тереза. — Вы должны радоваться, как все остальные!
Увы! Ты либо радуешься, либо нет. К радости неприменимо слово «должен». Дядя Люси тоже был робок. Одна тетя Молли распевала «Листвою старый дуб покрыт…» своим не очень приятным голосом под собственный, не очень удачный аккомпанемент на пианино, призывая нас подхватывать. Но никто не подхватывал — по крайней мере, какое-то время. Надувшись, мы стояли вдоль стены, переминались с ноги на ногу и даже, кажется, вообще жалели, что когда-то родился Иисус Христос. Рядом с нами стояли маленькие племянники и племянницы Степана — пахучие создания с волосами, смазанными маслом, — которые тоже подпирали стену и шаркали ногами. Наконец, с трудом и благодаря инициативе Берты, механизм заработал: мы начали вставать в круг, сначала осторожно, чувствуя себя немного глупо, но постепенно набираясь смелости. Высокий дядя Люси, низенький дядя Эммануил, капитан Негодяев с деревянной ногой — все, кроме тети Терезы, — весело ходили вокруг елки. Я думал: еще какое-то время, и мы примкнем к необозримым батальонам, которые лежат в ожидании нас, и, возможно, завидуют нашему временному превосходству. Почему же тогда жизнь приносит нам такое неудовлетворение? Почему за всякой радостью кроется нотка грусти, целые пласты уныния? «Листвою старый дуб покрыт. Листвою старый дуб покрыт. Шумит листва, шуршит листва, и спорит, и ворчит, покуда песня весело не зазвучит».
— Зазвучи-ит… зазвучи-ит… покуда песня весело не зазвучит.
— Листвою сталый дуб поклыт, — пели малыши, а Норин голос опаздывал:
— …и сполит, и волчит…
— Шалит листва, шипит листва, — доносилось со стороны Бабби, Гарри и Наташи, а у Норы получалось:
— …погуда весело…
— Вор Шит! Вор Шит! — пела своим пронзительным голосом Берта, — в такой трактовке слова английской народной песни были возмутительны.
— Шалит листва, шипит листва, — пела Нора, следуя своему ритму и мелодии, а те трое в это время пели:
— Листвою сталый дуб, — и Нора, перескакивая через слова, выкрикала:
— …и волчит!
И ей, точно пронзительный паровозный свисток, вторила Берта:
— Вор Шит!
От множества зажженных свечей в комнате стало очень жарко. За задернутыми шторами Харбин сползал в сумерки, среди криков извозчиков-монголов и щелканья плеток, ощущение стыка двух соперничающих цивилизаций, пронизывающий ветер, проносящийся по голым безлюдным улицам, поднимающий клубы холодной пыли, — и город безжалостно-холодный, но бесснежный, несчастный, как бессонный больной или бесслезное сердце. Восковые свечи грустно догорели до конца. Запах горелой хвои. Музыка, смех, — а мне хотелось плакать по всем живым существам. О, почему мы должны жить? Гулянка наполовину! Кому мы доставляем удовольствие? Просто интерлюдия — и снова назад. Назад, к сердцу вселенной, слушать прибой надмирных волн, накатывающих и разбивающихся вокруг нас, грезить обо всех вещах и ни одной, забыться сном — таким крепким, здоровым сном! — навеки, навеки, навечно.
Три стульчика для игрушечных медвежат поставили в ряд. Берта, у которой было «общее знакомство» с музыкой, села за пианино, а тетя Тереза в виде особого одолжения по случаю праздника присоединилась к ней и откинула свою длинную черную шелковую юбку, усаживаясь на плюшевый стул рядом с Бертой (которая села на простой стул), — и в две руки они начали Рапсодию № 2 Листа, в то время как дети стали играть в стулья с музыкой. Гарри не отходил от стульев, готовый сесть в любую секунду, и даже иногда отказывался встать, а, выбывая из игры, снова незаметно в нее вступал и начинал борьбу за стул, как и до этого. Тетя Тереза с Бертой тем временем нажаривали рапсодию, причем тетя покачивалась в такт все ускоряющемуся ритму, как заправский музыкант или заправский наездник — или сразу оба. И поскольку отрывок, который они играли, изображал хаос, они не замечали расхождений, пока Берта не перевернула страницу.
— Voyons donc, Berthe! Я еще не прошла страницу!
— Enfin, Thérèse!
Ничего не заметили и мы, ибо это должен быть хаос — и это был хаос. Музыка резко прервалась, дети бросились к стульям, и Нора плюхнулась на пол.
После ужина доктор Мергатройд говорил о корейской психологии в свете учения Конфуция и тут внезапно обнаружил, что, прислонившись к столу с горящей свечой, он прожег дырку в заднике своих брюк. Из соседней комнаты донесся звонкий голос Скотли:
— Нет, дорогой сэр, вы от этого не отделаетесь — ха-ха-ха! Садитесь-ка, вот так, вот вам ручка, вот чернила, и приступайте — ха-ха-ха! — Он громко загоготал.
— Давайте-ка садитесь и пишите вашему маршалу, — донесся строгий голос Филипа Брауна.
— Но maréchal будет удивиться, — взволнованно возражал дядя Эммануил.
— Не извольте беспокоиться, старина. Пишите ему письмо и просите автограф, живее.
— Allons donc! Le maréchal, он просиль французский Красный Крест, а французский Красный Крест, они не получить ничего. Пошлите все в американский Красный Крест. — Краска бросилась ему в лицо, он уговаривал: — Прошу прощать, как я могу его спрашивать? Он спросиль, где есть деньги. Я сказаль — они послали их в Amérique! Nom de Dieu, enfin![76] — протестовал дядя Эммануил, дрожа всеми мышцами от возбуждения.
— Но ведь они союзники, верно? — вставил Скотли.
— Конечно, мы союзники! — подтвердил Филип Браун.
— Ну что ж, дорогой мой сэр, — ха-ха-ха! — в таком случае вы не разбираетесь в этом деле.
— Comment?
— Кому, кому! Давайте-ка садитесь и пишите письмо маршалу насчет автографа, живо.
Дядя Эммануил сел за стол и со слезами на глазах принялся за письмо маршалу, а те двое встали над ним.
Три медвежонка играли вместе, придвинув свои стульчики к столу, хотя время от времени Гарри переворачивал их магазин, и тогда слышался Наташин голос:
— Гарри! Гарри! Зачем ты делать? — и одновременно голосок Норы:
— Отстань! Жаткнись! Гарри! Отстань! Прекрати! Прекрати!
— Что случилось? — спросила тетя Молли.
— Нора съела мой шоколадный крем, — выл Гарри.
— Потому что в прошлом году он съел мое пасхальное яйцо! — с готовностью закричала Нора.
Шлеп! Шлеп! Шлеп! — раздались шлепки тети Молли — и слезы брызнули из глаз детей.
Потом они играли, как ни в чем не бывало. Обменивались друг с другом подарками. «С возвратом? Без возврата?» или «Насовсем?» Гарри обменял шоколадный батончик у одного мальчика на часы.
— Я ему вот это дал, — сказал Гарри, глядя на часы. — Оно того стоит?
Мальчик съел шоколадный батончик, а потом со слезами потребовал свои часы обратно. Гарри проколол Норин шарик, и я подумал: «Я хочу умереть вот так — просто выдохнуть».
— Гарри пинает Наташу! — жаловалась Нора маме. Но Гарри, услышав это, просто позвал: «Нора!», обнял ее, и вместе они беспечно убежали. Одна Бабби тихо играла в одиночестве.
В половине одиннадцатого, не успев лечь в постель, у капитана Негодяева случился приступ мании преследования, и он приказал жене и дочери одеваться, чтобы бежать в любую секунду. Так они сидели в жарко натопленной гостиной, полностью одетые в шубы, и пальто, и шапки, и муфты, и теплые галоши, пока, наконец, он не провозгласил: «Все спокойно!» и отправил их в постель.
К ночи дети были ошеломлены обилием подарков. Они были как в дурмане, почти несчастны; Нора просто умирала от усталости. Когда ее умыли и уложили в постель, она встала на колени и произнесла молитву:
— Иисусе кроткий мой, меня взглядом удостой, сжалься над моею простотой[77]. Боже, благослови маму и папу и бабушков и дедушков и дядев и тетев и братиков — и брата Джорджи.
Гарри тоже встал на колени.
— Листвою старый дуб…
Он запнулся. Нетерпеливый жест:
— Не то! — и упал на постель, моментально уснув.
35
После рождества наша свадьба была отложена до Нового года.
— Ты не возражаешь, дорогая?
— Нет, как пожелаешь, дорогой.
Я смотрел на нее с нежностью.
— Милые кискины глазки.
— Это чересчур слюняво, дорогой, — сказала она.
На Новый год с раннего утра к нам потянулись посетители. Явился Франц-Иосиф. Явилась специалистка по орфографии. Явилась девственница. После девственницы и дочери действительного статского советника явился мрачного вида русский генерал-майор с тусклыми безумными глазами, говоривший бессвязные речи. Хоть они и осадили меня со всех сторон, они мне нравились. Это были добрые, послушные сумасшедшие, образцовые и аккуратные в своем миниатюрном, безобидном безумии по сравнению с нашими военачальниками, одержимыми сумасшествием буйным и беспорядочным. Они дрейфовали в море бестолковости и замешательства, однако мы, серьезно и методично ведущие эту колоссальную войну, были куда больше разрушительно-тщетными в своих претензиях, были полны куда большего мучительного самообмана. Мир слетел с оси и вращался в водовороте безумия, а эти сумасшедшие вращались внутри него: колеса в колесе! И я принимал их с любезностью, к болезненному изумлению Владислава, который, указывая на Франца-Иосифа, произнес: «Во Франции с таким человеком не стали бы даже разговаривать». Настолько чувствительны, милы и уместны были они в своем собственном мире заблуждений, что мы, великие сумасшедшие, занятые войной и революцией, позволяли малым сумасшедшим спокойно блуждать на свободе — из скрытого инстинкта соразмерности, ибо было бы абсурдно запирать их в лечебницу перед лицом того, что творят люди, по общему признанию нормальные. Лечебницы и тюрьмы были открыты — и не только в России. Надо отдать должное Европе — убийцы «в розницу» получили приглашение оставить свои тюремные камеры, чтобы принять участие в оптовом убийстве, торжествующем на полях сражений.
Явился также митрополит. Vladika извинился за свой воскресный визит, но дело не терпело отлагательства, ибо касалось блага народа православного. Дело касалось водки — в прошлом причине гибели многих слабых душ. Годами правительство считало нужным травить русский pravoslavniy люд. Он считал, что для церкви пришло время принять принципиальную позицию. Что надлежало сделать? Что же, он знал, что надлежало сделать, и был бы рад, если бы я нашел способ ознакомить генерала с его схемой. Водочная монополия должна быть немедленно передана в частные руки. Монополию готов закупить мощный финансовый синдикат, и владыка осознанно был на его стороне, ибо воистину правительство не может долее продолжать систематическое отравление pravoslavnogo народа. Он общался с синдикатом. Да, синдикат хочет. Он… в общем, да, они обратились к нему.
— Однако, — заколебался я, — систематическое отравление pravoslavnogo народа будет продолжаться теми же темпами?
Святой отец откинулся назад и развел руками, точно как дядя Эммануил, желающий сказать: «Que voulez- vous?» Он помолчал.
— Что ж, это будет делом их совести, — сказал он наконец. — Мы не можем все контролировать.
— Понимаю. В таком случае синдикат будет нести личную ответственность перед Господом за отравление pravoslavnogo народа?
— Со стороны государства аморально травить народ, которым оно призвано управлять, — произнес митрополит с праведным гневом в глазах. — Частное предприятие — другое дело.
Он ушел, оставив впечатление того, что частное предприятие действительно другое дело. А я снабдил его карточкой доктора Мергатройда.
Генерал Пше-Пше (как мы теперь его коротко звали) привел с собой графа Валентина — тощего, нескладного человека с пискливым голосом, чьей единственной положительной чертой был титул. Все послеобеденное время я просидел на своем чердаке, сочиняя поддельные новогодние поздравления в адрес тети Терезы, которые якобы были получены от местных японских и китайских чиновников и их жен, и когда я вываливал их на тетю, она восклицала:
— Ах! Tiens! Encore! — наслаждаясь своей популярностью, а я шел и печатал новые.
Наташа взобралась по лестнице, как котенок, и стала просить:
— Поиграй со мной, ну поиграй со мной! — а я печатал: «Генерал Пан Ла Тун с супругой шлют свои новогодние поздравления Monsieur le Commandant и госпоже Вандерфлинт и желают им счастья в Новом году».
— Tiens! Encore une! Mais voilà un deluge![78] — вскрикивала тетя Тереза, распечатывая конверты и счастливо улыбаясь Берте. Это навевало ей воспоминания о старых временах.
36
ТЕТЯ ТЕРЕЗА ДАЕТ БАЛ
Была уже середина марта, но зима никак не отступала, белая, хрустящая, непроницаемая. Тетя Тереза стала центром городского общества; и остроты в это приключение, возможно, добавляло то, что наше полиглотское присутствие в Харбине было временным — временным, как вся жизнь на земле. Мы специализировались по приветливости ко всем. Только дети шалили. Они могли подойти к любому гостю, даже самому флегматичному, и сказать: «Вы жуткий урод», а иной раз, когда тетя Молли спускалась по лестнице в новом платье, Бабби могла отпустить в ее адрес замечание: «Мамочка, ты просто пугало огородное». Мы были сборищем необычных людей, пойманных судьбой в необычных обстоятельствах и условиях. Мне хочется думать, что игрою случая мы избегли в жизни многого приевшегося и затасканного. На аренах мировой войны и русской революции происходили какие-то события, странные перемещения семей и целых групп населения, о чем приходило мало известий, но результат чего должен был однажды сказаться.
Днем я просматривал разного рода телеграммы и письма: взваленный войной крест — то, что кому-то необходимо тратить свое время и талант на работу военного цензора. Лично мне, разумеется, было глубоко наплевать на эти письма. Мне казалось, что в этом хаотическом море мрака, где бушевали валы векового недовольства, цензура личных писем, отправленных кем-то кому-то на Дальнем Востоке России, была таким фарсом, которым следовало наслаждаться ради него самого. В то время я работал над диссертацией (ибо, как уже было сказано, я интеллектуал и не отличаюсь серьезным отношением к войнам), — диссертацией под названием «Летопись этапов эволюции отношений». Я работал над ней на чердаке и затем сбегал вниз, в гостиную, поцеловать рыжеволосую кузину — и, взбодрившись таким образом, возвращался к работе. Жизнь между тем продолжалась. Возникало ощущение — живя вот так, где-то далеко на Востоке, — что ты оторван буквально от всего, изолирован от бурлящей мозговой деятельности Запада. Однако если бы кто-то попытался установить правду, он, вполне вероятно, обнаружил бы, что в штаб-квартире западной мысли мыслители, устав от пустого механицизма Запада, нащупывают усиками полую тайну Востока. Но об этом не думалось — и потому возникало чувство «оторванности от всего». Просматривая глянцевые страницы английских журналов и натыкаясь на рекламу новых лезвий и авторучек, и как излечиться от подагры, и как обучиться чем-то новому, добиться деловой встречи, совместить приятное с полезным, укрепить волосы, сохранить цвет лица и здоровые зубы, оснастить дом всеми последними удобствами, привести в порядок пищеварение и печень и приобрести новые сорочки, ты чувствовал, что где-то далеко, далеко отсюда идет «прогрессивная», благоразумная жизнь, и что ты нарочно упускаешь преимущества своего возраста. И тогда «оторванность от всего» особенно чувствовалась.
Вы следите за рассказом? Вам интересно? Все ли вам понятно? Отлично, тогда продолжим. В четверг, 22-го числа, тетя Тереза давала бал по случаю нашей с Сильвией помолвки. Тетя послала пригласительные карточки с золотым обрезом его превосходительству генералу Пшемовичу-Пшевицкому et fils[79], графу Валентину, майору Скотли, лейт. мор. флота США Филипу Брауну, полковнику императорского генерального штаба Исибаяси, доктору Мергатройду и — несмотря на то, что они жили в нашей квартире, — капитану Негодяеву с супругой. И поскольку обещанный Брауном оркестр с американского флагмана не прибыл, генерал Пшемович-Пшевицкий предоставил в наше распоряжение военный духовой оркестр.
В тот же день мне нанес визит граф Валентин и оставил карточку размером с почтовую, в которой стояло:
ГРАФ ВЛАДИМИР ВСЕВОЛОДОВИЧ ВАЛЕНТИН
Заместитель Директора Почт и Телеграфов; Помощник Главного Инспектора по Связи в ранге Исполняющего Обязанности Президента (с неограниченными полномочиями) Особой и Чрезвычайной Комиссии, созванной для обсуждения вопросов, возникающих в отношении реквизиции помещений, отведенных представителям Союзнического контингента на Дальнем Востоке и унификации мер по защите Государства против врага; а также Верховный Инспектор Временной комиссии по налогам и сборам.
И поперек карточки было написано:
Явился засвидетельствовать свое почтение по случаю дня рождения Его Величества Короля Англии. Но когда я встретил его на лестнице, постепенно выяснилось, что основным побудительным мотивом его визита было выпросить британское нижнее белье и, быть может, пару артиллерийских ботинок. Граф Валентин пояснил, что его благородное семейство родом из Англии и по этой причине он любит английскую одежду. Наклонившись, он потрогал мои кавалерийские ботинки и сказал:
— Красивые. Где бы мне раздобыть такие? — Повертел пуговицу на моем кителе. — Très chic![80] Мне бы хотелось пошить куртку по фасону вашего кителя, если вы позволите мне забрать его на пару дней. К сожалению, весь мой гардероб остался в Петрограде, и мне ужасно неудобно в этой неподходящей одежде.
Я смотрел на него и думал: «Единственное положительное качество — то, что ты граф». Он все кланялся и кланялся, а потом, не переставая кланяться, исчез.
Холодный ветер хлестнул меня по лицу, мокрый снег валил хлопьями с мрачного неба и таял, едва коснувшись земли. Дом готовили к приему под компетентным руководством Владислава. Сильвия, сияющая, прекрасная, наряжалась на бал. Туфли немного жали ей в носке, она быстро уставала. Я подошел со спины.
— Милые кискины глазки.
— Ну что за слюни, дорогой, — сморщила нос она.
Но на балу возникало ощущение (если не держаться соответствующим образом), что ты сделал одолжение, явившись сюда. Fils Пше-Пше, генеральский адъютант, низкорослый, веснушчатый молодец в казачьей форме, танцевал мазурку с Сильвией, притаптывая, звеня шпорами и с величайшим мастерством падая на одно колено. Было много девушек и столько же юношей, среди прочих — мичман-француз с бровью, тронутой сединой, и Гюстав Буланжер, служащий местного бельгийского банка, лет тридцати пяти, с пшеничными усиками, большим круглым подбородком и маленькими зубами. Улыбаясь, он показывал два черных зуба по уголкам рта.
— Ха-ха-ха-ха-ха! — смеялась Сильвия.
Окруженная молодыми людьми, она немедленно рассыпалась смехом: «Ха-ха-ха!» Но Гюстав Буланжер так ничего и не сказал. Он только потирал широкий подбородок двумя пальцами и улыбался.
Рядом с тетей находился доктор Абельберг, с недавних пор ее врач. Тетя Тереза вечно меняла своих врачей, потому что, как правило, они ничего у нее не находили, а этого она вынести не могла. Они словно крали ее врожденный престиж. Тетя Тереза давно научилась смотреть на смерть и болезни как на собственную частную монополию и часто говорила нам, что долго с нами не задержится. Когда Берта свалилась с инфлюэнцей, тетя Тереза сочла это нахальством и объявила, что ничего страшного с Бертой не происходит. Предпоследний врач посоветовал тетушке чаще разминать ноги, выходить наружу и делать зарядку, по возможности играть в гольф; и она немедленно прогнала его, назвав медведем. «Бесчувственный дурак! — выразилась она, — Не знает своего дела!» И вот она нашла своего человека в докторе Абельберге. Естественно, он был приглашен на бал. Он стоял рядом с ней, высокий, сорокалетний мужчина с лысой, как бильярдный шар, головой и черным венчиком волос на висках, — любезный человек, чья обходительность приобретена посредством постоянного ухода за очень нервными и сложными пациентами; врач, руководствовавшийся единственным аргументом при выписывании лекарства — чтобы оно не причиняло пациенту никакого вреда. Иногда я поражаюсь, почему врачи мрут как мухи, — наверно, потому что не имеют присущих неспециалистам, укрепляющих иллюзий в силу лекарств и случайным самовнушением ускоряют свой конец.
— Могу ли я поехать в Японию весной, доктор? — спрашивала тетя.
— В Японию… Ну, в общем…
— Я знаю, что я должна. Должна. Должна!
— Ну да, вы должны.
— Но вы же знаете, что я не могу. Как я поеду?
— Ну, не думаю, что в этом есть нужда — пока. Это не пойдет вам на пользу. Более того, может повредить. Оставайтесь на месте и слушайтесь меня.
— Доктор все время говорит, что здоровье прежде всего, правда, доктор? — сказала она с лукавой улыбкой.
— Еще бы, ведь его не купить и за большие деньги.
— Я так смекаю, вам она платит достаточно — ха-ха-ха! — загоготал Скотли.
— Если бы здоровье позволяло, — вздохнула она, — я бы наслаждалась жизнью. Я бы ходила в оперу. А пока мы были там всего дважды — на «Фаусте» и на «Аиде».
— Я слышал об этом, — сказал доктор с поклоном.
— От кого?
— От друзей. Говорят, вас все обсуждали, и вы были очаровательны.
— Когда это было? — спросила тетя.
Вопрос его озадачил и осадил.
— О… в среду вечером.
— Нет, это было давно — летом, — сказала она. — С тех пор я никуда не выходила. Пролежала всю среду. Ночью у меня разыгралась ужасающая мигрень. В какой-то момент мне стало так плохо, что я подумала, что не снесу этого.
— Я знаю, я очень о вас беспокоился — очень и очень. Надеюсь, сейчас вам лучше.
— Доктор, — произнесла она, — мне кажется, я должна начать прием Ferros ferratinum.
Он ответил, подняв палец:
— Для вас это будет самое лучшее.
Кажется, она действительно нашла своего человека.
Спустя какое-то время Гюставу Буланжеру, у которого был высокий, но очень слабый тенор, было предписано спеть для нас. Он откашлялся, нервно погладил горло, словно регулируя свой кадык. Настраивал свой духовой инструмент. Казалось, что если он не настроит свой голос на нужную ноту, тот сорвется и зазвучит в другом ключе. Настроив глотку, он спел нам «Ich grolle nicht»[81] под умелый аккомпанемент графа Валентина, однако из почтения к тете Терезе и ее покойному сыну сделал вид, что слова песни не немецкие, а нидерландские. Правда, тетю это не волновало; кроме того, она знала немецкий, а ее сын пал от рук своих же бельгийцев.
Когда он кончил петь, мы шумно зааплодировали. Но Гюстав так ничего и не сказал. Он лишь потер широкий подбородок двумя пальцами и улыбнулся. Когда граф Валентин был еще за пианино, мальчики-китайцы внесли подносы с мороженым на стеклянных тарелочках, и генерал Пше-Пше приблизился к тому месту, где сидела тетя Тереза, с блюдечком клубничного мороженого.
— Нет, благодарю вас, генерал. Доктор запретил мне мороженое.
Доктор был задумчив. Потом произнес:
— В моем присутствии можно. Только не клубничное.
— Но я терпеть не могу ванильное!
— Ну, это в самом деле не важно. Только ешьте медленно.
Танцы были в самом разгаре, Владислав отошел от входной двери, и в это время вошла девственница и, пока никто не смотрел, упала в приемной в обморок.
— Невозможно! Невозможно! — вскричала тетя Тереза, когда Владислав доложил, что на полу в приемной лежит мертвая женщина.
— Невозможно! — как эхо, откликнулся доктор.
— Но кто она? Говорю вам, это невозможно!
— Невозможно!
— Но, доктор, она жива! — закричала тетя Тереза, узрев, что девственница дергается на полу.
— О да, как врач могу подтвердить этот факт.
— Я просто не поверила этому.
— Я тоже.
— Это из-за жары в помещении, доктор?
— Определенно жары, — с поклоном произнес он. Она вздохнула.
— Да… здесь жарко.
Он тоже вздохнул.
— Chaleur de diable![82] — пробормотал дядя Эммануил.
— Немедленно телефонируйте в больницу, — скомандовал доктор Абельберг.
— Телефонируйте! — повторил Владислав с малодушием в голосе. — Вы, конечно, можете телефонировать, а можете не телефонировать. Все одно. Вон во Франции есть прекрасно оборудованные госпитали и разное прочее. А здесь, — униженный жест, — вам будет безопаснее дома, чем в больнице. Тут как-то мой двоюродный брат попал в больницу, переполненную до отказа; беднягу положили прямо на пол в коридоре; два дня он так там и пролежал, а на третий отдал Богу душу. А они говорят: «Нам некогда. Говорили же вам, что больница полна». А когда они пришли его осмотреть, его череп уже раскололся надвое о плинтус.
Мы перепробовали все больницы, но все были переполнены; и на Берту пала обязанность вернуть девственницу к жизни.
Пока же тетя Тереза вернулась в гостиную, где генерал Пше-Пше меланхолично говорил:
— Меня не понимают! Не понимает жена, не понимает дочь, не понимает сын. Никогда! Только вы (он скользнул по ее бледной руке своими колючими черными усами), вы одна! Только тут я доволен. Это мой духовный дом.
Доктор Абельберг уходил последним.
— Что же теперь, доктор? — приставала к нему тетя, провожая его из гостиной.
Соединив кончики пальцев, доктор Абельберг произнес:
— Соляные ванны утром и вечером. Холодные и горячие компрессы. Полоскания до и после еды. Покой, покой и еще раз покой.
— A Ferros ferratinum? Бросить?
— Бросьте!
Я вышел за ним в переднюю.
— Доктор, — обратился я, — скажите мне насчет тети Терезы. Существует ли настоящий повод для беспокойства?
— А! — махнул он рукой с беспечным видом и наклонился к моему уху. — Хотелось бы мне такое самочувствие, — прошептал он, — ведь она здорова, как лошадь. — И он пожелал мне спокойной ночи.
37
ИСХОД ПОЛИГЛОТОВ
После бала граф Валентин нанес мне визит, дабы засвидетельствовать свое почтение по случаю рождения Его Величества Короля Бельгийцев, и ненароком осведомился, нельзя ли достать для него офицерский ремень наподобие моего. Явился также генерал Пше-Пше.
Оставшись наедине с тетей Терезой, он сказал:
— Меня не понимают! Моя семья меня не понимает! Но здесь, с вами, мне спокойно, здесь я дома. — Он скользнул колючими усиками по ее тонкой руке. Слезы навернулись ему на глаза. — Да-с, — сказал он. — Да-с.
Свадьба должна была состояться сразу же после того, как часть дядиного потомства выедет в Англию. Первая партия Дьяболохов — в составе замужних дочерей и их мужей, нянь и младенцев, включая Тео, — отплыла в четверг. На вокзале, пока мы ожидали поезд, к Тео подошел другой ребенок и в свойственной детям простецкой манере укусил его за бровь. Вторая партия Дьяболохов отплыла в субботу. С ними была и рыжеволосая кузина. Первая большая чистка, первая уборка, и сразу же стало легче дышать, легче разглядеть знакомые лица в остающейся массе. Казалось, что теперь-то уж мы с Сильвией именем Божьим можем вступить в брак и беспрепятственно жить в собственной квартире. Дядя Люси остался с тетей Молли и младшими. Он расхаживал по комнатам с серьезным лицом, размахивая молотком и пытаясь найти себе применение, однако казался вне своей стихии. Бедняга! Не в лице крылась причина — у него была неулыбчивая душа. Еще он скупал рубли — и его пессимизм при их подсчете был оправданным. А уже донеслась до нас новость, что первая партия Дьяболохов достигла Англии, и что мой старший двоюродный брат, художник-модернист, из-за отсутствия других средств к пропитанию занялся в Суссексе покраской велосипедов; а мы так еще и не поженились. Военное министерство явно теряло интерес к нашей авантюре. Пикап получил приказ возвращаться на родину. Это была первая ласточка. После этого однажды пришла депеша с предписанием полного вывода в скорейшие сроки нашей миссии с Дальнего Востока. Когда я за ужином сообщил эту новость, тетя Тереза потеряла дар речи и немного побледнела.
— Но что ты будешь делать? Ведь ты не можешь оставить нас здесь одних? А мы не можем ехать в Европу с тобой, потому что у нас нет средств! Разве ты не можешь написать об этом в министерство? Не могу ли я… — Она не договорила. — Разве он не может, Эммануил?
— Ah, mais non, alors![83] — воскликнул дядя Эммануил, словно оскорбившись нарушением военных приличий.
— Странно! Эти люди в министерстве ничего не понимают!
День свадьбы был временно назначен на 13 апреля, но тетя Тереза была грустна и всеми силами старалась избегать любых разговоров о каком-либо определенном решении этого вопроса.
— Ты никогда обо мне не думаешь, никогда не думаешь о своей бедной больной тете, — жаловалась она, намекая на то, как тяжело она воспримет надвигающуюся утрату своего ребенка, которого я собирался от нее увести.
— Думаю. Я всегда думаю о вас, ma tante. Я думаю: «Господи, какая удача для нее — иметь такого замечательного племянника!»
По тетиному поведению было не сказать, что она восприняла это как невероятно удачную шутку; и, чуточку поразмыслив, я согласился, что удачной шутка не была.
— Озорник! Озорник! — после паузы сказала Наташа, грозя мне пальцем. — Ты озорник!
— Джорджи-Порджи, пирожок, — сказала тетка.
— Джорджи-Порджи! — повторила Наташа, заливаясь хохотом. — Джорджи-Пордж-ж-ж-ж.
Я смотрел на тетю с состраданием. Бедная женщина, в моих глазах она была умственной, моральной, физической и, более того, финансовой развалиной! — Видите ли, — произнес я, неожиданно загоревшись мыслью излечить ее самовнушением, — с вами ничего серьезного, кроме того, что вы сами себе внушаете. Вы должны повторять: «День ото дня мне становится все лучше и лучше».
— Но ведь мне не становится. Enfin, c’est idiot![84] Как я могу говорить, что мне становится лучше, если мне становится хуже?
— Осторожнее! Вам станет хуже, если вы будете так говорить.
— Но мне и так худо.
— Ну и удачи вам, — раздраженно сказал я.
— Однако что я могу сказать, если мне становится все хуже и хуже? Ты хочешь, чтобы я себе лгала?
— Тогда говорите: «Мне становится не лучше и лучше, а совсем наоборот».
— А так будет правильно?
— Ну, так будет в любом случае лучше.
Но ни к чему это не привело. Тетя Тереза сказала, что от моего самовнушения с ней случился une crise de nerfs. Она уверяла меня, что ей стало хуже. Тетя не была хорошим последователем метода месье Куэ[85]. Вся загвоздка же была в том, разумеется, что она не хотела чувствовать себя здоровой, не хотела, чтобы мы допускали мысли, что она этого хочет. Но младшие дети потянулись к Куэ, как утка к пруду. Тете становилось все хуже и хуже, а Нора говорила нам, что ей все «луче и луче». Привело все это к тому, что те из нас, кто чувствовал себя плохо, чувствовал себя не очень хорошо, а те, кто чувствовал себя хорошо, чувствовал себя еще лучше. По словам доктора, тетя Тереза не совсем больна. Но сама она считала, что больна, и на самом деле чувствовала себя так, как будто была больна. Было ясно, что у нее «комплекс». Я начал подумывать о том, чтобы применить к ней для ее же блага открытия Фрейда и Юнга с тем, чтобы освободить ее от «комплекса». Мне довелось прочесть только несколько страниц из «Введения в психоанализ» Фрейда, пока я дожидался друга в Оксфордском союзе. Я, правда, знал, что вся суть заключалась в разрушении «комплекса», чтобы освободить пациента от его заблуждения или недуга. Ясно, что тетя Тереза была влюблена в саму себя. Во всяком случае, таков был мой диагноз. Перевести тетушкин нарциссизм в нормальное русло стало теперь моей серьезной целью. Но я начал не на шутку нервничать, как бы тетин Нарцисс не перекинулся на меня, как предупреждал Фрейд, и как бы моя тетя не воспылала ко мне страстью, не приличествующей тетям. Я начал с того, что произнес лекцию по психологии. В течение полутора часов я говорил о моторных центрах, автобусных центрах и железнодорожных центрах, о сознательных и бессознательных рефлексиях — и подобной чепухе. Тетя напряженно слушала меня и делала вид, что понимает.
— В вас есть нечто, что требует выхода и не может его найти, и это вас беспокоит. — Я взял ее руки в свои. — Тетя Тереза, дорогая, скажите же мне.
Она застыла, но промолчала. И во мне снова проснулся страх, что тетин Нарцисс влюбится в меня через «перенос». Настроение мое о ту пору, пропорционально приготовлениям, неуклонно склонялось против брака. Я не циник; однако та брачная жизнь, которую я в нашем доме имел возможность наблюдать, определенно настроила меня против себя на всю оставшуюся жизнь. Только вчера я слышал, как женатый мужчина сравнивал брак с тухлым яйцом. «Потому что, — пояснил он, — снаружи все выглядит хорошо, и ты не узнаешь, что оно тухлое, пока его не попробуешь». Вы можете укорять меня в любовном непостоянстве. Но какой писатель может быть уверен в заработке с такой непостоянной публикой, как наша? Вот вы, например, читаете сейчас эту книгу — но это совсем не значит, что вы ее купили. В последнее время я стал с досадным постоянством ощупывать языком свой клык. Подойдя к зеркалу, я раскрыл рот и заглянул туда. Вот так дупло! Нет, войны не проходят безнаказанно. У зубного врача я был довольно давно. И тут до меня дошло, что если я женюсь на Сильвии (у которой уже есть золотая коронка в глубине рта), я должен буду оплачивать ее визиты к стоматологу вдобавок к своим, ибо все эти пломбы, коронки, великолепные мосты и прочее, посредством чего она захочет облегчить наступающую дряхлость, будет охранять от полного разорения до тех пор, пока в один прекрасный день опасность уже не сможет быть предотвращена, и она закажет себе вставные челюсти — верхнюю и нижнюю, — за что придется заплатить мне. Из каких средств? Литературных, горе мне! Дедушка заворочался в своем гробу.
Нищета — и дети подхватят корь. Зима — и кончится уголь. От плохого к еще худшему, пока ты не окажешься без пиджака, в однокомнатной квартире, где за столом, заставленным сковородками и блюдцами, ты будешь сочинять свой труд «Психологический анализ последовательных этапов в эволюции отношений», а дети будут под боком реветь: «Ни хачу-у!» Сильвия, тощая, изнуренная, скорее всего, превратится в стерву. Чтобы не дать им умереть с голоду, ты стиснешь зубы и напишешь роман. Вот, наконец, он закончен. Ты посылаешь его в «Плаксворт» 7 ноября, а 15 декабря его уже тебе возвращают; в тот же день ты посылаешь его в «Джейн Санс», и «Джейн Санс» возвращает его тебе 3 января, и в тот же день ты посылаешь его в «Норман Элдер», из которого он возвращается 15 марта.
Неожиданно я уснул. Мне снилось, что мы обедаем в ресторане, и Сильвия возражает: «Я хочу французского вина!» Официант возвращается, у меня нет денег, и я разражаюсь слезами. Просыпаюсь весь в поту.
Нет, я не хотел жениться.
После полдника я поднялся к себе на чердак, намереваясь засесть за плодотворные труды. Но мои путаные мысли упорно восставали против этого намерения и упорно гонялись за теми бегущими ручейками, источником которых была Сильвия. Наконец, я отложил бумаги и спустился к ней. При виде ее мне снова представилась наша будущая жизнь, когда я, возможно, буду плохо к ней относиться; и, поскольку я хотел к ней относиться хорошо, я горел желанием расторгнуть этот союз, пока не поздно; и все же я знал, что она, не ведая, что этим мы избегнем будущие несчастливые времена, будет страдать при мысли об упущенном счастье; и мне было больно оттого, что я не смогу поверить ей свои многочисленные соображения без того, чтобы ее не ранить.
— Дорогая, только откровенно — хочешь ли ты выйти за меня?
— Да.
— Почему?
— Это так замечательно — быть замужем, дорогой. Всегда быть вместе. Жить в одном доме. Чувствовать одно и то же. Иметь один мысли.
Сильвия играет «Четыре времени года». Я приглашаю ее прогуляться, но думаю о своем, — хоть мы и близко, нет более далеких людей.
— Все это можно устроить и без брака.
— Но я хочу детей… от тебя.
— Мы пошлем нашего сына в Нью-Колледж.
— Да, да.
Я говорил тете Терезе в ходе наших психоаналитических экспериментов:
— Если в вас есть-то раздражающее, попробуйте его изолировать и сказать мне, что это, — и мы попытаемся его перенести.
Клянусь, что никогда не говорил это с задней мыслью. И спустя какое-то короткое время мои эксперименты доказали свою безуспешность. Только когда приблизилась наша свадьба и последующий отъезд в Европу, тетя Тереза сказала мне:
— Я начинаю верить в психоанализ. Что-то меня раздражает, и поэтому я так болею.
Она послала за доктором Абельбергом и спросила его, есть ли что-нибудь в психоанализе.
Доктор подтвердил, что есть.
Когда он ушел, она призналась мне:
— Доктор Абельберг спросил, что меня беспокоит. И когда я сказала ему, что это — страх расставания с моей единственной дочерью после гибели единственного сына, он сказал, что для меня такое беспокойство будет гибельным.
Бедная тетя Тереза! Мы совершенно не понимали, что мы с ней творим. Нам не приходило в голову, что это для нее тяжело — вырастить ребенка и потом неожиданно с ним расстаться. Она не видела никакой надежды поехать в Европу вместе с нами. Скорее всего дядя Эммануил получит работу в банке Гюстава Буланжера, и тогда единственная ее надежда увидеться с дочерью пропадет навсегда. Но об этом мы и не думали. Я вскипал при единственной мысли об «эгоистическом» вмешательстве с ее стороны. И все же я знал, что если уеду с Сильвией, то мне будет очень жалко тетю. Я не был настолько убежден, потому что не верил, что мы с Сильвией можем уехать. Если мы бы облились слезами и попросили ее простить нас, она бы нас простила и смирилась бы со своей горькой участью. Но мы этого не сделали; и, изолировав с моей помощью свой «комплекс», она ни в коем случае не забыла о нем.
Следующую новость сообщала мне Сильвия, проговорив: «Все кончено», — вся в слезах, пытаясь успокоиться, и я, не зная, радоваться мне или сожалеть, или скорее сожалеть на фоне своей радости, приложил все усилия, чтобы уговорить ее выйти за меня, наполовину удовлетворенную, наполовину оскорбленную моей очевидной неудачей убедить ее. Сначала мы поженимся, я уеду и потом вернусь за ней.
— Нет!
Какое-то время казалось, что Сильвия решила воспользоваться своей властью — отмстить за свои страдания — и выступить за свою свободу, не взирая на чувства матери. Но это намерение рухнуло, так и не свершившись.
Сильвия и тетя Тереза вместе поплакали. Но слезы их были разными. Дочь была настоящей героиней. Она плакала, но встретила вызов храбро, и только, моргая, слушала; она так и не обнажила своей раны и полностью, без укора пожертвовала своим счастьем.
И это было принято быстро, без особого шума.
— Сильвия! Опять! — сказала тетя Тереза.
Сильвия мигнула.
Трагедия нашей ситуации была не в том, что тетя Тереза заставила нас сдаться, а в том, что, принимая во внимание каждое обстоятельство, включая тетю Терезу, мы так и не смогли решиться ни на то, ни на другое. Мои побуждения раскололись: одна часть вступила в союз с тетей Терезой, а другая осталась на стороне моей возлюбленной. Но что пользы в разъяснении разнообразных мотивов чьих-то мыслей и поступков? Думаю, это общая ошибка всех романистов. Почему я должен отбеливать свою совесть с помощью вашей скуки или тратить время на то, чтобы полная случайностей жизнь, выглядела рациональной на бумаге? Почему я должен оправдываться? Зачем притворяться, что мои поступки были разумны или даже логичны? Мое поведение было сложным, иррациональным. Не все ли равно?
Я рассмотрел вопрос с разных точек зрения — с точки зрения моего нынешнего счастья, моего будущего счастья, счастья Сильвии, если я на ней женюсь, счастья Сильвии, если я не женюсь на ней, — и пришел к различным выводам. Я рассматривал этот вопрос, когда раздевался на ночь, и, обдумывая его, обнаружил, что я снова оделся, надел ботинки и уже завязываю галстук. Раздевшись опять, я снова обдумал вопрос со всех точек зрения одновременно, продемонстрировав по-настоящему бальфурианскую многосторонность. Но, подобно моему царственному шекспировскому тезке, под конец я не пришел ни к одному выводу. На мне лежит проклятие гамлетовского бездействия. Россия слишком глубоко проникла в меня. Зачем меня назвали Гамлетом? Зачем эта рвущая сердце дилемма? Как и у него, у меня был дядя — даже два — но не было явной причины, почему я должен был убить какого-то из них. В моем случае не было такой жестокой необходимости. Правда, мой долг, возможно, состоял в том, чтобы убить свою тетку. Если и так, читатель должен меня простить — я этого не сделал.
38
И тогда — как однажды вынесенный приговор исполняется без отсрочки — так и тетя Тереза, избавившись от меня, раскрыла свои карты. Я все время подозревал, что у нее запрятан козырь в рукаве. Но выбор ее меня поразил. Правда, для нее Гюстав Буланжер был кандидатом на голову выше всех остальных. Он был бельгиец, и он жил на Дальнем Востоке. Но рано или поздно его домом станет Бельгия, а она надеялась,что рано или поздно все они в Бельгию возвратятся. Ее метод соблазнения Гюстава браком со своей дочерью был одновременно быстр, эффективен и, если вы помните мой случай, беспрецедентен. Она дождалась, пока они останутся наедине, увлеченные невинной болтовней, и тогда она пала на них сверху, как коршун с небес, с сердечными поздравлениями и наилучшими пожеланиями их будущему счастью.
— Как же я рада, как рада! — говорила она, целуя в щеку их, взятых совершенно врасплох. Гюстав откашлялся и настроил кадык, но промолчал, только потер двумя пальцами широкий подбородок и улыбнулся. После чего ему пришлось искать возможность купить кольцо для Сильвии, которое она надела на палец рядом с моим — тем самым, на котором я когда-то призвал положить меня, как печать, на сердце ее.
Было сложно понять, что обо всем этом думает Сильвия. В противоположность мне, Гюстав не был красив. У него были маленькие пухлые руки, усеянные веснушками, и нелепые канареечные усики. Его большая голова на макушке была увенчана плешью, которую он тщетно пытался прикрыть тем небольшим, что еще оставалось от его волос, и у него были до смешного маленькие зубы в сравнении с шириной его подбородка. Гюстав был завзятый холостяк и, возможно, не одобрял надвигающегося брака. Но вообще-то было сложно узнать мнение Гюстава по какому то ни было вопросу. Потому что Гюстав никогда ничего не говорил. Он только поглаживал подбородок двумя пальцами и улыбался. И каждый раз его улыбка обнажала два черных зуба по углам его рта.
Я думал: мы жили осторожной, умеренной, скаредной жизнью. Мы были трусами, предпочитавшими, чтобы наша жизнь была серым, средненьким компромиссом, нежели живым разноцветьем радостей и печалей. И вот сейчас она, моя тетка, чья собственная безоглядная и безрассудная жизнь напоролась на камни, хочет преуспеть на небольших сбережениях нашего счастья. Не бывать этому! Не бывать!
— Не бывать тому! — произнес я.
— Нет, дорогой.
— Что «нет»? — спросил я, зная, что Сильвия, которая терпеть не могла неприятностей, была чрезмерно послушлива.
— Нет — то, что ты имеешь в виду, — ответила она, мигая.
Она выглядела так, как будто имела про запас какой-то козырь. Но я знал, что это была всего лишь попытка с ее стороны скрыть то, что про запас у нее ничего не было, отчего ей было стыдно. Ее поступки не имели под собой почти никакого мотива, она шла по пути наименьшего сопротивления, но, зная, что в цивилизованном обществе от тебя ожидали хоть какого-то разумного мотива для каждого поступка, она изобретала мотивы — очень часто, когда уже совершала поступок.
— Не расстаемся?
— Нет, дорогой.
— Тогда к чему это все?
— Маман, — сказала она и замолчала.
— Хочет нас разлучить?
— Да, дорогой.
— На шестнадцать тысяч миль.
— Так жестоко! — произнесла она.
— Но хочешь ли ты за него замуж?
— Дорогой, меня так легко убедить.
Она смотрела на меня в сомнении, ожидая твердой руки.
— Тогда давай убежим вместе в Англию, — предложил я довольно неубедительно. Мне закралась мысль о стоимости поездки, и дедушка заворочался в своем гробу.
Она онемело смотрела на меня, склонив голову, мигая.
— Убежим?
— Мы не можем, дорогой. Маман.
Видимо, она хотела, чтобы я отверг ее кроткие протесты своими побуждениями, но я принял ее протесты, и это ее укололо.
— Тогда что нам остается делать? Жениться — и сразу разойтись? Жениться и, пока ты останешься, я уеду?
Она лукаво взглянула на меня:
— Как хочешь, дорогой.
— Но… но что хорошего в том, если твоя мать никогда не отпустит тебя? Что хорошего? Кроме того, она может выдать тебя замуж в мое отсутствие. Нет, она не сможет, но все равно, что пользы? Дорогая, ответь же.
— Мне все равно. Ой, дождь начинается. Я должна закрыть окно. Ну и ветрище! Мне все равно, дорогой.
— Но мне не все равно. И будь я проклят, если я сделаю что-нибудь подобное. — Мне было горько и обидно от тетиного эгоизма. Я чувствовал, что мы жертвы вопиющей несправедливости. — Или мы женимся сейчас же, и ты едешь со мной, или… распрощаемся навсегда.
Она грустно молчала и, наконец, произнесла:
— Дорогой, я не могу.
— Ты должна!
— Нет, дорогой.
— Да, решено. Мы отъезжаем вместе. — И даже когда я произносил эти слова, я почувствовал укол жалости к тете Терезе, которая уже потеряла единственного сына — и теперь теряет единственную дочь.
— Нет, нет, это так опечалит маман!
— К черту маман! К черту всех маманов!
— Ну, зачем ругаться? Мы просто должны остановиться на самом лучшем, вот и все.
— Мы можем остановиться на лучшем только с помощью ругани.
— Не будь таким противным, дорогой.
— Я не противный.
— Будь хорошим мальчиком.
— Я и есть хороший мальчик. И твоя маман тоже была бы хорошей, если бы не ее лживость, нечестность, грубость и крайний эгоизм.
Именно потому, что я прекрасно знал сдерживающую меня нерешительность и был на себя за эту нерешительность зол, сейчас я с радостью перекидывал свой гнев на тетку, тогда как душа сгибалась под тяжестью несправедливости, так что я едва ли не плакал навзрыд от горя.
— Мы должны остановиться на самом лучшем для нас, — сказала она, — Да, дорогой, нужно сделать только это.
Нужно был сделать не только это, но я не мог делать ничего, что нужно было, аж сердце щемило.
— Мы обязательно встретимся, мы можем думать друг о друге, — сказала она.
— Скорее всего, мы никогда больше не увидимся.
— О, не говори так! Мне становится так грустно, дорогой. — Она помолчала и произнесла: — Я буду тебе верна. Мы так или иначе встретимся снова, я чувствую, что встретимся. И не флиртуй ни с кем пока, ладно?
Я вздохнул.
— Что ж, полагаю, мы должны выбрать лучшее для себя, это очевидно. Но…
— Не беспокойся, дорогой.
— Конечно… это даже может быть к лучшему… кто знает? — оживленно произнес я.
— Да, не беспокойся, дорогой.
— Ведь мы могли бы быть несчастливы друг с другом, так что взбодрись!
Она слушала, моргая.
— Вечно бы ссорились и позже развелись бы… Но почему ты плачешь?
— Я плачу, — всхлипывала она, — потому что это меня ранит.
Она всхлипывала у меня на шее, прижавшись мокрой щекой к моей, и я говорил нежные глупости: «Ты моя мышка, мой котенок, птичка моя, цыпленок!»
Она подавила рыдание.
— Не цыпленок.
— Милые кискины глазки.
— Нет, дорогой, не будь слюнявым.
— Но я это так… для тебя, — ответил я.
— Нет, дорогой, я не люблю эти слюнявые вещи.
— Ну ладно.
Она засмеялась своим звенящим серебристым смехом, таким прелестным.
Наш раздольный пессимизм, что это такое? Щенячий визг. Жизнь наносит рану, и вот ночь беззвездна, и мир — опустошенное пространство, где только ветер стонет, бормочет и жалуется в отзвуках наших голосов. Но мы идем дальше, удивленные, немного озадаченные, инертные, погруженные в свои грезы и не задающиеся вопросами. В сумерках гостиной, рядом с тетей Терезой сидел генерал Пше-Пше и говорил:
— Мы с женой не ладим между собой. Мои дети тоже не то, что надо. Но здесь, с вами, я чувствую себя дома. — Он поцеловал ей руку. — Здесь я отдыхаю душой. — Он поцеловал ей руку еще раз. — Это… мой духовный дом! — Опять поцеловал руку. — Когда я иду домой, половина моей души остается здесь, в этой квартире. О, моя красавица! — Он поцеловал ей руку. Тетя Тереза возвела очи небесам, словно жалуясь на то, какая это нагрузка для нее, женщины деликатного здоровья.
— Я вижу все через вас и ваше существование. Если я слышу песню, которую вы никогда не слышали, мне доставляет мучение мысль, что она была напрасна. Если я слышу мелодию или вижу картину или что-нибудь подобное, что знакомо вам, мне равным образом мучительно думать, что они завладели вашим вниманием, пусть на мгновение, но завоевали ваше почитание, вашу любовь, и что я… я… я… я этого не смог, не смог… лишь слепое равнодушие.
Он не мог говорить. Его одолевала жалость к себе; его душа обливалась слезами. Она возвела очи к небесам, призывая дать ей сил это вынести, — но отнюдь не недовольная.
В дверях стоял Гарри.
— Что такое? — спросила она, чувствуя себя глупо, будучи застигнутой на диване в обществе Пше-Пше.
— Ничево. Я ничево не прошу.
39
В. Шекспир, «Гамлет»
(Лер. М. Лозинского)
Пришло 11 апреля, Норин день рождения. Тетя Молли уже неделю была в Японии, взяв с собой Бабби и оставив Гарри и Нору на попечении «тети» Берты, — ибо их собственный отец, по ее мнению, был фактор слишком ненадежный, чтобы полагаться на него в этих вопросах. Дети мило играли друг с другом и совсем никому не досаждали. По утрам, перед обедом, Берта вела их в город на прогулку, и они шли перед ней, в застегнутых на все пуговицы теплых пальто и толстых гетрах, Гарри вел Нору за руку. По возвращении они рассказывали о том, что видели на улице большую собаку, или Гарри вскарабкивался ко мне на чердак, где я работал, и: «Вот!» — вручал мне большой гвоздь. Трижды в неделю Гарри ходил в недавно организованную школу для англо-американских детей, и иногда Нору посылали вместе с ним за компанию. Он входил в класс со своей старческой улыбкой на лице, ведя ее за руку, и она сидела за партой рядом с другим мальчиком (который ее периодически щипал), болтая ногами, и рисовала что-то карандашным огрызком. И когда она дергалась оттого, что сосед по парте ее щипал, Гарри, сидевший позади, поднимал руку: «Можно, учитель?», — чтобы покончить с этим. Ее научили, что нужно говорить, чтобы встать и выйти, что теперь она делала с независимым видом, поднимая руку: «Можно мне?» — и учитель милостиво кивал. Однажды, когда она вернулась в класс, Гарри, оценив положение, поднял руку: «Можно, учитель?» — и, подбежав к сестренке, с серьезным видом застегнул ей панталоны на виду у всего класса.
Я работал над своей диссертацией «Летопись этапов эволюции отношений», когда послышались его шаги; дверь открылась, и в комнату, страшно серьезный, широкими шагами влетел Гарри.
— Вот вы где, — и с этими словами он вытащил из кармана старый ржавый шуруп. — Это вам.
— Ты почему не в школе?
— А вы разве не знаете? — в изумлении спросил он. — Сегодня Норин день рождения. Почему бы вам не сойти вниз и не попробовать шоколаду?
— Я занят.
— Ну, тогда ладно, — сказал он. — Я могу снести подарок вниз. — Он подошел к моей пишущей машинке и начал играть с кнопками. — Хочу напечатать письмо маме.
— Хорошо.
Он напечатал:
Дарагая Мамуля как у тибя дила дон укусил тетю Берту за нос дядя сабираецца ево прадать. У Норы все еще балит ухо я уже магу читать книшки. нора уже знаит алфавит и можит дащитать да ста у нас есть громо фон я магу нарисавать ваздушнова змея и аткрытый и закрытый зонтик и еще у миня есть чысы. знаеш кто мне их дал. ладно скажу тетя Берта их мне дала и я магу сказать сколько время. Я…
Тут у него заело клавиши, когда он нажал сразу на несколько.
— Ты мне скажи, что нужно напечатать, а я это напечатаю.
Он походил вокруг, качаясь и засунув руки в карманы бриджей.
— Ну?
Он улыбнулся своей стариковской улыбкой и начал:
Дорогая Мамочка, я веду себя хорошо а ты не забыла забрать шоколад с вокзала? У меня много игрушек, и ведро, и еще лопатка. Я сделал себе автомобиль из двух стульев и шали, и все мои игрушки внутри. Я хорошо играю и хорошо себя веду. Тетя Берта спит там, где голова, а я — там, где ноги. В комнате тети Берты много фотографий на стенах, и у нее есть лампа со стеклом, таким в трещинках. У меня есть бидон и весы с таким ящичком. Джинджер всегда приходит, я вижу Дона. Джинджер кусается. Я сам это письмо написал. Есть такая девочка, Лори, а сзади амбара есть такое место с кирпичами как рама, и там до этого были бугры и не было сидений для Лори, чтобы сидеть, потому что она была учительница, а там бугры всюду. Сегодня утром я рано встал и все разровнял и поставил сиденья, чтобы Лори могла сидеть. Так хорошо стало, когда ровно. Каждый день после обеда мы долго гуляем, а когда усталые возвращаемся домой, то выпиваем много-много чашек чаю и много кушаем. Когда мы ездили с воскресной школой на пикник, то я забрал почти все конфеты, а другие получили только по две. А у меня было двадцать. И я выловил Ноев Ковчег из коричневой ванны. Тетя Берта недавно пряталась за кирпичами. Пока она пряталась, я взял большой молочный бидон с лимонадом и выпил его весь и поперхнулся. И меня стошнило обратно в бидон. Тетя так смеялась, а Нора перестала плакать и смеялась, что меня вырвало в бидон. Тетя Берта подарила мне красивое зеркальце и гвозди. Я сказал папе, когда он закончил делать мебель, я ему сказал сделать для меня пендальную машину, сзади установил стекло и шины на колеса. У тети Берты есть темно-коричневый комод с большим зеркалом. Футляр тети Терри, который ей папа подарил для ногтей, я с ним играю. Я ничего не ломаю. Поцелуй от меня Бабби. Тысяча фунтов поцелуев тебе, Мамочка. У меня настоящие мраморные шарики.
Твой сын Гарри Чарльз.
За этим следовали девять крестиков, обозначающих поцелуи.
Утомившись, я откинулся назад и зевнул, а потом, глядя на фотографию Сильвии на столе, взял ее и автоматически, привычно поцеловал.
Он весело посмотрел на меня.
— Глупый! — произнес он.
На секунду задумавшись, он огляделся и неожиданно задал вопрос:
— Зачем это все?
Вот те на! Он становился похожим на меня.
— Ну почему это все? — спросил он. — Все это?
Я немного подумал в поисках ответа и потом спросил:
— Потому что… почему бы и нет?
Его это удовлетворило — абсолютно.
— Гарри, твое вимо! — позвала с лестницы Нора.
— Вот глупая! — сказал он. — Ей говорят, что это вино, потому что она еще ребенок. Это рыбий жир. Пойдем вниз, Нора позвала на день рождения кучу людей.
— Людей?
— Детей, не людей; не взрослых.
— А!
Когда мы сошли вниз, в столовой оказалось множество детей. Прибывали все новые, и каждый, довольный собой, вручал Норе свой подарок, который она выхватывала у него из рук, даже не говоря «спасибо».
— А кто вон тот мальчик? — спросил я Гарри.
— Это Билли — который щипается.
Нора оглядывалась и улыбалась открытым ртом, полным прожеванного торта.
— А ты разве не дерешься с мальчишками, обижающими твою сестренку?
— Нет.
— Почему?
— Не хочу влипнуть в неприятности, — ответил он, не сводя тем временем глаз с Норы, которая одна поедала большой шоколадный батончик, пока Сильвия не спросила:
— А разве ты Гарри не дашь попробовать?
— Ну, Гарри, ты же ее уже пробовал, — сказала она, отворачиваясь.
Когда мы приступили к шоколаду, дяди Люси среди нас не было. Теперь он часами просиживал в своем кабинете, думая, думая без конца, и мы, движимые любопытством, открывали дверь и заглядывали в комнату. Эти появляющиеся в дверях головы совершенно его не раздражали. Однажды, — когда мы вышли из дома и проходили мимо лютеранской церкви, на дверях которой было вывешено расписание служб, дядя Люси ускорил шаги, заключив, что перед ним банк, а расписание — доска с обменными курсами. Ничего особенного в этом не было, но, стоя на ступенях и вчитываясь в расписание, дядя Люси все еще был уверен, что это банк, и сказал, что хочет войти и разменять 300 иен. Однажды вечером он поведал мне, что, запирая на ночь входную дверь, он должен подергать дверь ровно двенадцать раз, чтобы проверить, что она заперта, и что иногда, в середине ночи, он чувствует необходимость пойти и проверить ее снова; или же его охватывало иррациональное чувство, что самый младший его ребенок может умереть. Увидев на той стороне улицы таксу, он произнес: «Было бы здорово встать на четвереньки и лаять по-собачьи — или же встать на одну ногу и закукарекать петухом». Когда Нора пришла к нему сказать, что шоколад уже на столе, папа, по ее словам, «стоял на одной ножке и сказал, что он журавль», и она захохотала, думая, что он шутит. После этого мы все, поодиночке, стали заглядывать в его комнату, чтобы проверить, все ли с ним в порядке.
— Хватит заскакивать сюда и глазеть, — закричал он. — Я, наверно, какой-то необычный зверь в зоопарке — каждую минуту на меня таращатся в дырку!
Мы прекратили заглядывать к нему, но стали шептаться друг с другом; ибо дядя Люси действительно стал очень странный. Он не спустился к шоколаду, а отправился вместо этого в темную комнату проявлять снимки. В последнее время он постоянно делал снимки и проявлял их в темной комнате. Поев шоколада, дети стали играть друг с другом, сначала осторожно, а потом все свободнее и шумнее. Среди них был мальчик с сухой рукой, но очень крепкий, сильный и ростом вдвое выше Гарри. Тот, будучи в куражливом настроении, внезапно подступил к нему и — без какой-либо мыслимой причины, просто из переполнявшего его здоровья, — треснул его по лицу. Первым побуждением того было ответить Гарри, но, видимо, он вспомнил о том, что он гость, и волевым усилием осадил себя. Целых две минуты или больше он размышлял о нанесенном оскорблении, словно решая, оскорбиться или нет. Ему была невыносима мысль, что его ударил мальчик в два раза ниже ростом. Наконец, он приблизился к Гарри и — мягко, потому что все-таки он был гость, почти дружелюбно, с примирительной, оправдывающейся улыбкой — залепил ему пощечину. У Гарри был такой вид, словно он решал, стоит ли ему заплакать, но поскольку сухорукий мальчик улыбался, Гарри решил не обижаться и тоже улыбнулся — неубедительно. Подошли две девочки и мальчик — кудрявый, черноглазый, яснолицый и очень воспитанный мальчик, который очень быстро и, в общем-то, случайно, получил синяк под глазом от сухорукого мальчика и удалился, тихонько плача. Его маленькие сестренки тотчас же принялись обнимать его, целовать и утешать:
— Вот это удар. Ну и сила!
Микрокосм мира взрослых.
Мальчику перевязали голову, и все тут же убежали играть снова. Под конец мало кто вышел из игры не пострадавшим.
— А теперь Нора продекламирует нам, — объявила тетя Молли, — стихотворение «Мошка на стене».
— Нет, «Крошку Вилли», — возразила Нора.
— Хорошо, «Крошку Вилли».
И, встав на стул, Нора продекламировала:
Все захлопали, и на бис она прочитала стишок о кролике Банни, который был беленький, вот такой величины, с длинными шелковистыми развесистыми ушками и смешными розовыми глазками.
Наконец, дядя Люси спустился в гостиную, где уже собралась группа моих друзей, местных интеллектуалов, и молча уселся, глядя на нас с саркастическим видом. Он был бледен, только нос краснел еще сильнее.
— Что есть сознание? — говорил я. — В точке пересечения всех лучей имеется искра: эта искра — Я. Те же лучи встречаются в бесконечности бесконечное число раз (притом, что все прямые в бесконечности изгибаются), так что все эти другие искры — это другие «я». Но поскольку все мы, каждый из нас является суммой одних и тех же лучей, все «я» обретают бессмертное бытие в истоке Единого, который вечно полнится притоками Многих; чистейшей квинтэссенцией этого понятия является дух, зовомый нами Богом.
Дядя Люси слушал меня молча с таким мудрым, таким насмешливо-презрительным видом, такое провидческое выражение было в его глазах (будто он и вправду провидел далекое будущее сквозь наши интеллигентские умствования), что это заставляло замолкать даже интеллектуалов. Они чувствовали, что он — хранитель некого тайного послания, навеки скрытого от их умов. Они уважительно выжидали. Замолкал даже доктор Мергайтрод. Настоящей же тайной дяди Люси, о которой они не подозревали, было то, что он тихо спятил, совершенно ополоумел. Вчера он взял тетю Терезу с собой прокатиться и по пути стал заезжать без разбора во все магазины и покупать разные вещи — в основном громоздкие и ненужные, — так что тетя Тереза, сидя на заднем сиденье, решила, что ее брат пришел в себя, и к нему вернулись его старые привычки и потрясающая щедрость. Однако самым необычным было то, что покупал он вещи совершенно бесполезные и тяжеловесные — электрические печки, две стремянки, клетку для канарейки, — оставляя это все по пути следования то на вокзале, на попечении носильщиков, то в театральном гардеробе и разных других местах, что даже такой доверчивой душе, как тетя Тереза, показалось чуточку необычным. На следующий день он вошел в гостиную с этим уже известным нам, надутым видом, как будто взятым у Чарли Чаплина, и, провозгласив, что желает настроить пианино, разобрал его на части, на мельчайшие гвоздики, так что потом уже не смог собрать его снова. Он вышел, и тетя Тереза, боясь оставаться с ним наедине, заперла дверь гостиной. Вернувшись и увидев запертую дверь, он вышиб окно.
Теперь он вынул часы и, объявив, что уже половина первого, сказал, что ему необходимо проявить кое-какие снимки.
— Но, дядя Люси, еще нет шести! Что с вашими часами?
— Мне нужно полагаться на мои часы — какие ни есть, — очень серьезно и откровенно ответил он и ушел в свою темную комнату.
Я собрался на работу, и дядя Эммануил, зажегши сигару, сказал, что, несмотря на дождь, хочет пойти со мной. Тротуар был — сверкающее полотно, точно мокрый макинтош, однако вечер был туманный и темный, и дождь, намочивший мне лицо, было совершенно невидим, только в желтом свете фонаря, приблизившись, можно было различить серебристый дождь, сыплющий с неба. Мы укрылись в подъезде трикотажного магазина, чьи витрины были закрыты ставнями. Там уже стояла молодая женщина, и дядюшка не упустил возможности кинуть ей нежный взгляд сквозь пенсне. Когда я вернулся, безуспешно пытаясь найти извозчика, он уже разговаривал с ней на своем языке, а она хихикала и жеманничала. Мы сразу же двинулись с места, дядя Эммануил взял новую подругу под руку. Я расстался с ними у черного входа в какой-то ветхий дом, куда они вошли, но в это время дождь полил с новой силой, и я решил переждать под козырьком. В это время позади меня, в подъезде, раздались какие-то странные угрожающие звуки. Заподозрив, что дяде что-то грозит, я пошел на голоса и на лестничной площадке второго этажа нерешительно стукнул в дверь. Мне никто не ответил, лишь за дверью грубый пьяный голос продолжал угрожающе реветь, причем в промежутках пробивались хилые дядины увещевания, что-то вроде «Союзники! Союзники!» Охваченный дрожью тревоги, я распахнул дверь и увидел огромного ярого пьяного казака, «распалившегося» от дядиного явно нежелательного присутствия, причем женщина пыталась его утихомирить.
— Это мой муж, — повернулась она ко мне. — Вернулся неожиданно.
Но я опять в затруднении. Дядя, как вы можете подумать, попал в неловкое положение. Предупреждаю читателя — отложите книгу, ибо я отказываюсь брать на себя ответственность за поступки моего дяди. Я — серьезный молодой человек, интеллектуал. Кровь бросается мне в лицо, страницы заливаются румянцем при мысли о том, как он стоял там, — нет, не могу. Не заставляйте меня продолжать. Ибо там, если позволите, стоял мой дядя — нет! Чем меньше об этом будет сказано, тем лучше. Обойдем молчанием дядину личную жизнь. Молчание! Молчание!
— Разорву! Зарублю! — орал казак, держа руку на эфесе сабли, а дядя Эммануил мямлил:
— Союзники! Мы же союзники! Vive la Russie![86] Союзники!
— Союзники? — орал казак, приближаясь к нему с блуждающим взором. — Союзники? Я те покажу союзники!
— Он его убьет! — прошептала женщина. — Точно убьет. Скорее дайте ему что-нибудь — скорее дайте денег! Он его убьет!
— Дайте ему денег! — закричал я по-французски. — Ради Бога дайте ему денег, скорее!
Дядя Эммануил, потеребив кошелек, протянул тому пятисотрублевую банкноту (в то время стоившую около 80 сантимов), и казак, шатнувшись всем телом, заграбастал бумажку огромным, изрубленным кулаком.
— Союзники! — всхрапнул он. — Гм! — Успокоился. — Союзниками зоветесь! — проворчал он уже миролюбивее и повернулся к выходу. — Союзники! Гм! Это точно. Союзники — на словах. — И после паузы: — Пойду выпью, — и вышел, хлопнув дверью.
Дядя сконфуженно глядел на меня.
— Que voulez-vous! — произнес он. — C’est la vie.
Но обойдем молчанием дядюшкины поступки. Наконец, я ушел, оставив его там. Несомненно, хороший урок для пуриста!
Я сидел в кабинете, работая над моей книгой «Летопись этапов эволюции отношений», когда над ухом раздался пронзительный телефонный звонок. Я снял трубку. Звонила Берта.
— Жорж, немедленно приходи домой.
Она не сказала зачем, но я различил в ее голосе нотки бедствия. Пока я собирался ее спросить, она повесила трубку.
Дождь прекратился, большая оранжевая луна повисла на небе. Смешной старичок на луне, пока я ехал, выглядел в высшей степени лукаво, дорога была вся оранжева и нереальна, и вся наша жизнь в этот момент выглядела цепью смехотворных ужимок, принимаемых нами чересчур к сердцу, потому что… потому что не знаю почему, потому что мы ничегошеньки не знаем. И потом мне пришла мысль, что если я застану дома Берту, стоящую на голове, или дядю Люси, стоящего на одной ножке и кричащего: «Кукареку!», я и бровью не поведу, ибо это будет в строгом соответствии с этой оранжевой ночью, с этой оранжевой луной.
Прибыв на место, я увидел внизу Гарри, очень маленького, очень серьезного, поливающего цветы в кухонном дворике из погнутой жестянки; и двое уличных мальчишек висели на заборе и с завистью смотрели на него. Его вид подбодрил меня, но отсутствие рядом с ним его сестренки Норы встревожило.
— Гарри! — крикнул я ему, заплатив извозчику. Но, поглощенный своей «лейкой», он едва удостоил меня взглядом.
— Гарри! — позвал я снова. — Где Нора?
Он что-то пробормотал, не сводя глаз с мальчишек.
— Гарри! — повторил я. — Ты не можешь говорить громче? Где Нора?
— В «Ж», — произнес он с вызовом, сконфуженно поглядывая на мальчишек.
Чувствую облегчение, я прошел в дом. В передней меня встретила Берта. Она смотрела на меня с той задушевной грустной улыбкой, которая была мне так хорошо известна, но на этот раз в ней не было и следа воспоминаний, скорее трагическая покорность, и красная полоса на носу — след укуса собаки — придавала ее серьезности довольно забавный оттенок. Такой вид, в сущности, означает: «Мы живем в безумном мире: чего же ты ожидал?» И я ответил ей серией быстрых серьезных кивков.
— Ваш дядя, — произнес она, — умер.
— Который?
— Дядя Люси.
— О, черт!
Иных слов не нашлось. Бах! — это судьба внеслась в твою дверь. Я был скорее изумлен, чем потрясен. Это было так не похоже на дядю Люси. Он был вовсе не тот человек, чтобы творить такие дела. Так, значит, его жизнь кончена, стерта с доски.
Она молча повела меня по лестнице за собой. Перед дверью в темную комнату, где он обычно проявлял свои снимки, она остановилась и повернулась ко мне.
— Сегодня ужасный день, — сказала она. — Он повесился.
Я открыл дверь и вошел.
С тех самых пор, как я появился на свете, двадцать пять лет назад, меня все больше и больше поражает этот спектакль под названием «Жизнь на нашей планете». Другим приходилось бороться с палачом на эшафоте: но что толкнуло этого человека проделать такую кошмарную работу самому? Во имя какой логики, во имя какого Бога выкинул он этот фортель? Самоубийство, так сказать. С необычными чертами. Дядя Люси был одет в наряд тети Терезы — панталоны, лифчик, шелковые чулки, подвязки и шелковый чепец.
— Хотелось бы мне знать, как он проник в ее комод? — сказала она.
И перед моими глазами встала картинка — дядя Люси потихоньку роется в гардеробе тети Терезы и на цыпочках убегает, унося с собой лифчик, и панталоны, и чепец.
— А мне бы хотелось знать, зачем он это сделал. Но я не мог найти причины, разве что оправдать свое женское имя.
Его обычная одежда лежала за дверью. Лицо было багровым, лишь нос в кои-то веки был бледным; тело было еще теплым, но уже безжизненным. Он висел на веревке, когда через окно его увидел сосед, который благодаря необычному наряду сначала принял его за манекен. Сейчас он лежал на полу — несчастное зрелище.
— Боже мой, что нам теперь делать? Послать за доктором? — спросила она.
Я взглянул на ручные часы: две соседние дырочки на ремешке слились, и часы висели на запястье.
— Доктором? Доктора это уже не касается. Хотя Абельбергу, возможно, стоило бы прийти взглянуть на него. Я не особенно знаком с такими выкидонами. Бедняга.
Но внутри меня сидело одно раздражение.
— Кто-то должен его обмыть, — произнесла она озабоченно и вздрогнула от мысли, что это придется делать ей.
— Ему этого уже не надо. Достаточно чистый для червей.
— Жорж! — вскричала она. — Это… это кощунство.
Эти люди просто нелепы.
— Вам известно, что добрый Иисус сказал о мертвецах?
— Нет. Что?
— Что пусть лучше мертвецы погребают своих мертвецов.
— Жорж! — произнесла она, не будучи до конца уверенной в том, что сказанное соответствует приличиям. — Quelle tragédie![87]
Не хватало еще проливать слезы над подобными вещами.
— Это не трагедия, Берта. Это трагедия-буфф.
Повеситься в панталонах тети Терезы — такое не каждый день происходит: к этому нужно было немного привыкнуть. Внезапно Берта расхохоталось (не смогла удержаться). Действительно, он и мертвый выглядел довольно забавно. От ее смеха меня взяла дрожь. Она смеялась все громче и громче; она смеялась над самой мыслью, что она смеется; это усиливало ее смех. Она пыталась подавить смех. У нее не получалось. Она выбежала вон.
Я подумал, что умирать, должно быть, схоже с жестокой болью в животе, ты восклицаешь: «Ну и ну!», и, освобожденный, удоволенный, со счастливой улыбкой переходишь в иной мир. Причин, обусловивших этот странный наряд, всей трагедии этого постичь я не могу. Конечно, он был здорово озабочен потерей своей сибирской собственности. И будем справедливы: он покупал большие суммы в рублях, что оправдывает любого человека, налагающего на себя руки. Но я склонен думать, что помешаться заставил его обыкновенный, повседневный спектакль жизни, происходящий на нашей планете, это стало для него просто чересчур. Я размышлял над логикой сумасшедших: возможно, у них есть собственная логика. Или, быть может, безумие есть антитеза логике.
Берта была в детской.
— По-моему, мы с вами, Берта, два единственных разумных существа на земле. Хотя насчет вас я не совсем уверен. Почему бы вам не броситься на меня и не впиться зубами мне в плечо?
Дети не спали. Я вошел и увидел Нору, ее розовую головку на огромной подушке, словно бледная вишенка. Она плакала.
— Что такое, Нора?
— Ухо болит.
— Ты была на сквозняке?
— Кавется, да, — и она заплакала.
Обнаружилось, что днем она пила воду из сточной трубы на дворе, а ночью на нее нашел внезапный страх, и она закричала: «Не хочу умирать!» В свалке она поцарапала ногу, мысль о сухоруком мальчике не давала ей покоя, и, всхлипывая, она повторяла: «Сухая нога… ой, не хочу умирать!»
— Нора, ну в чем дело, милая?
— У меня ножка сохнет, — всхлипывала она, — но я не хочу умирать.
Наконец, она успокоилась. Берта велела ей встать на колени в кровати и повторить молитву, что она и сделала: «Маму и папу и бабушков и дедушков и дядев и тетей и братьев — и брата Джорджи». Ей снова подоткнули одеяло, и она сразу же уснула.
— Ш-ш! — зашипела Берта. Но Гарри делал мне знаки, и я на цыпочках подошел к нему и сел на краешек постели. Он подобрал ноги:
— Вы можете откинуться. Ничего.
Луна была размытой, словно за пленкой, и более отчужденной, более далекой, и я задумался, можно ли быть счастливым на луне. Нора, которой, видимо, снился мальчик Билли, который щипал ее в школе, вскрикнула во сне:
— Отстань! Отстань! Прекрати! Прекрати сейчас же! Жаткнись!
Потом в комнату залетела Сильвия, вся красная, в ужасе:
— Тетя Берта, маман в истерике, une crise de nerfs…
Это была жуткая ночь.
40
На следующий день тетя Тереза не вставала с постели, и Берта ухаживала за ней с горячими и холодными компрессами, валерьянкой, пирамидоном, аспирином и несколькими лосьонами. Нервы тети Терезы так расстроились из-за самоубийства, что даже тете Молли, прибывшей через два дня из Японии, пришлось по ночам сменять Сильвию и Берту у ее постели. Дядя Эммануил вернулся ранним утром от казачьей жены и был настолько ошеломлен, когда ему объявили о происшедшем, что не нашелся что сказать. Возвратилась тетя Молли: до конца своих дней она будет сожалеть о том кратком отдыхе в Японии. И, несмотря на то, что это была смерть, дядя Эммануил сказал, пожимая ей руку:
— C’est la vie.
Прослышав о несчастье, в воскресенье утром явился генерал Пше-Пше — высказать свои соболезнования. Он низко склонился над рукой тети Терезы и скользнул по ней колючими усами. Какое-то время посидел молча, из уважения к покойному. Потом откашлялся, чтобы заговорить. Но тетя Тереза заговорила первой. Бедный брат! Кто бы мог подумать! Это такой шок для ее нервной системы, что доктор Абельберг, который уже было начал ее лечить, в отчаянии бросил это дело. Она не сомкнула глаз с того времени, когда это произошло! И ее лицо действительно было белым, как тесто, и просвечивало в утреннем свете. Генерал сообщил, что явился как старый друг с единственным желанием — быть чем-то полезным. Желают ли они оркестр?
— Оркестр? — воскликнула тетя.
— Pardon, — произнес дядя Эммануил, с неизменной вежливостью обращаясь через меня к генералу Пше-Пше, — какой оркестр имеет в виду его превосходительство?
— Военный оркестр, что играл на балу, — отвечал генерал с робкой улыбкой.
— Для похорон! — воскликнула тетя Тереза. И нам представилось, как катафалк с остовом дяди Люси во весь опор мчится на кладбище под бодрую мазурку.
— Но они будут играть похоронный марш — соответствующий случаю, — пояснил генерал с той же слабой робкой улыбкой.
— А, тогда прекрасно. — отвечал дядя Эммануил, совершенно удовлетворенный. — Хорошо. Генерал чересчур добр. — Он любезно поклонился. Генерал поклонился в ответ.
Еще одна окостенелая пауза.
Мы ожидали трудностей касательно погребения «самоубийцы». Однако перед лицом общего хаоса на нашем пути не возникло ни одного препятствия. И правда, отчего бы им возникнуть? Разве не имеет человек право самому расстаться со своей оболочкой? Но небольшая загвоздка с выбором участка для могилы все же возникла. Дядя Эммануил откашлялся.
— Мы ожидали, — сказал он, — определенных трудностей относительно получения разрешения на погребение. Эта смерть, разумеется, не такая… такая… — он делал объясняющие жесты, — обыкновенная, и мы ожидали…
— О? — Генерал бросил быстрый испытующий взгляд на тетю Терезу. — Кто-то проболтался?
— В общем, да, — признался дядя Эммануил.
— Кто?
— Кладбищенский сторож. Но больше никто.
— Пусть явится ко мне, — приказал генерал, свирепая гримаса появилась на его мужественном лице. — Я с ним потолкую! Я его враз угомоню!
Он объявил, что не станет терпеть всяких глупостей ни от кого в этом городе до тех пор, пока здесь стоят его части, — он не знает, сколько это еще продлится и обязан сказать, что если союзники не передумают (слепота некоторых оказалась на поверку благом, иначе бы он не поручился за их выживание), да, он обязан заявить, что если союзники не передумают и не пошлют ему подкреплений, он не сможет долее контролировать ситуацию, и тогда может произойти что угодно, каждый кладбищенский сторож сможет творить все, что ему заблагорассудится; однако покамест он, генерал Пшемович-Пшевицкий, находится у руля, он проследит за тем, чтобы они, его друзья, были должным образом защищены. Дядя Эммануил поклонился. Генерал поклонился в ответ. Он относится с уважением к мадам Вандерфлинт и месье le Commandant («А, ваше превосходительство слишком добры!» — вставил дядя Эммануил. Взаимные поклоны), он относится к ним с уважением, и он желает выказать свое уважение к покойному, совершенно не вмешиваясь в обстоятельства его кончины. Он также желает выказать свое уважение к мадам Вандерфлинт, и хотя это не соответствует уставу, предусматривающему оказание военных почестей только для военных, все же он полагает, что усопший прошел военную службу в свое время…
— Нет, — прервала его тетя Тереза. — Мой бедный брат был британским поданным, а в Англии военная служба не обязательна — по крайней мере, не была до войны.
Это не имеет значения! Генерал из уважения к даме пренебрежет и этим и распорядится насчет военного салюта над могилой ее брата.
— Что? — переспросила тетя Тереза, не совсем поняв его слов.
— Салютная команда, — пояснил он. — Я распоряжусь насчет салюта.
— Нет! — перепугалась она. — Не нужно, это напомнит мне об Анатоле, моем сыне, это было так тяжко.
И прежде чем кто-то успел что-либо подумать, она начала всхлипывать.
— Холостые патроны, — произнес он, глуповато оглядываясь.
— Полно, полно, ангел мой, полно, дорогая! — утешал ее дядя Эммануил. — Никто этого не сделает, если ты не захочешь. Никто.
В это время в комнату вошла тетя Молли. Генерал с военной аккуратностью поднялся, звякнул шпорами и наклонился над ее пухлой рукой с одиноким обручальным концом.
— Что случилось? — спросила она при виде Берты, выбегающей за валерьянкой, и тети Терезы в истерике.
— Они вон хотят палить над могилой, как будто веревки было недостаточно, — сердито пробурчала Берта, пробегая мимо нее.
— Повешение… стрельба… — пробормотала тетя Молли. — Зачем? Зачем?
И, нечаянно произнеся это слово и видя Терезу в слезах, она тоже принялась всхлипывать в платок. Генерал неловко зашаркал ногами, пока не пришла Берта с каплями, а дядя Эммануил взял меня под одну руку, а генерала под другую, и повел через меня такой разговор:
— Ah, mon général, извините мою супругу, ее нервы совсем расстроились, а моя belle-sœur не совсем поняла всей сути той почести, которой вы собирались удостоить ее бедного супруга. Qu’ est-ce que vous voulez? Она выросла в семье штатских… в деревне… вдали от городов; évidemment, ее супруг и вся родня были штатскими, незнакомыми с кодексом, который для нас — nous autres militaires[88] — наше общее драгоценное наследие, поэтому вы должны простить этот маленький эпизод, mon général. Я перевел.
41
Шиллер
(Пер. Е. Витковского)
Тетя Тереза, усевшись в карету, дожидалась Берту и дядю Эммануила; но Берта, обладавшая острым чутьем на то, где может понадобиться ее помощь, сказала, что пойдет рядом с тетей Молли, которая настаивала на том, чтобы идти за гробом.
— Эммануил! — окликнула тетя Тереза. — Ты будешь со мной в карете.
Странно, но на этот раз дядя принял твердую позицию, хотя ответил, как всегда, мягко.
— А! — сказал он, узрев мою форму. — Nous autres militaires подобает шествовать за гробом. Будет нехорошо выглядеть, если я буду сидеть с тобой в карете, ангел мой.
— Но, Эммануил, я не могу сидеть здесь одна! — мученически возопила тетя Тереза. — Мне дурно и плохо! Кто-нибудь должен быть рядом со мной.
И, чтобы ее успокоить, в карету посадили Наташу.
Наконец, процессия двинулась. Дядя Эммануил надел по такому случаю форму и нацепил на рукав широкую черную ленту. Я выудил «le sabre de mon père»[89] — длинную неуклюжую штуковину в кожаных ножнах. Когда-то я купил ее по дешевке в лавке старьевщика на Черинг-кросс Роуд; это была древняя шашка, бывшая на вооружении еще до Ватерлоо, слишком длинная даже для конного и поэтому давно выведенная из обращения. Я держал ее перед собой, идя бок о бок с дядей Эммануилом за тетей Молли и Бертой, медленным похоронным шагом, заданным генеральским духовым оркестром. И мне казалось, что дядя Эммануил был рад идти со мной нога в ногу, не предпринимая усилий, и что его шаги так же выверены и величественны, как и мои. Увы, то было похоронное шествие. Мои шпоры позвякивали; невольно я поглядывал вниз, сознавая превосходство моих сапог, начищенных Пикапом до такого блеска, что они сверкали, словно поверхность темно-коричневого фортепиано. Дядины великоватые размером башмаки и несоответствующие погоде легкие гетры выглядели отвратительно. Только офицер, представитель романской расы, мог мириться с такой оскорбительной формой. По мере продвижения катафалка крестьяне на улицах снимали шапки и крестились. Американский капитан отдал честь, словно защищая глаза от солнца, и, похоже, был рад выдавшейся возможности. Выглядел он браво, но его сапоги, довольно неплохие, были слишком низки. Надо думать, мои он посчитал слишком высокими. Бедный дядя Люси! Он-то и не подозревал, что почести ему будут оказывать со всех сторон. Какая напрасная трата телодвижений: если мертвые и вправду видят живых, они, верно, выше этих сует. И все же это был прощальный жест блудного брата, медлящего позади, брату, отправившемуся в путешествие. Китаец нахлестывал лошадь, взбирающуюся на крутой холм. Две девочки, глядя на это, сказали: «Какой жестокий!» И дядя Эммануил, когда я ему это перевел, молвил: «Детские сердца полны сострадания». Древний старик, пасший трех коров и быка, увидел, что на перекрестке бык ускакал по другой дороге, а не по той, по которой ушли коровы, и никак не мог решить, по какой дороге пойти. Он был слишком стар, чтобы бежать за быком, а коровы тем временем уже убрели, а он все стоял в муках, в то время как уличные мальчишки потешались над ним и дразнили: «Борода! Борода!» И дядя Эммануил произнес: «Они жестоки и бессердечны, эти дети!» Такова была жизнь. Какова же была смерть?
Мы шли подлинной, петляющей дороге, между двумя рядами деревьев, все больше углубляясь в сельскую местность. Тете Молли, похоже, было жарко в длинной каракулевой шубе и теплых валенках, чавкающих по дороге. Вскоре и труды Пикапа пошли прахом: мои сапоги покрылись грязью. Дорога казалась бесконечной. У меня возникло желание вскочить на жеребца и ускакать от этой траурной процессии, от этого мертвеца, от покрасневших глаз и мертвенной скуки живых, скакать без оглядки, скакать, и скакать, и скакать.
Наконец, мы достигли одинокого лютеранского кладбища, затерянного в удаленном пригороде, и процессия остановилась. Мы последовали за катафалком через огромные безмолвные врата с надписью: «Я знаю, Искупитель мой жив»[90]. Было 14 апреля; два дня назад стояли жестокие холода, навалило целые сугробы, вся окрестность была покрыта снегом. Но в это утро было жарко, душно даже, и когда мы вошли в крытый проход, пробуждающаяся зелень обрушила на нас такой сильный, острый запах, что нам показалось, что мы вошли в теплицу. Процессия повернула налево, колеса оставляли глубокие колеи в грязном снегу. Но солнце играло на тысячах ухоженных памятников и гробниц: по-видимому, в этом позабытом, затерянном углу умирали люди, окруженные заботой, люди не позабытые. Деревья стояли нагими, но зелень пробивалась повсюду. У вырытой могилы, полной воды, росли березы — милые скромные березки! — а в стороне, словно сторожа ее, склонилась молодая ива с отсвечивающими на солнце золотыми листьями. Из могилы пытались откачать воду, но насос — или люди — оказались неспособными справиться с потоками талой воды и когда гроб опускали в могилу, оттуда донесся неприятный плеск, словно его уронили в колодец. Я думал: как странно дядю Люси, родившегося в Манчестере и всю жизнь прожившего в Красноярске, уложили в могилу на лютеранском кладбище, на территории российской концессии на Китайско-Восточной железной дороге. Когда гроб опускали в хлюпающую могилу, мы с дядей Эммануилом, стоявшие немного впереди, вытянулись в честь салюта. Лютеранский пастор — за отсутствием англиканского священника — провел службу на звучном немецком. Мы приблизились к краю могилы. Тетя Тереза с Наташей бросили цветы на плавающий в воде гроб; за ними тетя Молли бросила две чайных розы. После чего стали бросать пригоршни земли, которые с полым звуком падали на крышку гроба. Я отдал честь во время салюта, дядя Эммануил быстро надел фуражку и последовал моему примеру; пастор сказал несколько прощальных слов. И могильщики бодро принялись за работу.
Не было никаких других звуков, кроме птичьего щебета; солнце, бьющее лучами сверху, на пробивающуюся сквозь тающий снег травку, говорило о том, что зима прошла, что вся жизнь пробуждается к весне и потом — к лету. Вечный цикл. И тут — беспричинно — мне пришла в голову мысль о золотом протезе во рту дяди Люси. Ведь он переживет века! За грядущие десятилетия дядины зубы, рот, тело будут медленно разлагаться в сырой могиле, но чистое золото будет неподвластно времени, и когда-нибудь наступит такой момент, когда не останется совсем ничего, и один золотой протез упадет на сухой прах. Небо было приветливо, утро — дружелюбно и мирно. Я думал об этом ужасном смертном приговоре, нависшем над всеми нами, когда мы все уснем вечным сном, чтобы уже не проснуться. Нет — проснуться, недалеко за пределами всего этого. В моей душе я держу запертой душу всего мира в качестве заложницы своего бессмертия. Теперь я отпустил ее, и я, мы стали одно — и я мертв. Умереть, наверно, не страннее того, чтобы родиться на свет. Он умер — и лишился всех иллюзий. «Где она? Какая смерть?» Смерти не было[91]. И, быть может, он тянулся сказать им, что смерти нет, что смерть кончена, ее нет больше. Страсть — и это лежит в природе удовлетворения, которого она ищет, — вовсе не жажда обладания, но жажда высвобождения сил, нас угнетающих. Подобным же образом смерть, возможно, — освобождение от тех сил, которые придали нам форму и слишком долго держали нас в сосуде нашей индивидуальности, — удовлетворение сродни физическому, но длящееся дольше, возможно, очень долго, быть может, вечно. Смерть, думал я, — это слияние определенного образа с морем туманных общностей, конец всех ограничивающих, исключающих перспектив, величайшее из всех разочарований.
И когда вроде бы все кончилось, и настало время уходить, тетя Молли, до сего момента предпринимавшая героические усилия сдерживаться, вдруг задрожала, ее лицо изменилось, затряслось, и она принялась всхлипывать, сначала негромко, но потом все громче, судорожнее. Какое-то мгновение мы беспомощно глядели на нее, и мне показалось, что я читаю ее мысли. Как долгие годы заботилась она об его диете и пищеварении, о его носках, чтобы ноги не промокали, следила, чтобы его постель была проветрена, чтобы он не подхватил простуду; и теперь ей предстояло бросить его в этой сырой могиле. Как странно! У древних в этих вопросах было большое чувство такта. Они оставляли еду, одежду и все необходимое подле своих мертвых перед тем, как оставить их долгому сну. Тетя Молли, высокая, полная, румяная женщина, была готова упасть в обморок. А мы, не то чтобы неспособные к сочувствию, а просто боящиеся открыться, стояли, будто в трансе, и не торопились оказать поддержку. Все, кроме Берты, которая снова первой встала на ее сторону.
— Pauvre amie! — произнесла она причитающим скорбным голосом, обнимая своей жилистой рукой большое всхлипывающее тело тети Молли. — Пойдем, ma chérie[92], пойдем со мной.
Мы пошли обратно мимо бесчисленных памятников и остановились перед мозаичной скульптурой Острова Смерти, застывшей, словно рок, под сенью кипарисов. Немного помедлив, мы продолжили наш путь. Глаза наши остановились на одной эпитафии:
Верная жена.
Любящая мать. Не умерла, но опередила.
Мы пошли дальше, но тотчас же остановились, прочтя: «Я уповал». Молча шел я рядом с дядей Эммануилом, тетей Терезой и графом Валентином по травянистой обочине дорожки, пятная мокрой зеленью сапоги и вдыхая запах травы, и вновь ощутил, что скоро весна, что будет лето. Каким-то образом, пока мы медленно шли назад через кладбище, где сотни смертных, опередивших нас, мирно лежали среди мерцающего леса, пробуждающегося к весеннему возрождению, я забыл о гробе, плавающем в полной воды могиле; я думал только о том, что он лег здесь навеки, ушел в вечное забвение.
Мы шли, задумавшись, пока не миновали Великие Безмолвные Врата. После этого мы снова очутились в мире живых.
О нет, тетя Тереза вовсе не завидовала положению тети Молли в качестве главной плакальщицы. Уж не знаю, встали ли в ее памяти воспоминания детства, когда она играла вместе со своим братиком в тоскливом Манчестере. Но тетя Молли была его женой, оказывала ему бессчетные услуги интимного свойства — что женщины по странности, как правило, не прочь оказывать тем, кого любят. Она знала все его настроения, была в курсе всех его планов, тревог, жалоб, страдала от его нрава — и его измен. Когда мы забрались в карету, мне показалось, что именно тетю Терезу, с заплаканными глазами, но не плачущую, наделили титулом вдовствующей императрицы, и немедленно осознав, что наше сочувствие не относится к ней, она произнесла:
— Ma pauvre Molly! Мы обе осиротели!
— Не плачь, милая, — сказала Берта. — Это не поможет. Вот… я уже и сама плачу.
Я захлопнул дверцу снаружи, Берта, сидевшая на малом сиденье, повернула белую костяную ручку изнутри, и экипаж тронулся. Сильвия, Гюстав, Филип Браун и Скотли уселись во второй экипаж; граф Валентин, генерал, его сын-адъютант и госпожа Негодяева — в третий; а сам капитан Негодяев, дядя Эммануил, Наташа и мы — в четвертый, замыкающий процессию. Ехали в молчании. Все это время дядя Эммануил вел себя как вежливый беспристрастный наблюдатель. Лишь время от времени, уже на пути домой, дядюшка изрекал что-нибудь особенно банальное: «Да тут много домов», или: «Этот человек, кажется, разговаривает сам с собой». Где-то на полпути к дому мы увидели девственницу в компании офицера. Дядя выглянул в окно, помахал ей рукой и хотел было выкрикнуть что-нибудь, но я мгновенно осадил его: «Mon oncle![93]» Я был очень голоден и наслаждался быстрой ездой. Я сидел и думал: тебя положили в темную мокрую дыру и накрыли землей, а я еду домой обедать! И все же в один из семи дней недели мне предстоит последовать за тобой, и другого исхода нет. Если я не умру в понедельник, вторник или среду, вероятность того, что это произойдет в четверг, пятницу или субботу, возрастает. И если каким-то чудом моя смерть не придет в один из этих дней, то в воскресенье она не замедлит. Определенность этого ужасает. Один мой друг — великолепный знаток людей — с изумительной проницательностью охарактеризовал меня как «Сильного Молчаливого Человека» типа Китченера[94]. В общем-то, он был прав. На похоронах дяди Люси я не плакал — и меня не тянуло. Я думал о своей собственной смерти и тем самым перевел свои эмоции на себя. Но сейчас я думал — кто следующий в списке? Тетя Тереза, на первый взгляд, могла обойтись без обратного путешествия в Европу. Но ведь старые и слабые не обязательно умирают первыми. Она изводила дядю Люси разговорами о своей смерти, а он умер прежде нее, она же может дожить до ста лет, тогда как какой-нибудь молодой, едва вылупившийся цыпленок, отойдет на тот свет без предупреждения.
Когда мы прибыли домой, дети во дворе играли в футбол. Им сказали, что папа уехал — уехал из дома. И они не особенно беспокоились, поскольку решили, что когда он закончит работу, то вернется. Я слышал, что одна только Бабби говорила:
— Хочу папу.
— Ш-ш!
— Но я хочу!
Но папа, как выражаются русские, «приказал долго жить». Она была его любимицей.
В квартире все было похоже на переезд. Двери были распахнуты, и сквозняки гуляли по комнатам; из передней выгоняли чью-то собаку. Тетя Молли, казалось, была в трансе и так и не раскрыла рта. Но, войдя в огромную опустевшую комнату, служившую его жилищем, она рухнула в кресло и зарыдала — во весь голос, безмерно, слезы потоком хлынули из ее красных глаз. А в это время в гостиной тетя Тереза принимала соболезнования «дипломатического корпуса». Обед был еще не готов. Стол не накрывали. Не было готово ничего. Дядя Люси со своими похоронами расстроил всех. В коридоре кто-то спрашивал дядю Эммануила. Он вышел. Кажется, гробовщик пришел за оплатой; требовалось платить и за кареты.
Вернувшись, он обнял меня за талию.
— Mon ami, — сказал он дружески. — Поди уладь там.
42
Теперь, с высоты многих месяцев, прошедших с тех пор, мне ясно, что жизнь дяди Люси неуклонно двигалась к безумию, достигнув своего апогея в этом необычном самоубийстве. Зачем он это сделал? Вы, конечно, можете задаться этим вопросом. Однако разгадка, возможно, проще, чем мы думаем. Возможно, он знал, что теряет разум и собирается повеситься, и повесился так, чтобы отдать должное своему безумию. Какова была причина? Я задавался вопросом, была ли это тревога по поводу финансов или разочарование в жизни; или же, опять-таки, он намеревался показать, что тут есть элемент женского начала, «das Ewig-Weibliche»[95], и в частности, женской любви к нарядам, что привело его к мысли встретиться с Создателем, нарядившись в розовые шелковые чулки и чепец. Не могу сказать, не знаю, могу лишь зафиксировать этот прискорбный и довольно необычный факт.
Вам захочется узнать, зачем я пишу об этом так много. Потому, что я романист, — а роман, как, несомненно, вы знаете, не то, что рассказ. Тетя Тереза, когда я пришел ней, сидела в постели, опираясь на множество подушек, в мягкой прозрачной шали, наброшенной на тонкие плечи. На стене я увидал старый снимок Анатоля, а рядом с ним другой — Гарри, держащий за руку Нору. Смешанный запах лекарств и Mon Boudoir раздражал ноздри, пока, побыв в комнате какое-то время, я не привык к нему. Когда Анатоль погиб, тетя Тереза была так убита горем, что мысль о ношении траура по сыну даже не пришла ей в голову. Но со смертью дяди Люси, который вечно пугал ее своими капризами и угрозами и тревожил разными неприятными вещами, она не упустила возможности и немедленно послала за семью ярдами крепа, а также за бумагой с черной каймой и такими же конвертами, чтобы немедленно откликнуться на письма с соболезнованиями.
— Берта! — позвала она.
— Да?
— Мне нужны черные чернила. Я не могу писать фиолетовыми!
— Почему же?
— Как бесчувственно!
Писать нужно было много, но она все больше воодушевлялась. Отвечать на письма было ее миссией, ее радостью, ее даром. Если вы писали тете Терезе по любому поводу, вам обязательно приходил скорый ответ. «Mon pauvre frère![96]» — написала она и остановилась. Она всегда ставила много восклицательных знаков. Но если даже и так, нынешняя ее задача была не из легких. «Он жаловался на бессонницу!» — написала она. Остановилась. Проблема заключалась в том, чтобы рассказать обо всем без того, чтобы не сделать фарса из него и нее. Он повесился, к непреходящему потрясению тети Терезы, в ее одежде. Она не могла этого забыть. И она не оплакивала его, как полагается, потому, что втайне негодовала по поводу его конца, в высшей степени нетрадиционного. Эта смерть не соответствовала канонам вкуса. Она выходила из ряда вон своей нереспектабельностью. Она была слишком неправильной. Неловко было рассказывать, как он умер. Что еще хуже — крепдешиновая кофточка и панталоны — зеленые, украшенные цветочками — были подарком генерала, привезенным из Японии. Самое изумительное во всем этом и самое огорчительное было то, что его конец был — ну да, смешной. Требовалось волевое усилие, чтобы сдержаться и не захихикать, когда она описывала его смерть: «…я так тоскую по бедному брату Люси!»; или, рассказывая сочувствующему слушателю, подавить внезапный смешок при мысли о бедном брате, нарядившемся в ее панталоны и чепец; так было трудно сохранить серьезное лицо. Все это выглядело таким шаловливым, таким ненужным. Отсутствие всякого следа логики в его выборе сбивало с толку. Она хотела ощущать прискорбие, она чувствовала прискорбие, но это было так… чертовски смешно, и она отчитывала себе за это. Она не знала, что можно смеяться и быть серьезным одновременно. Тетя Тереза никогда не срывалась, всегда говорила спокойно, тихо. Она говорила: «Другие вечно возбуждаются. Ваш дядя Люси, например, — он умер, и я не хочу ничего говорить такого о моем бедном брате, — но я (она начинала тихонько всхлипывать) я другая. Я все держу здесь (она прижимала ладонь к сердцу), все в себе!» Она изводила его разговорами о своей приближающейся смерти, и как-то раз его пробрало, он заплакал, — но он умер до нее. И мне пришла мысль, что тетя Тереза будет так же вздыхать и жаловаться, когда самый младший из нас уже будет на том свете.
Прошло приличное (но не особенно долгое) время спустя дядиной смерти, и тетя Тереза разослала карточки, первая половина которых гласила: «Commandant Вандерфлинт с супругой имеют честь объявить о предстоящем бракосочетании их дочери, мадемуазель Сильвии Вандерфлинт, с месье Гюставом Буланжером», тогда как вторая половина разосланных карточек гласила в тех же словах, что мадемуазель Буланжер имеет честь объявить о предстоящем бракосочетании ее брата, месье Гюстава Буланжера, с мадемуазелью Сильвией Вандерфлинт. Эти карточки были помешены в большие пергаментные конверты и доставлены графу Валентину, доктору Мергатройду, полковнику Исибаяси, Филипу Брауну, Перси Скотли, генералу Пше-Пше et fils, доктору Абельбергу и другим, даже легендарному генералу Пан Та Луну с супругой.
И уже начали искусственно укрепляться межсемейные связи. Тетя Тереза нанесла визит Каролине Буланжер, старшей сестре, густо напудренной, а ее дети были приглашены на чай.
— Дядя Гюстав возьмет нас после обеда в Сады логики поглядеть на льва, — сказал Гарри, с важным видом разгуливая в гимнастических брюках.
— Ты боишься льва?
— Да, — признался он.
— А где ты пропадал все утро?
— В воскресной школе, — ответил он.
— Чем ты там занимался?
— Пел, — сказал он.
— Гимны?
— Не-а. — Он сморщил нос. — Фто-то про Иисуса.
— А о чем была проповедь?
— А, про ад. — Он подумал секунду. — А мороженое в аду есть? Нет? Только в раю?
— Да.
— Мы идем к тете Каролине, — сказал он.
— А кто такая тетя Каролина?
— Такая тетя, у нее есть собака и две кошки, — ответил Гарри.
— А что о тебе подумает собака, Гарри? — спросила тетя Тереза.
— Не знаю, что она подумает, когда я в таких брюках.
После обеда, когда дети были у Гюстава, к тете Терезе явился генерал Пше-Пше.
— Меня не понимают! Не понимают! — говорил он. — Не понимает жена, не понимает дочь, не понимает сын. Никогда! Только вы… — Он скользнул по ее бледной руке своими усами. — Не понимают! Но здесь моя гавань, моя лечебница.
Последнее слово ввиду печальной смерти дяди Люси прозвучало неприятным намеком, и тетя Тереза поморщилась.
Более того, генерал признался, что политический горизонт, до недавнего времени безмятежно-синий, уже не внушает жизнерадостности. Он выразил недоверчивость легкомыслием союзников.
— Я просто не могу понять их безрассудства в том, что они перестали меня поддерживать, ибо они знают наверняка, что я не продержусь без их помощи, поскольку все население страны настроено против меня. Такое отсутствие логики с их стороны! Они, должно быть, утеряли способность размышлять. О чем они думали? Мистер Черчилль — единственный, который еще сходится со мной во взглядах. Я всегда уповал на проницательность этого блестящего, смелого политика. Как и я, он готов пойти на все ради своей страны, невзирая на последствия. В современном мире это качество стало весьма редко, им нужно дорожить. Однако вынужден заметить, что его соотечественники не всегда сходятся с ним во взглядах.
Да, он дивился союзникам. Чем больше о них думал, тем больше дивился. Генерал хотел, чтобы в России воцарился закон и порядок. Население его не понимало, и — чего же проще! — он считал, что для управления страной (говоря без обиняков) нужно вторгнуться в нее, первым делом перебив все население.
— Как вам удастся это сделать, генерал? У вас нет людей.
Генерал сунул руку за борт шинели на манер Наполеона и жестко, с безжалостным видом ответствовал:
— Я пущу в дело винтовки и виселицы.
— Генерал, — вздохнул я, — вы можете вешать и расстреливать преступников, если у вас есть поддержка общества, пусть даже вы и будете думать, что это общество преступников, тогда как оно будет считать, что преступник — вы.
Он посмотрел на меня с безграничным укором, как бы говоря: «И ты, Брут!» Помолчал, потом сказал:
— Я выполняю свой долг пред Богом и отечеством.
Выбеленное лицо тети Терезы с огромными испуганными глазами повернулось к нему.
— Боже мой! Как вам это удастся? — спросила она не без тревоги. — Как вы будете сражаться? У вас нет людей.
— До последнего человека, — ответил он и посмотрел ей прямо в глаза, в эти умные собачьи глаза. Он любил ее вот так, ретроспективно; годы ее молодости, когда он еще ее не встретил, были для него годами разлуки, и вот сейчас — сейчас! — они, наконец, снова встретились, и все прошлое перестроилось для него в этом эпилоге, этом закатном сиянии любви. Он нагнулся над ее стройной белой рукой и приблизил к ней губы; это прикосновение должно было искупить все, что он упустил. А она возвела прекрасные глаза, свои сияющие огромные глаза, как будто эта женщина, которая никогда не любила, взмолилась: «Хотела бы я. Я честно предпринимаю все усилия — увы! Это не в моих силах!»
В пятницу вечером Скотли должен был уезжать в Англию. Весь март и первую половину апреля он пролежал с дизентерией и был окружен преданной заботой Берты. Отряхивая его шляпу от пыли, пока он надевал пальто, она сказала:
— Пиши мне иногда, ладно, Перси́. Ты же знаешь, как ты мне дорог.
В последний раз он произвел вонь в среду и в пятницу уехал. Но благодаря какому-то недоразумению он вернулся в конце недели и регулярно производил вонь в последующие вторник, пятницу, понедельник, вторник и субботу.
43
ПОЛКОВОЙ ЗНАК
Пришел день свадьбы, как наступает страшный день для осужденного, как приходит мгновение, когда дрожащий кролик должен улепетывать, чтобы спасти драгоценную жизнь, — неумолимый, безжалостный день. Отчего-то мы предполагали, что этот день не придет, но день доказал, что он может прийти, сумрачный день — 24 апреля. Снег на улицах еще не убрали, но было уже тепло, и тротуары были сухи, как летом.
С самого утра я был как на иголках. Ужасающий день. Я стоял у окна, прижавшись носом к холодному стеклу: минуты, когда можно убить, лишь бы услышать песню. Муха на стекле — комар во влажном углу — выглядели озадаченными жизнью. Мы наполовину живы, наполовину спим, гадая, зачем существуем; если бы мы только могли выбраться из этого вязкого болота, куда мы угодили, на свет, откуда мы пали, быть может, тогда бы мы нашли свои крылья.
На полу лежал раскрытым мой ранец, и мальчишка-китаец упаковывал его. Я посмотрел вниз, на улицу, — и внезапно увидел у дверей посетительницу: согбенная старуха в грибообразной шляпе, нахлобученной на скалящийся череп. «Госпожа Смерть». А на пороге стояла Наташа и смотрела на нее. Холод пробежал у меня по спине. Но тут госпожа Смерть согнулась вдвое и пропала в заднем дворике.
Я снова принялся упаковываться. Наташа постучалась в дверь, вошла, гордая и немного сконфуженная, поставила на стол новый помазок — и выбежала. Ее подарок к моему отъезду!
Я позвал ее обратно.
— Наташа, кто была эта женщина на улице?
Она пожала плечами.
— Что означать женщина? Не было женщины. Кое-какие люди на улице — много грязных люди, но женщины не было.
Я взял помазок и осмотрел его. Тебя несет по жизни и выносит на какого-то капитана Негодяева с дочкой Наташей. Привязанности; разлуки; поддерживание переписки; обрывание ее, тебя относит в сторону, прочь из вида. Как это странно. Когда я думаю о видах, людях, возможностях, которые я на каждом шагу упускаю и буду упускать дальше, сердце мое замирает, я ловлю ртом воздух, хватаюсь за стул…
Дядя Эммануил надел по случаю форму и все медали, а я нацепил «le sabre de mon père», ту дурацкую саблю образца 1800 года, которая давно была выведена из употребления за свою непомерную длину. В час дня началась служба. В церкви царило солнце, а в сердце царила горечь. Я нес свою любовь, этот терновый венец, за себя и за нее. Сердце мое падало, когда я встречался с ней глазами. Если я был слаб, разве поэтому она привязывала себя пожизненными узами к этому гротескному типу с канареечными усиками? Я чувствовал себя оскорбленным — но не мог сказать, кто меня оскорбил. Орган гремел, а сердце плакало по ней. Я скорбел по моей Сильвии; мысль, что в прошлом я обижал ее, терзала сердце: я словно находился у нее в душе, чувствуя себя заключенным в горестном бытии. И когда все кончилось, и они подошли к тете Терезе просить благословения, за поцелуем и поздравлениями, и Гюстав пробормотал из-под мягких усов: «Она принесла радость в мою жизнь», я не смог удержаться и сказал, пожимая ее руку: «Желаю тебе счастья!» По ветреным заиндевевшим улицам шагал я домой на негнущихся ногах — двух деревянных ходулях, несущих тяжелую вазу с горем — тяжкое мое сердце.
Я забрел в столовую, где как раз накрывали стол под руководством Владислава и под жадными взглядами Наташи.
— Будет черепаховый суп, утка и грибы — и груши с мороженым! — сообщила Наташа, сияя радостными зелеными глазами. Я поздравил Владислава с тем, как выглядит праздничный стол.
— Да, неплохо, — согласился он. — Но куда нам до французов! Париж — вот это, вы бы сказали, город. Улицы, магазины — словом, смотреть приятно! А здесь — ах! — Он махнул рукой с видом разочарованного художника. — Что толку?
На обед подавали густой суп с черепашьим и ветчинным вкусом, морской язык под соусом из шампанского и раков, седло молодого барашка, тушеную утку, фаршированную птичьей печенкой и грибами с салатом, сельдерей под пармезаном, груши в мороженом и смородиновом варенье, птифуры и корзины фруктов. Обеду предшествовали шерри с горькой настойкой и коктейль «Обезьянья железа», тогда как за обедом подавали водку, Шато Лафит разлива 1900 года и шампанское марки «Œil de Perdrix», причем застолье началось с «Первоклассного шампанского 1875 г.», кофе, бенедиктина, Кюрасао и соленого миндаля. Тетя Тереза беспокоилась, чтобы все было в русском духе из страха вызвать раздражение местного общества. Обед, соответственно, подали в три часа. Генерал Пше-Пше предоставил в наше распоряжение своего денщика, своего сына-адъютанта и кучу столовых приборов и фарфора. Оркестр (тот самый, что играл на похоронах) по приказу генерала водворился в столовой и играл туш во время обеда по малейшему поводу — и без оного, так что запах начищенных солдатских сапог был за едой не менее внятен. Есть в России, как мне показалось в тот день, довольно нелепый обычай выкрикивать на свадьбах слово «горько» — при этом жених и невеста должны поцеловаться.
— Странно, — произнес генерал, — что-то и хлеб горький, и вино.
— Горько! Горько! — радостно закричали гости.
Сильвия и Гюстав поцеловались. Он лишь притронулся к ней этими своими канареечными усишками. Представьте мои чувства. Генерал щелкнул пальцами, и оркестр сыграл туш.
— Да, вот уж действительно свадьба в русском стиле, — смеялась тетя Тереза.
Было много сказано и выпито, и в конце каждого тоста оркестр играл туш. И даже когда тостов не было, генерал то и дело щелкал пальцами, и оркестр играл туш. После этого он стал уже играть туш по собственному усмотрению, чтобы выделить чью-нибудь фразу или слово. Лишь кто-то издавал звук — оркестр играл туш.
— Ха-ха-ха-ха! — рассмеялась Сильвия.
Оркестр сыграл туш.
Я сидел между капитаном Негодяевым и Скотли и, прислушиваясь к внутреннему голосу, отчитывающему меня за проданное счастье, размышлял так: проблема со счастьем заключается в том, что его технология полностью неудовлетворительна; в том, что нельзя обрести его тогда, когда хочется, так легко, когда оно того стоит; требуемая жертва все время перевешивает мотив, и, зная это, вам не хочется ее приносить. И мне не хотелось ее приносить; вот я сидел — и страдал. Я утешал себя тем, что она была для меня все равно, что белый слон, в моем путешествии к совершенству она была словно роскошный дорожный сундук, великолепный путешественник по свету, для которого у меня не было соответствующего снаряжения. Она была драгоценным камнем, бриллиантом, бывшим мне не по средствам. Но под всеми этими утешительными мыслями скрывалась правда, неслышная, но раздражающая, — что я, точно какой-нибудь поезд, упустил величайший шанс быть счастливым в жизни.
— Горько! Горько! — радостно вскричал генерал. Сильвия и Гюстав поцеловались. (О, где моя сабля?!) Оркестр сыграл туш.
Мне не было больно; я чувствовал лишь тяжелую тупость — духовную головную боль. Сегодня была суббота. Что теперь мне делать? Завтра будет воскресенье. День праздника и отдыха. Красный день календаря — да, красный от муки! Что же до моего отплытия домой — я мог только махнуть рукой!
Когда убрали первую перемену, поднялся генерал и предложил тост за здоровье жениха и невесты, а оркестр сыграл туш. После этого поднялся капитан Негодяев и предложил тост за здоровье родителей невесты.
Потом начали произносить речи политической направленности, генерал выпил за славную бельгийскую армию, и оркестр исполнил, не совсем правильно, государственный гимн Бельгии. После чего поднялся дядя Эммануил и выпил за возрождение России, на что генерал как самый старший офицер среди присутствующих ответил, включив в свой тост Англию и вообще всех союзников (позабыв в праздничном настроении их предательство в отношении себя).
— Обращаясь к нашим последним союзникам — американцам, — произнес он, — должен отметить, что хоть они и безбожники, они все же чертовски умный народ. Граммофоны, галоши, обувь, машины, изобретения и разная другая ерунда — все могут делать; или, скажем, построить мост через океан — на это они мастаки. Американцы! Ура!
Оркестр сыграл туш. Мы со Скотли сказали за Англию. Затем поднялся полковник Исибаяси, чтобы сказать за Японию; все наклонились вперед и обратились в слух.
— Имею большую честь, — сказал он, — говорить за достопочтенных офицеров армии союзников. Банда большевиков, которая появилась на северо-востоке от Читы, гордая, но слабая, отступила, заслышав приближение наших войск. Возможно, они шпионили за нами и ощутили большую тревогу, они уходили все дальше и дальше. Поэтому мы можем поддерживать мир в Чите и безопасность основной ветки железной дороги, не обнажая меча. Сейчас перестали быть целесообразными большие части здесь. Поэтому мой командующий приказал разрешить союзникам вернуться в Харбин. Скоро вы будете праздновать триумф и получать большую честь. Мы выполнили наш долг с вашей большой помощью. Выражаю вам тысячу благодарностей за любезное содействие… Тут Скотли, с багровым лицом, наклонился к полковнику.
— Кончайте говорить о делах, старина, — сказал он, — расскажите-ка нам лучше… что-нибудь такое… что-нибудь, черт побери, о ваших гейшах, а?
Полковник Исибаяси оскалился.
— Ха! Ха! Неуззели? — и повернулся к молодоженам: — Зелаю вам счастливости по этому случаю. Маленькое развлечение на поле брани, и надеюсь, что вы будете пить много сакэ, весело говорить и петь.
И он уселся, — а оркестр сыграл туш.
Генерал, который только что побуждал к солидарности среди союзников после войны, от количества выпитого впал в усталый цинизм и разочарование.
— Ах! — Усталый жест. — Все это болтовня, болтовня. Они болтают про льготные условия для союзников, про оговорку о наибольшем благоприятствовании и прочем вздоре. Однако на практике к чему это все сводится? Мы, русские, например, столько всего сделали для армян. Но когда один из наших захотел в Нахичевани побриться, цирюльник, прежде чем намылить ему лицо, плюнул на мыло. Ну, тот, ясно, вскакивает, требует объяснений. «Не волнуйся, красавчик, — цирюльник ему говорит. — Мы так показываем свою благосклонность — льготные условия. Обычному человеку мы сначала плюем ему в рожу, а потом начинаем намыливать!» Да-с. Вот к чему это приведет… ни к чему больше… хе-хе! — Генерал слабо захихикал.
И, глядя на это смешанное, разнородное сборище, я думал: какого дьявола должны государства воевать? Пустоголовый кретинизм «союзов», дружественных связей тех или этих государств: все государства были слишком разными и слишком непохожими друг на друга, чтобы гарантировать создание какого-то естественного лагеря, основанного, как сейчас, на личных пристрастиях. Это было абсурдно. Тем не менее, он все вели себя так, словно в этом бегстве наутек крылось некое прочное преимущество. Были глупцы, проповедовавшие войну в экономических целях, а когда после войны и победителей, и побежденных засасывало гнилое экономическое болото, оставленное войной, эти сразу же забывали о своих экономических аргументах (пока не начинали раздувать следующую войну). Это было невероятно. Никто не хотел войны, никто, кроме горстки кретинов, и вдруг все те, кто не хотел войны, обратились в кретинов и стали подчиняться той горстке, которая развязала войну, как будто другой возможности и вправду не было, — того простого здравого смысла, по которому, что бы ни произошло, нельзя было начинать войну: ибо, что бы ни случилось, оно по естественной природе вещей не может быть хуже войны.
Какой же смесью были мы все, даже в пределах каждой национальности. Русский денщик Станислав был больше поляк, чем русский; Браун — скорее канадец, чем американец; Гюстав — скорее фламандец, чем валлон, а я — ну, вы знаете, кто я. И, наконец, — словно чтобы это сборище могло лучше представить недавнюю Мировую войну, — был среди нас юный британский офицер, один из тех молодых, простых и хороших ребят, которые в войнах, развязанных во имя свободы, цивилизации, отстаивания национальной чести, подавления тирании, восстановления закона и порядка и прочих кровожадных и священных поводов, тысячами приносятся в жертву, и их мировосприятие основано на смутном чувстве, что где-то что-то не так, и кого-то надо за это вздернуть.
Поэтому они весело отправляются к своей погибели, полагаясь на то, что их враг — то зло, чьей крови они ищут, и, вступив на этот праведный (и рискованный) путь, они уже мало волнуются насчет происхождения этого зла. И они отправляются убивать и калечить и в свою очередь быть убитыми и покалеченными, весело, запанибратски. Их образ мышления, их манера говорить находятся в согласии с состоянием их души. Только и пристают ко всем весь день напролет с вопросом: «А барменши пожирают своих детенышей?» Или привязываются к одной фразе вроде «Да ты весь растерзан!», и она становится постоянной шутливой фразой, применимой к любому и в любой ситуации. Или подхватывают фразу: «Лишний кус хлеба», и все у них становится лишним — лишний кус пива, лишний кус сна, лишний кус стирки. Их разговоры опускаются до того, чтобы наутро поведать друг другу, сколько минувшей ночью он выпил виски с содовой.
— Горько! Горько! — закричал генерал.
Оркестр сыграл туш.
Сильвия и Гюстав поцеловались.
До этого я часто встречал в книгах и слышал фразу: «Какой у нее красивый смех!» — и она всегда оставляла меня равнодушным из-за тайной мысли, каким искусственным должен быть такой смех. Мне казалось, что красивый смех должен быть естественным и ненатянутым. Но сейчас, несмотря на то, что я многажды видел, как она смеется, я говорил себе с готовностью, с восторгом: «Какой у нее красивый смех!»
Какую прелесть, какое сокровище я отдавал другому! И, главное, кому?! Как глупо. Упустить свое счастье по обычному недосмотру, даже хуже того, беззаботно отказаться от того единственного, что следовало бы хранить. И десять тысяч дьяволов ада нашептывали мне в уши из каждой потаенной извилины мозга: «Ты упустил свой шанс! упустил! упустил! упустил! упустил!»
— Горько! — закричал генерал.
Сильвия и Гюстав поцеловались.
Оркестр сыграл туш.
Напротив меня сидел Гарри, и он вдруг спросил: — Где Бог? Он что, везде?
— Думаю, да.
— И что, в этой бутылке тоже?
— Думаю, да.
— Но как Он попал туда, ведь бутылка закупорена?
— Думаю, Он уже был внутри, когда бутылку сделали.
— Но почему Он тогда не утонул в вине?
— Думаю, Он может существовать везде.
— Но я Его не вижу, — произнес он, всматриваясь в Шато Лафит разлива 1900 года.
— Я тоже, — признался я, — пока нет.
Но, ухватившись за удобный случай, Гарри уже не замолкал и весь оставшийся ужин донимал нас вопросами вроде: «А нимб пристегнут к голове Бога резинкой?» Или: «А что бы сделал Бог, если бы на него набросился большущий тигр?» Или, уже плоскостью ниже: «А почему нельзя жевать молоко?»
Доктор Мергатройд только что прибыл из особенно трудного путешествия, проделав шесть тысяч верст из Омска в старом безрессорном вагоне для перевозки скота. В нынешней ситуации воистину редко случалось, чтобы поезд не останавливался каждые несколько верст вследствие перегруженности путей. Но получилось так, что вагон с доктором Мергатройдом был прицеплен к особому поезду одного воинственного генерала, который возымел непреклонное намерение проехать в Харбин по возможности без остановок, и чтобы другие почувствовали мрачную непреклонность этого намерения, впереди состава шел бронепоезд, и еще один бронепоезд шел сзади. И доктор Мергатройд, проводивший сутки напролет на полу своего вагона, один, среди подсолнечной шелухи и апельсиновой кожуры, человек безразличный и равнодушный ко всему на свете, и то молил небеса, чтобы поезд остановился хотя бы на минутку. Однако воинственный генерал в своей мрачной решимости думал иначе, и таким образом доктор Мергатройд, совершенно разбитый, прибыл, наконец, в Харбин. Когда дверь вагона отвалили, железнодорожники узрели любопытную сцену — доктора Мергатройда, небритого, немытого, лежащего на куче подсолнечной шелухи и апельсиновых корок и читающего книгу. Он как раз собирался прочесть в местном институте лекцию на тему союза православной и англиканской церквей, но теперь, разбитый жестокой тряской в вагоне для скота, он заколебался.
— И как вам Омск до эвакуации? Могу себе представить! — спросил за столом капитан Негодяев.
Доктор Мергатройд изобразил на лице зловещую значительность.
— В нынешние времена, — произнес он, — мы живем на вулкане.
— Истинная правда. У меня две дочери, доктор Мергатройд, и меня весьма беспокоит их будущее. Маша, бедняжка, замужем. А Наташа здесь. Вон она, Наташа.
Доктор Мергатройд бросил рассеянный взгляд через стол и вонзил вилку в сардину.
— Очень жаль, что в наше смутное время ее образование совсем запущено. Но ей всего лишь восемь лет, и английский для нее уже как родной.
— Это весьма необходимо, — сказал доктор Мергатройд. — Близкое знакомство с обоими языками неизбежно сведет наши страны и облегчит воссоединение православной и англиканской церквей. В Омске я имел беседу с митрополитом Николаем и архимандритом Тимофеем, и оба иерарха; похоже, были поражены моими словами.
Общероссийское правое дело колебалось то туда, то сюда вместе с захваченными территориями, а защитники этого дела, вне зависимости от военных удач, неумолимо теряли в глазах населения из-за поддержки иностранных войск, в то время как защитники революции набирали вес, поскольку удерживали от иностранных «захватчиков» центр, исторические цитадели России: кроме того, их приверженность делу революции была бесспорной. И все чаще вставал вопрос — кто такие русские? Массы перевесили числом старых лидеров. У масс появились новые лидеры. Старые лидеры обнаружили, что им некем управлять. Правое дело стало делом пустым: русский национализм вместе с самой землей переместился к противнику, остался один костяк. Старые лидеры превратились в крестоносцев на берегу: дело их было проиграно и, помимо всего прочего, стало их личным делом и вдобавок к этому — делом международных милитаристов. Это было, прямо сказать, дело совершенно безнадежное, безосновательное. Перетягивание каната завершилось разгромом. Революционеры выиграли общенациональное дело, а заодно — и дело революции.
Именно так русская революция представляется сейчас. Но тогда это была мешанина беспорядочных инцидентов, зловещих преступлений и деспотических поступков, мелких сует и бессмысленных жестокостей, благих намерений, часто неуместных, а еще чаще недопонятых, и людей, нередко имеющих в виду одно и то же, а именно — взаимное уничтожение. Так революция повлияла на доктора Мергатройда и подобных ему; и за беспорядочным гамом давних надобностей и разрастающимся экономическим хаосом они отказывались признать, что это бурное движение неизбежно, и относили все к сумасбродству того или иного политика, работе немецких или еврейских «агитаторов», а то и просто полагали все дурной шуткой.
Тогда, в Омске, доктор Мергатройд был очень занят. Он проводил яростную антибольшевицкую пропаганду и в пылу и усердии несколько перегнул палку. Он рисовал большевиков такими мрачными, зловещими красками, представлял их злодеяния такими чрезмерно-ужасающими, что когда солдаты-сибиряки, которых ему нужно было погнать против советской власти, видели подготовленные для них брошюры, их охватывал панический страх. «Э нет! — говорили они. — Ежели они такие, нам там делать нечего», — и дезертировали целыми батальонами. Дело Колчака доктор Мергатройд сделал своим собственным. В то наиважнейшее время, когда судьба Омска колебалась на весах, доктора пригласили на чрезвычайное заседание Совета министров принять участие в обсуждении возможной эвакуации города, и доктор Мергатройд, отнюдь не военный, произнес речь на русском, обратив внимание министров на плачевное состояние городских садов и предложив помощь британских специалистов по садоводству, которых можно было бы без промедления пригласить из Англии, — страны, которая, как пояснил доктор Мергатройд, достигла выдающихся успехов на этом поприще. Его неуместная тревога за эвакуируемый город не была полностью оценена членами Совета, поскольку, как выяснилось, они с трудами понимали его русский, настолько, что когда по окончании этого памятного заседания он подошел к почтенному седовласому генералу, чтобы спросить, что он думает о его, доктора Мергатройда, речи, почтенный генерал с милой улыбкой выразил сожаление, что в молодости пренебрегал уроками английского языка, вследствие чего испытал затруднение в понимании всего, о чем доктор Мергатройд, без сомнения, разумно и прекрасно говорил.
— Я хочу оставить журналистику, — сказал доктор Мергатройд, — и по возвращении в Англию серьезно заняться политикой.
Я промолчал. Мне думалось: в такой огромной, неуклюжей, неверной, неопределенной, рассеянной, путанной, бушующей массе, как политика, одним дураком больше или меньше — неважно.
— А чем теперь займешься ты после войны, когда ты уже взрослый, Александр? — спросила Сильвия.
— Чем бы ты хотела, чтобы я занялся?
Она немного подумала.
— Ты не любишь милитаризм. Что ж, тогда я бы хотела, чтобы ты пошел во флот.
— Конечно, ведь там форма… заграничные плавания… танцы… флагманы… этикет. Но подумать только, чтобы человек родился, вырос, получил образование с единственным намерением в жизни — проделать дыру в чужом корабле и послать его на дно морское. В ожидании этой задачи он читает и пишет, играет и любит, но все это — не более чем перерыв, развлечение, в которое он пускается до той поры, пока не приходит великий и гордый час его жизни: он проделывает дыру в чьем-то чужом корабле и посылает его на дно морское.
— Ты сердишься, — сказала она.
Да, я сердился: я представил себе «le sabre de mon père» и взглянул на Гюстава. Почему я позволил другому забрать ее? Любовь земная не вечна — ну, разве случается единожды в вечность. Внезапно мне пришла мысль: я ей отвратителен, потому что я не проигнорировал, не отмел проблему выбора между счастьем и жертвой и попросту не увез ее отсюда. Если бы не эта дилемма, эти разрушительные увещевания, я бы сидел сейчас рядом с ней, моей возлюбленной. Какое лицемерие — притворяться, что мне помешали соображения тетки. Почему сейчас не каменный век, когда бы я огрел тетку дубиной и уволок Сильвию? Я отказался от своего драгоценного притязания — я, который мог бы вылепить ее по своей воле. Она была как воск — и подобно воску она была вылеплена — чем? — слюнявым эгоизмом тети Терезы! О, это было нелегко вынести. Этого нельзя было вынести!
Любовь разгорается от ветра воображения, вспыхивает пожирающим огнем от этих банальных, безрассудных и презренных близнецов — сожаления и ревности, — которые, тем не менее, сильнее человеческой воли. Сильнее, потому что они утвердили над ней несправедливый выигрыш. Как дитя, ведущее быка за кольцо в носу, так и они ухватываются за нервные центры человеческого счастья и боли — и одерживают бесстыдную победу. Имеет значение не сила воли, не видимый ущерб, изъязвивший вас, а тот самый выигрыш в силе, с помощью которого боль вскапывает вашу душу. Выигрыш, с помощью которого меня заставили страдать от моей потери все всяких пределов, был от мысли, что на мне полностью лежит вина в том, что никакой потери не было. До сей поры наши отношения были так же просты, как между петушком и курочкой. Я только и кричал: «Кукареку!» И Сильвия откликалась: «Ко-ко-ко!» Ту же черту я подметил в отношениях между Гарри и Норой. Она повторяла все, что он говорил. И даже если я цитировал нечто вроде:
Сильвия, хоть и не знала этой цитаты и не заботилась о том, откуда она взята, с радостью повторяла:
Не видишь ты испанских кораблей… Ха-ха-ха-ха… нигде не видно.
Я жаждал ее. Я ревновал к себе в те времена, когда я расхаживал, как петух, а она бегала за мной, как курочка, и повторяла мои слова. И мне пришла мысль, что в вечной преисподней нам не оставят ничего, кроме наших воспоминаний, чтобы дразнить нас тем, от чего мы умышленно отказались при жизни.
— Горько! — закричал генерал.
Они поцеловались. Оркестр сыграл туш.
Скотли и Браун, сидевшие рядом, казалось, бахвалятся изо всех сил.
— Спокойней! Спокойней! — подсказал я.
— Ничего, — гоготнул Скотли. — Я верю в то, что с американцем надо говорить на его языке! Ха! Ха! Ха!
По ходу застолья Скотли и Браун все больше проникались друг к другу нежными, братскими чувствами. Капитан Негодяев, сидевший слева от меня, придя в задушевное настроение от выпитого, толкнул меня локтем и, глядя на Скотли, произнес:
— Я капитан, он — майор. Но в нашей армии больше нет майоров. Русский штабс-капитан равен по чину вашему капитану, а русский капитан — вашему майору. Так что он майор, а я капитан, и мы — братья по оружию, поэтому я хочу сделать ему подарок. Подождите, я хочу ему кое-что подарить, потому что он майор, а я — капитан, и мы братья по оружию. Хочу ему подарить кое-что. Скажите ему это.
— Что?
Он снял с груди знак.
— Это мой полковой знак, — произнес он. — Я хочу его подарить ему потому, что это — самое дорогое, что у меня есть, и еще потому, что он майор, а я — капитан, и мы — братья по оружию. Скажите это, ладно?
Я толкнул Скотли под локоть, но он был занят разговором с Брауном и только кинул:
— Подождите минутку.
— Он занят, — сказал я.
— Скажите, что это самое дорогое, что у меня есть. Он был у меня на груди, когда в него попала пуля, и он спас мне жизнь. Клянусь, что никогда не расстался бы с ним, оставил бы его лучше моим дочерям и их детям. Но сегодня я хочу подарить его ему, потому что, говорю же, он майор, а я — капитан, и мы равные по званию и братья по оружию, и это — самая дорогая вещь, которая у меня есть. Я хочу, чтобы он дорожил ею. Скажите ему это, скажите!
— Подождите минутку, — произнес Скотли, когда я опять толкнул его под локоть, и продолжил, глядя на Брауна туманным, мягким взором:
— Ты славный малый, старина Филип, и я ничуть не против, чтобы Соединенные Штаты когда-нибудь присоединились к Британской империи — когда-нибудь!
— Гы! Ты мировой парень, Перси, — ответил Браун, — и мы присоединимся к вашей империи в тот самый день, когда вы переведете свою столицу в Вашингтон.
— Слушайте, Скотли! — произнес я. — Негодяев…
— По очереди, по очереди!
— Скажите ему, — настаивал капитан Негодяев, — как он мне дорог!
— Боже святый, да подожди же немного! — зарычал Скотли. — Я не могу разговаривать сразу с двумя.
Капитан Негодяев пытался шумно его убедить.
— А ну-ка, закройся, командир! Не кипятись так! — приказал Скотли, поворачиваясь к нему с бесцветным взглядом.
— Но он хочет подарить вам свой полковой знак, — объяснил я.
Капитан Негодяев дал мне знак, и я передал его Скотли.
— Ладно, старина, — сказал тот русскому, запихнув знак в карман, — но я же не могу говорить сразу со всеми, правда? — И он снова повернулся к Брауну.
— Вы ему сказали? Сказали? — приставал ко мне капитан Негодяев. — Он будет им дорожить?
— О да, еще как будет.
— Но он ничего не сказал.
— Он был занят разговором с Брауном.
— Но это самое дорогое, что у меня есть!
Весь остаток ужина Негодяев был неразговорчив. В нем уже не чувствовалось задушевности, только немота, словно он был смертельно оскорблен. Но у меня были свои проблемы, и меня не волновали его. Люди, предметы, разговоры были «атмосферой», заряженной моей любовью. На свете была одна только вещь — моя ревнивая любовь, и все другое отвлекало внимание и добавляло к моим страданиям. Я видел ее, сидящую в вечернем освещении, мягкий свет фонарей на ее темных волосах. Я слышал, как она смеется, как играет «Четыре времени года»: мелодия, от которой хотелось плакать. Бежать с ней по полям, сходить вместе с ней под дождем вниз по склону, видеть ее во сне, сидящую за ужином в жоржеттовом платье цвета шампанского, нежнейшую из фей, ее темные бархатистые глаза застенчиво, легко моргают. А потом проснешься — а ее нет. Я воображал, как напишу ей откуда-нибудь издалека: «Сейчас заполночь. Я только что с ужина, где кто-то произнес: «Сильвия!» — и мысль о тебе пронзила сердце, словно стрела. Я не слышал, что говорил мой сосед; я вежливо слушал, но душой находился с тобой, за тысячу миль отсюда. Где ты, Сильвия-Нинон?
И я думаю: быть может, она получит это письмо, ужиная в ресторане с Гюставом, и хладнокровно прочтет его ему, как когда-то прочитала мне письмо от торговца каучуком. Я так четко вижу тебя перед собой. Не могу забыть твоих глаз, твоих сияющих, лучистых глаз, нежного воркующего голоса: «Александр, слушай. Ты никогда не слушаешь, когда я говорю, как с гуся вода» (о, как бы я слушал сейчас!), и тех нежных поцелуев, и нашу любовь.
Вдруг я вспомнил, что единственными моими словами ей, единственными ободряющими словами, в которых был что-то кроме сексуальной заинтересованности, были: «Ты не должна есть так много шоколада; это вредно для зубов». И это после того, как я неохотно купил ей коробку «Гала Питер» — по пять шиллингов за фунт.
Любовь — как спичка, зажженная в темноте; она освещает всю затаившуюся чувствительность к боли — твою и ее. Как бессмысленно, как непостоянно! Гюстав выглядел триумфатором, добившимся своего. И тотчас же я кожей почувствовал ситуацию, типичную для нелепости любви. Сюжет для рассказа. Один мужчина отброшен, а другой, одержавший победу, разглагольствует на тему славной битвы!
Я чувствовал грусть, которая на поверхности преобладала над глубинами моего подлинного счастья; я ворчал, но все время чувствовал, что ворчу по поводу того, что не приносит истинной боли. Мы были так честны, так неумолимы, требовательны, напряжены; мы надрывали глотки до глухоты к настоящему, внутреннему голосу, который даже в спокойные времена едва набирался решимости заставить себя услышать; и под этим было ощущение, что все это — заемные эмоции, пускай поглощающие и болезненные, но на самом деле банальные и ненужные.
— Шампанского! Шампанского!
Звук откупориваемых пробок, игристое вино, голоса, музыка… Мне было жаль себя, я ревновал к самому себе прежнему, будничному, кого она любила, ревновал к мысли, что она любила меня тогда, когда я не стоил ее любви, а сейчас, когда я готов был целовать ее ноги, я больше ее не волновал.
Когда ужин подошел к концу, меня попросили сыграть, буквально подтащили к фортепиано. Я сыграл тот полный страсти кусок из «Тристана», но он не вызвал большого энтузиазма. Я опозорился. Доктор Мергатройд спел нам современные комические куплеты, которые были современными еще при Джозефе Чамберлене. Мистер Уолтон, представитель британской дипломатической миссии, который, согласно справочнику «Кто есть кто», получил «домашнее образование», был обучен также игре на фортепиано и, понуждаемый военными (считавшими этого выдающегося штатского вдобавок ко всему прочему еще и славным малым), занял место за видавшим виды пианино, а мы все, сомкнувшись в братский хоровод, образовали большой круг: генерал Пше-Пше рядом с дядей Эммануилом, Скотли рядом с генералом Пше-Пше, полковник Исибаяси рядом со Скотли, я рядом с полковником Исибаяси, полковник-француз рядом со мной, — и когда заиграла музыка, принялись всплескивать скрещенными руками все сильнее и сильнее под медленный осторожный напев «Старых добрых времен», выражая на сияющих лицах блаженство и вечную верность. Закончив песню, мистер Уолтон повторил ее с большей точностью и уверенностью, а Перси Скотли подчеркнул ее рукопожатием, подтверждающим, что слово Британии так же твердо в мире, как и на войне. Итальянец тоже не отставал в сердечности. По той серьезности, с какой маленький дядя Эммануил держался ритма, было видно, что он отдается этому абсолютно без остатка. Капитан Негодяев, видимо, еще не забывший хамства Перси Скотли, был сама мрачность и, как его страна, держался в стороне, нехотя присоединясь к триумфу союзников. Повадка Брауна с его честной широкой улыбкой выдавала мысль, что хоть для янки все мы иностранцы, мы-таки достойные ребята, и девиз «Лучше поздно, чем никогда», в конце концов, для нас чего-то стоит, как бы мы этого ни скрывали. А прохладная, но любезная отчужденность француза призвана была показать, что со своей стороны он прилагает все усилия, чтобы помнить, что Франция пользовалась некоторой небольшой поддержкой извне, выиграв свою победоносную войну. Еще и еще, еще и еще, наши глаза сияют, пот струится по лицам, наши сцепленные руки падают с мертвящим стуком под замедляющийся ритм и нарастающую выразительность песни. Если то не была кульминация победы, пароксизм ликования, апофеоз триумфа, победа дела союзников in excelsis[99], никакого дела союзников не было вообще. Мистер Уолтон, словно чувствуя, что это было как раз дело союзников in excelsis, вставлял после каждого восьминотного такта по две шестнадцатых ноты, так что можете себе представить эффект. Скотли дергал руками все сильнее и сильнее, так что его соседям уже казалось, что их руки вот-вот отвалятся; японец пел громче и громче. Победа была наша. Враг был повержен ниц. Небеса ликовали.
Когда веселье отбушевало, и мы танцевали в коридоре в чужих фуражках (генерал Пше-Пше в фуражке полковника Исибаяси, я в фуражке итальянца, француз — в моей, Скотли — в чешской, японец — в американской и так далее), я вдруг заметил, что на столе в передней лежит полковой знак капитана Негодяева. Я быстро взял его, вернулся в столовую, где у камина стоял насупленный капитан, и отдал знак ему.
— Вот.
Потемнев, он взял его. И внезапно швырнул его в камин, хотя знак отскочил и не попал в огонь. «Ну, это его дело», — подумал я и вышел в переднюю проводить гостей.
Вернувшись в столовую, я увидел Владислава, нагнувшегося над камином, и стоящего над ним капитана Негодяева.
— Болван! — говорил он. — Чего ты сидишь на корточках и таращишься на меня? Ищи эту чертову штуковину! Ищи, тебе говорят!
44
— Грустя.
— Да, Грустя. Боюсь, теперь я все время буду носить это имя.
Вечернее солнце пробивалось сквозь окно, падало на ковер, на шелковое кресло. Мухи кружились, как скаженные, вокруг глобуса. Кажется, они сделали его своей штаб-квартирой — местом для свиданий. Вскоре и оса не замедлила. На какое-то время мы оказались наедине.
— Что я могу сказать? Что вообще говорить? — Слова застревали у меня в гортани.
— Маленький принц, ты не можешь быть таким же одиноким, как я.
Солнце уходило, уползало с ковра, с кресла. Мухи расселись по окнам и стенам. Стало трудно дышать. Тучи сгущались, становились все более и более зловещими. Внезапный порыв ветра; хлопнула садовая калитка. Потом несколько больших, теплых капель ударили в дорожную пыль, и вот уже дождь бьет по листьям, длинно и протяжно шумит в воздухе. А издалека докатывается глухой бас грома. Уже пару раз прочертила воздух молния, чуть ли не перед самыми глазами. Дождь был — единая масса серого вертикального тумана. Мы стояли у окна, вдыхая свежую благодать. Как долго это продлится?
— А он?
— Он здесь, у маман, — разговаривают.
— Гюстав… — вздохнул я.
— Не люблю его имя.
— Почему? Флобера звали Гюставом. Выдающееся имя. Не хуже моего, во всяком случае. Жорж — есть только Жорж Карпентье[101]. Неподходящая ассоциация для интеллектуала!
— Если бы только имя… — Она посмотрела на меня. Вдруг, застенчиво: — Прошлой ночью мне снилось, что мы с тобой летим на аэроплане. Я выбросила за борт две твоих книги, и ты стал такой сердитый, такой сердитый — ты выпрыгнул за ними прямо из аэроплана, а мы были так высоко, так ужасно высоко. Я просто выплакала себе глаза, пытаясь тебя высмотреть, но не могла. Потом ты каким-то образом вернулся — но как, не помню.
Я смотрел на нее. Душа, настрадавшись, было странно спокойна. Я просто глядел на нее и не мог вымолвить ни слова.
— В «Дэйли мэйл», — сказала она, — на днях была статья про любовь — «Как завоевать и сохранить любовь женщины».
— «Дэйли мэйл»… «Дэйли мэйл»… Почему эта «Дэйли мэйл»? Почему ты читаешь «Дэйли мэйл»?
— Потому что я люблю их статьи про любовь и разные вещи. Я слежу за ними, чтобы знать, как обстоят наши дела, как мы любим, понимаешь? Тебе надо их читать.
— Я был так слаб, — мелодраматически вскричал я — по-настоящему входя в роль. — Так отвратительно слаб, так нерешителен. Полагаю, меня поглотила эта гамлетовская нерешительность, навязанная мне моим именем.
— Неважно, дорогой, мы будем путешествовать. Однажды мы прибудем в Европу и увидимся с тобой; ну, не славно ли?
— Но Гюстав! — закричал я, почти со слезами. — Гюстав! Гюстав! Из всех! Метание бисера… Такая глупость, такой идиотизм, когда приходится об этом думать… правда? Зачем его-то втянули в это дело? О, когда ты все рассматриваешь, думаешь наперед, взвешиваешь, выбираешь… лучше, по-настоящему лучше, когда вообще не думаешь.
— Неважно, дорогой.
— Я заслужил это… с процентами… заслужил, честно. Но ты: почему ты? Почему мы с твоей матерью тебя так подвели… да, и твоя мать?!
— Неважно, дорогой. Он не идет в расчет. Ничто не идет в расчет. Мы будем все время думать друг о друге, и ничто, ничто не считается.
Я смотрел на нее. Смотрел долго и неотрывно, и она несколько раз моргнула за это время. Я смотрел — и вдруг слезы покатились у меня из глаз.
— Жемчужинка!
— Что?
— Моя маленькая жемчужинка!
— Да… принц.
— Что?
— Мой маленький принц.
— Да. Мы должны расстаться, да?
— Так жестоко!
— Шестнадцать тысяч миль!
— Не надо, а то я заплачу.
И казалось, что вечер слушал, горевал, сочувствовал нашей предстоящей разлуке.
— Суть в том, — промурлыкала она, глядя мне в лицо своими темными бархатистыми глазами, — что я больше никогда тебя не увижу.
— Гюстав! — позвала тетка. Он возвратился к ней.
— Ну вот, идет… — Сильвия повернулась ко мне, словно собираясь уходить. Она хорошо относилась к Гюставу, когда он был на чьем-нибудь фоне — на фоне других людей; чем больше людей, тем лучше. Оставаться с ним наедине было другое дело. Тогда он был словно нитка, выдернутая из общего узора, — убогий вид. Когда она была с ним помолвлена, они никогда не оставались наедине, и она настаивала на том, чтобы пойти куда-нибудь с друзьями, включая меня. А сейчас она непременно должна оставаться с ним.
— Гюстав! Спокойной ночи! — сказала тетя. — Сильвия сегодня не пойдет домой. Elle n’ira pas.[102]
И опять мне послышался военный приказ: «Вторая рота, марш!» Но она соизволила прибавить:
— Она слишком устала сегодня и останется дома.
Elle restera à la maison. À demain, alors![103]
Гюстав лишь повел редкой бровью — как будто до него дошло, что в большинстве семей такое происходит редко. Глотнул пару раз, кашлянул и настроил кадык. Потянул за воротничок робким жестом, неуверенно откашлялся и произнес:
— Что же, тогда спокойной ночи, маман.
— Спокойной ночи, Гюстав. — Она прикоснулась губами к его редкой брови, когда он наклонился и лизнул ее белую руку. — À demain!
Он постоял еще немного, словно желая что-то сказать, потом глотнул и вышел. Он ушел.
Если вы еще в этом сомневаетесь, просто скажу вам: вы не знаете моей тети. Мы с Сильвией стояли, потеряв дар речи. Это было слишком неожиданно. Даже сама тетя Тереза выглядела так, будто изумилась самой себе. Внезапно я понял тайную силу этой женщины — как ей удалось уговорить мужа поехать на Дальний Восток в самый разгар «величайшей из войн, какие только видел мир».
— А теперь ступайте спать. Уф! Я так утомлена.
— Но еще нет восьми!
— Неважно. Всем спать. Ты уезжаешь рано утром.
Я побродил по дому, думая об отъезде. Мои сундуки были упакованы. Мои шкафы пусты. Мое время незанято.
Сильвия была в гостиной. Она поднялась мне навстречу.
— Я так рада, что ты пришел.
— Почему, дорогая?
— Мне было так грустно. Я приняла ванну… и вдруг мне стало так одиноко… так… одиноко… как будто я одна на свете. — Она моргнула. — Я могу разговаривать только с тобой.
Поцелуй.
— О-о-о!
— Что?
— Болячка на губе.
— Ничего.
— Сильвия!
— Да.
— Сильвия!
— Да.
— Сильвия! Сильвия! Сильвия! Сильвия! Сильвия! — бормотал я с разными акцентами, восторженными интонациями, а она прижималась ко мне. Мы были одни, и мир сжался до единственного уголка нашей души, слушал и молчал.
Я целовал ее глаза — ее карие глаза — ее теплые, нежные веки.
— Вот. И еще. И еще.
Сильвия целовалась бурно, так, словно у нас не было носов, препятствующих поцелуям. Я целовался осторожнее, обходя носы. И сейчас на меня обрушились поцелуи обильные и непрошенные, как шоколад ко дню рождения. В распахнутое окно влетал запах весны — душистая влажность и тяжелый аромат.
— Если ты будешь и дальше любить меня, а я — тебя, то чего еще хотеть? — спросила она.
— Друг друга во плоти, конечно.
— Мы ведь можем любить друг друга, думать друг о друге.
— Думать! — сардонически повторил я.
Снаружи была весна — прекрасная, как та, что минула, прекрасная, как та, что еще наступит. Выглянуло солнце, но дождь еще шел, медленно, небрежно.
Как, после череды неудач, отчаяния, неожиданно расцветает жизнь!
Мы вышли в сад, прошли под деревьями, почувствовали на наших лицах капельки — прохладные, чистые, серебристые капли. Когда жизнь улыбается вам, это искупает все. Буки, темные и изящные на фоне поблекшего неба, словно кружевная шляпка Сильвии, стояли пассивные, не задающие вопросов, и в их безоговорочном одобрении всего на свете, принятии жизни как должное чудилась мудрость; мудрость — и печаль.
— Надень то платье цвета шампанского, надень его для меня.
— Но это бальное платье, дорогой.
— Неважно. Я люблю тебя в нем. Я хочу запомнить тебя в нем — навсегда.
Она была серьезной, мигала.
— Ты хочешь, дорогой?
— Да.
Она ушла в дом, а я остался и, ожидая ее, принялся расхаживать по газону и разглядывать деревья, застывшие в меланхолии пробуждения. Внезапно мне вспомнилась прошлая весна, наша любовь, мое настроение тем вечером. Было какое-то воспоминание о невыполненном обещании — о прошлых веснах — в этой строгости раннего расставания, когда я вдыхал полной грудью сумеречную влажность, окутывающую меня, обещание, которое, я знал, никогда не будет выполнено по эту сторону могилы. И мне было грустно. Не потому, что нам двоим суждено расстаться, а я уезжаю утром. Думаю, что если бы нам не нужно было расставаться, мне было бы все равно грустно. Если бы у меня увели любовь — как этим вечером у Гюстава, — я знаю, что чувствовал бы — и весьма остро — эту меланхолию нарождающейся жизни. Но меня вознаградили щедро и неожиданно, однако была весна — и я был грустен. Грусть эту мы объясняем земными причинами, но она посещает нас весной, словно навязчивый мотив, эта грусть без причины — что это? Сожаление ли это оттого, что мы, частицы единой души, скорбим по отдельности, оплакиваем свою «непонятость»? Но если мы не можем понять самих себя? Если в лучших своих проявлениях мы полупусты, — что мы ответим друг другу, мы, ставшие скептичными — и заслуженно — к ответам, мы, оборванные мелодии, которые могут только без конца задавать вопросы (поскольку есть вопрос, и есть Нечто), пока, наконец, не сливаемся в один величавый союз всемирной души: какое послание мы пошлем к небесам, как не еще один вопрос, «оркестрованный», но так же остающийся без ответа? Пока мы не влюбляемся и не плачем в муках: доколе, Господи, доколе?
Сильвия, в своем легком жоржетовом платье цвета шампанского, по виду — нежнейшая из фей, вошла в гостиную, ступая на носочках.
— Как я люблю тебя!
— О! Правда? — отвечала она. — О! О! Понятно.
Она говорила сама с собой, воркуя, как горлица. Мы сели на диван. Я осмотрел ее кольца, и боль пронзила мне сердце, когда я увидел свое кольцо рядом с обручальным. И, словно угадав мою мысль, она сняла его и молча показала мне. Вот это: «Положи меня, как печать, на сердце твое». В газете ей попалось стихотворение, которое она посчитала подходящим для этого случая, и шепотом зачитала мне:
Когда-нибудь узрим
Любимое лицо,
Пожатье наших рук,
Как вечное кольцо.
— Хочу твой локон.
— Да, дорогой, можешь взять какой хочешь.
Я принес ножницы.
Она взяла две моих карточки, на которых стояло: «Капитан Дж. Г. А. Дьяболох, британский военный представитель. Харбин», и переписала на другую сторону это стихотворение, одновременно читая его вслух:
Когда-нибудь узрим Любимое… нет, любимого лицо, Пожатье моих рук…
— Но не «рук». Ты не пожимаешь руки сам себе. Ты это и так можешь делать.
— Ну, тогда «наших рук».
— Губ, не рук.
— Да, губ. «Пожатье наших губ…» — но ведь не «пожатье»?
— Нет, «слиянье».
— …Как вечное кольцо.
И, покончив с карточками, она отдала мне одну, а себе забрала другую в знак вечной памяти.
— И лепесток этого желтого цветка.
Она дала мне лепесток, а другой взяла себе.
— Да.
Молчание.
Я смотрел на нее.
— Почему ты ничего не говоришь?
— У меня ком в горле, — сказала она, — не могу говорить.
Я подошел к фортепиано и, попробовав клавиши, попытался сочинить что-нибудь на тему расставания. Но результат был отвратителен.
Сильвия открыла страницу с цепочками тридцать вторых нот — жирных, как ежевика. Я попробовал несколько нот и остановился. Вязание и восьмые ноты вгоняют меня в уныние. И когда я не могу разобрать трудные ноты, я беру несколько тактов и останавливаюсь, притворяясь, что дальше идти бесполезно.
— Продолжай! — ободрила она.
— Я не в настроении.
И вместо этого я заиграл «Тристана». Я играл все громче и громче и громче. Внезапно открылась дверь, вошла Берта.
— Ваша тетя просит не играть так громко: она плохо себя чувствует.
— Подумаешь!
Берта отсчитала пятнадцать капель валерьянки в бокал и скрылась.
Убраться от них! — убраться от них! — чтобы тебя не беспокоили ночью — вот чего мы хотели и к чему стремились больше всего.
Я заглянул в ее глаза.
— Дорогой, я люблю, люблю, я буду по тебе тосковать. Но я обязательно вернусь, — сказала она.
Я негромко заиграл, импровизируя по ходу.
— Что это?
— Положи меня, как печать, на сердце твое.
Она засмеялась.
— А ведь верно.
Сильвия, в этом платье такая легкая, такая хрупкая, бледная и нежная, как чайная роза, сидела позади меня на высоком мраморном столе (на котором когда-то доктор Мергатройд сжег задник штанов), болтая ногами. Внезапно, во время моей игры, слезы покатились из ее больших карих глаз.
Я смотрел на нее.
— Ты видела, что я плачу, дорогая?
— Нет.
— Я плакал, когда играл.
— Не плачь. А то я тоже заплачу.
— Но ведь у тебя были слезы, — сказал я немного ревниво. — Я видел.
— Чуть-чуть.
Я импровизировал и импровизировал, пока, наконец, не сфальшивил. Мне было жаль всего того, чего мы не так и не сделали: прогулки, которой мы не совершили; поцелуя, которого не запечатлели, не продлили.
— Навсегда, навсегда, навсегда…
— Не имеет значения, дорогой; ты придешь ко мне сегодня, — прошептала она.
— Что? — Я проглотил удивление, но не смог скрыть недоверчивости при этом известии, казавшемся таким хорошим, что просто не верилось.
Она сказала:
— Приходи сегодня ко мне после десяти, когда все заснут. Обещай мне!
— Ты этого хочешь? — спросил я самодовольно, инстинктивно сдерживая удивление из страха, что мое потрясение может потрясти ее и сбить первоначальное намерение, как я сделал бы с кем-нибудь, кто предложил бы мне 100,000 фунтов — чтобы его предложение не выглядело слишком щедрым для дарителя. — Ты этого хочешь?
— Да.
И поскольку она намеренно сообщила эту нежданную весть самодовольным тоном, чтобы меня охватила дрожь, мое ответное самодовольство (стратегию которого она не понимала) стало для нее небольшим разочарованием. Я должен был задрожать от восторга и благодарности за эту возрожденную любовь, предлагаемую ей.
— А Гюстав? — спросил я неуверенно, боясь подтверждения.
— Ну… это же последний раз. Ему нечего беспокоиться… в смысле… потому что это в первый раз. Кроме того, он ничего не узнает.
— Но может.
— Ничего он не узнает, — покачала она головой. — Он такой дурачок!
— Ты… ты уверена, что не против, дорогая?
— Все молодые, кто любит друг друга, живут друг с другом.
— Конечно, живут! Конечно!
Читатель знает, что когда она без лишнего звука отвергла меня по настоянию своей матушки-эгоистки, меня глубоко тронуло ее самопожертвование. Страсть превратилась в сочувствие. Какая высокая, возвышенная форма любви! Но когда обстановка переменилась, я подумал: «Отчего бы нет? Почему бы моей глупой тетке не получить все так, как она хочет?»
Хотите вы того или нет, а тетю со счетов списать не удастся. Мои любовные отношения с Сильвией были настолько пронизаны теткиным влиянием, что практически полностью вышли из-под нашего контроля. И сейчас, после долгой череды неудач, возможность просто валилась нам в руки. Если бы мы действовали по-другому, меня бы не звали Джордж Гамлет Александр Дьяболох, а ее — Сильвия Нинон Тереза Анастасия Вандерфлинт. Так что если кого и винить, то тетю Терезу. У меня не хватает крепких слов, чтобы осудить ее возмутительное поведение. Оно было бессовестным. Непростительным. Оно было… позорным, черт подери!
Без двадцати минут десять я был на моем чердаке и смотрел, как город растворяется в сгущающейся мгле. Дурацкие ассоциации приходят в голову — Götterdämmerung[104]. Я просматривал книгу, посвященную ученому разбору разницы между «субъективным» и «объективным», и, размышляя над этой разницей, едва не уснул. Я, как помните, интеллектуал. Я выкурил сигарету, зажег другую, а когда часы на столе пробили десять, выбросил сигарету и пошел к Сильвии.
Не знаю, насколько вы готовы последовать за мной в моей попытке ничего не упустить. Я — неопытный писатель, новичок в описании жизни. Итак, я постучался в дверь Сильвии. Ответа не было. Я вошел. И внутри никого не оказалось.
Я уловил аромат Cœur de Jeanette и пудры. Так я и сидел в комнате Сильвии, глядя на ее девические книжки, ее девические вещи. Почему-то отрывок из Мопассана, вычитанный когда-то у Арнольда Беннета, упорно сидел в памяти и не желал уходить: «Сколько ночей провел я, оплакивая бедных женщин былого, столь прекрасных, столь нежных, столь милых, открывавших объятия и даривших поцелуи, а ныне мертвых! Но поцелуй бессмертен! Он переходит с уст на уста, из одного столетия в другое, от одного возраста в другой. Люди получают его, дарят и умирают».[105] И казалось, что Сильвия была уже мертва, сокрушена, забыта — навеки проклята!
Я поднялся. Увидел свое лицо в зеркале. Зачесал свою черную шевелюру со лба с помощью ее гребешка: это доставило мне тайное наслаждение. Гребешок заискрился. Какого утонченного удовольствия, громадного счастья была полна жизнь! Большая птица расправила крылья во мне, готовая взлететь. Я огляделся. Мне хотелось, чтобы у меня были цветы — наводнить ее комнату цветами, как в «Красной лилии»[106]. Но сейчас не было времени. На запачканных, порванных обоях висела копия английской олеографии — один Бог знает, как она сюда попала и почему Сильвия не повиновалась импульсу и не выкинула ее — молодая женщина в подвенечном платье, с букетом роз в руке, обтянутой белой перчаткой, и надпись: «Тревожный момент — в ожидании жениха». И мне пришла мысль: «Мы поменялись ролями». Я смотрел в окно, прижавшись бровью к ледяному стеклу, гадая, надеясь, сомневаясь, — глядел, как город затмевается темнотой, нарастающая цепочка фонарей непрерывно, серьезно мигает. Цветы на обоях. Как они дополняют друг друга, создавая образы! Тик-так, тик-так — эпоха за эпохой, время отступает в прошлое, жизнь истекает. На столе стоял бронзовый бюст Сильвии, выполненный знакомым молодым скульптором. Кого зазывают эти плечи, эти груди? Какие восторги выманивают? Внезапно мне показалось, что я греюсь в лучах солнца, купаюсь в эмпирических ожиданиях: эта красота, которую я всегда искал и упускал, была моей — готовилась стать моей каждую минуту. Было так, словно будущее и прошлое сгустилось в один огромный смутный сон; но настоящее оставалось, стало моментальным и вечным — и поэтому невыносимым. И я думал о том, как, когда все эти беды и восторги закончатся, я снова вернусь к своему мирному, трезвому трактату, посвященному эволюции поведения.
Потом пришла она. Она молчала; только встревоженно встала в дверях. Я тут же запер их, потом повернул ключ еще раз, почувствовав, что мы вдвойне в безопасности. Они приложила пальцы к губам:
— Тс-с! Если кто-нибудь постучит, тебе нужно будет спрятаться в тот шкаф, дорогой, потому что мне нужно будет открыть.
— Хорошо. Я спрячусь в тот шкаф, милая… я спрячусь в него, — мягко согласился я. Ибо более, чем всегда она была в моей душе.
Мы живем в мире англосаксов. Если бы я писал это на языке прекрасной Франции, я бы писал с мопассановской, поистине невероятной откровенностью. Но мы, как я уже сказал, живем в мире англосаксов — в мире осознанной сдержанности. И все же я ощутил острый восторг первого прикосновения. Сила мощнее нас бросила нас навстречу друг другу: сила, рожденная от сгорания элементов за пределами нашего понимания. Мы были охвачены трепетом, лишились дыхания. Стоя позади, испытывая ее милый вес на себе, я целовал ее в теплую впадину плеча, и она откидывала голову. Игриво:
— Я твоя жена?
— Да.
Ее глаза темно, словно вечерние воды, мерцали, когда я нагибался над нею; я даже видел в них, свое отражение, воротник цвета хаки и галстук, сбившиеся в стремительности нашего объятия: и эти воды напомнили мне Оксфорд, хотя на самом деле это был темный канал за Ворстерской стеной, вдоль которого в те дни я имел привычку прогуливаться. Почему эти образы вторгаются в нашу жизнь, даже когда мы сливаемся в поцелуе? Почему воображение наше скитается так беззаботно? Сможем ли мы завладеть чем-то целиком и полностью, чтобы уже не отпускать?
Я опустился и поцеловал ее колени.
— Эти славные китайчата! — Мне казалось, что я допущен посетить частное собрание Королевской академии. Я чувствовал себя окрыленным. Я простил Гюстава. Простил целый мир. — Это, должно быть, ручная работа.
— Ну конечно.
— Почему «конечно»?
— Ты такой глупый, дорогой.
— Почему?
— Генерал достал их в Токио.
— Благослови его Господь! — воскликнул я, обнимая ее. Меня переполнил бесконтрольный прилив благодарности. Я был благодарен всему свету. Гюставу было указано на его место. Все было прекрасно в этом лучшем из миров! Все-таки есть Господь на небесах!
— Они продержались долго, — заметил я.
— Они крепкие.
— Благослови его Господь — генерала, — произнес я с излишней сердечностью.
— У маман они без китайцев; зато цветочки есть, тоже вышитые.
— Я их знаю, — сказал я и глупо покраснел — как будто проболтался. Так глупо — ибо никому в здравом уме не придет в голову заподозрить, что мои отношения с теткой заходят дальше обычной сердечности.
— Кто бы мог подумать… другая пара… твоей маман… видели другие дни?
Я наклонил голову в немом почтении. Тихий ангел пролетел. — А, ну что ж…
Но когда она приблизилась, ее рубиновые губы, вся незапятнанная белизна ее кожи, я подумал… мне пришла в голову клубника со сливками. А в груди росло сокрушающее чувство благодарности, благодарности за всю ее неизменную верность. Она пришла моей долгожданной невестой, без притворных протестов, принимая как должное все возможные последствия нашей любви. Больше всего меня поразило то, что она отдалась весело, со смехом, словно веселье было в самой природе наслаждения. Она выглядела отрадно — у нее был праздничный вид. С ее лица не сходила улыбка. Полагаю, она отлично проводила время: и не менее того, потому что считала, что благодаря ей я отлично провожу время тоже. А я любил ее. Эти волшебные тайны: выпуклости и вогнутости вечно привлекательного женского тела! Вихрь, сон, транс. Ее теплые мягкие волосы рассыпались по белой подушке; темно-каштановые с золотом в лунном свете. Я серьезный молодой человек, интеллектуал, но признаюсь, что познал вкус к существованию. Она была прекрасна, страстна. И я тоже не зря зовусь Дьяболох. Мой дядя был трижды женат и не мог сосчитать своих детей на всех десяти пальцах. У отца, по рассказам тети Терезы, были бессчетные любовные интрижки. Вам уже известен рекорд дяди Эммануила. Дядя Николас был рожден в романтических обстоятельствах. Признаюсь, что во мне течет не их кровь. Тем не менее, я чувствовал непомерную гордость и радость. Сжимать в объятьях трепетное юное тело, теплое мягкое женское тело цвета слоновой кости, тело известной, признанной красавицы, — такое наслаждение, доложу я вам, которым не следует пренебрегать даже интеллектуалу.
— Ну, разве не славно? — промурлыкала она.
Ну да. Очень даже.
И уже появился в нашем завоеванном счастье вкус чего-то трагического, как будто мы достигли конца длинной, крутой дороги, где маячил обрыв. Теперь было уже некуда идти, и мы остановились и заплакали.
— Милая! — Я целовал ее, и мои поцелуи были совсем не то, чем они должны были быть. И она это чувствовала.
Потом я засмеялся.
— Что ты?
— Ты — птичка в моих ладонях…
— Интересно, маман спит?
— Надеюсь.
— Интересно, что делает Гюстав? — спросила она.
— Надеюсь, он тоже спит.
— Я его птичка в лесу.
Как странно! Нам, наконец, удалось сбежать от всех, остаться наедине; но мы не нашли ничего лучше, чем говорить о них всех. И нам было все еще грустно, грустно от нашей встречи, как будто мы не встречались вовсе. Она могла говорить только со мной. Я мог говорить только с ней. И мы не говорили. Счастье всегда где-то еще. Один из недостатков человеческой натуры — то, что наши удовольствия либо в будущем, либо в прошлом.
— Дорогой, поди в столовую и принеси мне карты из столика у окна.
Я пошел, но карт не нашел. Я никогда ничего не могу найти. Она накинула розовый халатик, вернулась и, разложив пасьянс на одеяле, принялась гадать мне и себе, воркуя, как горлица. В моей жизни появится белокурая женщина; длинное путешествие; ранняя смерть — и тому подобные обыкновенные пророчества. Я не обратил на них внимания. Казалось, вот оно наступило, то время, кульминация любви, которого мы все время ждали, та ощутимая настоящая нота, на которой нужно заканчивать роман: вместо этого Сильвия была поглощена своими картами, разложенными на одеяле, и гадала, какое счастье припасено для нас в грядущем.
Я смотрел, как она расчесывает волосы, умывается, чистит зубы; потом забирается в постель — так доверчиво. Она сидела — темнокудрая, большеглазая, длинноногая маленькая девочка. Порывисто она встала на колени, сложила руки и, закрыв глаза, как херувим, спешно пробормотала молитву; затем повалилась обратно на спину и натянула простыню до подбородка. Поскольку завтра утром нам предстояло расстаться, нам казалось той ночью, что завтра утром кого-то из нас повесят. Сильвия лежала, апатичная, натянув простыню до подбородка, и смотрела на меня — так серьезно, так сдержанно, — и я, глядя на нее и слыша, как часы отсчитывают эпохи, представлял себе лайнер, который будет неумолимо уносить меня прочь от нее, все дальше и дальше, — пока однажды вечером, стоя у перил, я не увижу в отдалении огни Англии, а идущий лайнер подаст пронзительный сигнал во мгле; и, будучи отдалены друг от друга в этих самых дальних точках на земном шаре, мы поистине встретим свою разлуку на веки вечные!
— Дорогой, — произнесла она, — ты пришел ко мне.
Я чувствовал благодарность. Никогда не мог убедить себя в том, что другой человек может меня полюбить. Она игриво смотрела на меня:
— Я твоя жена?
— Да.
Она была теплая; лежала, свернувшись в комочек, и мурлыкала:
— Мурр-мурр-мурр… Я сказала, чтобы ты ко мне прижался, а ты щиплешься.
— Ладно… ладно… ладно, — успокоил я ее.
— Волшебно! — произнесла она.
— Милая моя, ангел, почему же ты мучила меня? Почему? — Свадебное застолье сейчас вспоминалось как счастье, полное счастье! — Почему ты мучила меня?
Но она мурлычет, обвившись вокруг меня:
— Мурр-мурр-мурр…
И мы даже ни разу не подумали о Гюставе!
Я лежал, окруженный таинственной, необъяснимой, до предела запутанной вселенной, и размышлял над тем, что бы это все означало. Что, черт подери, это все значило? Луна скрылась, и улицу можно было различить только по цепочке фонарей. Думал о жизни и любви, о том, что они сулят и как бесстыдно соперничают с методами коммерческой рекламы. Завлекательные плакаты и придорожные указатели. Обещания всяких разных откровений! А что за откровение любовь? Выпуклости — выпуклы, а вогнутости — вогнуты. Сын человеческий! Это все — про тебя ли? Будет ли это всегда так? Выбор между голодом и насыщением невелик. И, когда я так лежал, деревья, чьи силуэты виднелись за стеклом, почтительно кланялись мне, а их листья, точно пальцы: «Тра-ля-ля!» — игриво манили, словно говоря: «Все витаешь в эмпиреях!» Глупые.
«Любовь. Или это остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то громадным, или же это часть того, что в будущем разовьется в нечто громадное, в настоящем же оно не удовлетворяет, дает гораздо меньше, чем ждешь», — заметил Чехов в записной книжке. И я с ним соглашусь. Я — серьезный молодой человек, интеллектуал. Я такой сложный, что тогда, когда можно разгуляться, насладиться жизнью, чтобы зазвучали фанфары, я неожиданно падаю духом. Я устремился мыслями к своей «Летописи этапов эволюции отношений», этого стержня, вокруг которого вращался мир. Все другое было… в общем, скорее неизбежно, чем непреодолимо, — и еще глуповато. Мы оба были разлучены, удерживались от встреч друг с другом, что, перерастя в горе, казалось нам чуть ли не утраченным раем. А теперь, поправив наше скорбное положение, мы обнаружили, что когда отдаешь все, то должен предложить не так уж многое. Ночь была длинной, сон пошел бы на пользу. Самое лучшее насчет всего этого, возможно, — это то, что восстанавливаешь чувство равновесия; что если этого не получаешь, то ценишь его выше всего на свете. И тогда решаешь, что совсем не жил.
Она была со мной — вся моя; я был утолен и смог думать о других вещах. Я лежал неподвижно, и душа моя размышляла о внешнем мире. Недавняя бурная страсть, кипевшая во мне, была вырвана с корнями, и память о ней была не более чем памятью о съеденной конфете. Наконец освободившись, душа устремилась вперед, одержима другой, более утонченной страстью разума, и мне предстали вещи близкие и далекие, кишащие в заводи из дрожащего солнечного света. Неожиданно я понял разницу между субъективным и объективным аспектами в последовательных этапах эволюции отношений. И, думая об этой разнице между двумя аспектами, я так же неожиданно провалился в сон.
— Боже мой! — произнесла она, разбудив меня.
— Что?
— Ты же… ты…
— Что?
— Ох! Ты же уезжаешь, Александр, ты завтра…
— Лучшие друзья должны расстаться. — Я протер глаза.
— Мы можем больше никогда не увидеться.
— Как говорит твой отец: “Que voulez-vous? C’est la vie!» С этим ничего не поделаешь. Ты знаешь, я ужасно спать хочу. Мне уезжать завтра утром.
— Ох! Ведь ты… ты же…
— Что?
— Так, ничего, — и она повернулась ко мне спиной.
— Ну что ж, если нельзя спать, то нужно заняться другим добрым делом — думать.
Я молча думал.
— О чем ты думаешь? — спросила она, не поворачиваясь.
— Ну, вечером, перед приходом сюда, я читал одну книжку, которая, на мой взгляд, очень четко объясняет разницу между субъективным и объективным отношением в жизни и литературе.
Но когда я стал рассказывать Сильвии о путанице с терминами «объективный» и «субъективный», она, судя по виду, решила, что путаница произошла от моих путаных усилий прояснить эту разницу; и, кажется, она пожалела меня. Беда в том, что Сильвия, невзирая на ее очарование, не интеллектуал; но, хоть я и чувствовал, что моя попытка чуть поднять уровень наших разговоров заранее обречена на провал, я тем не менее продолжал:
— Каково значение слова «лучший», если это не «обладающий лучшим качеством к выживанию»? Очевидным образом «лучший», если так интерпретировать его значение, ни в коем случае не «субъективная» концепция, а настолько «объективная», какой концепция только может только быть. Но все те, кто возражает против субъективного воззрения на «доброту» как на объект, и настаивают на ее «объективности», будут возражать так же упорно против интерпретации ее значения, как и против любой «субъективной» интерпретации. Поэтому очевидно, — продолжал я, глядя на Сильвию, которая лишь мигала, — очевидно, что прежде всего стремятся утвердить не просто «объективность» доброты как объекта, поскольку возражают против «объективности» теории, но что-то другое. Что-то другое, — повторил я, глядя на Сильвию. — Дорогой, поговори о чем-то другом, — попросила она. — Я с трудом тебя понимаю.
Я — интеллектуал и не люблю, когда меня прерывают на самой середине ускользающей аналитической мысли, тем более, когда эту мысль трудно уловить даже интеллектуалу.
— Я интеллектуал, — произнес я. — Пурист. Я не могу целыми днями расточать поцелуи и обниматься.
— Ты разговариваешь менторским тоном, — пожаловалась она.
— Вот поэтому ты должна внимательно слушать. Так где же мы остановились? Ах, да: «что-то другое». И поэтому-то — потому, что на основании любой «субъективной» интерпретации та же самая вещь, которая при одних обстоятельствах лучше другой, при других обстоятельствах будет хуже — что представляет собой, насколько я понимаю… — (я взглянул на нее снова, и она ответила открытым, сопереживающим взглядом, словно боясь, что я утеряю нить) —…насколько я понимаю, объективное возражение против всех «субъективных» интерпретаций. Это ясно?
Сильвия только мигнула. Она смотрела на меня с грустью, точно задаваясь вопросом, что за субъективно-объективные звери подрывают мои нервные силы, и у нее, видно, возникло подозрение, что эта моя деятельность отнимает у меня жизнь.
Потом я захотел спать. Мысли продолжали закрадываться — что хорошо бы иметь одну постель на одного и располагаться в ней на ночь с королевскими почестями, как прошлой ночью и всеми ночами до этого. Я хотел спать по диагонали, разбросавшись, как я обыкновенно сплю, и ее присутствие мешало мне, раздражало немного. Неожиданно я рассмеялся.
— Ты чего смеешься? — спросила удивленная Сильвия.
— Я вспомнил о дедушке, которого я, будучи призван на войну, навестил в Колчестере, незадолго до его смерти. Мне хотелось, чтобы он заметил, что на мне форма, но он только и говорил, что о своем покойном отце, о том, как он сражался при Ватерлоо, — и так моей формы и не заметил. — Тут я снова рассмеялся.
— Чему ты смеешься?
— Ну, понимаешь, в доме было только две кровати: дедушкина и тетина. Поскольку обычай не позволял мне спать в постели моей незамужней тетки, я волей-неволей должен был спать в постели с дедушкой, отцом матери.
— Но почему ты мне все это рассказываешь, дорогой?
— Видишь ли, он завернулся с головой во все имевшиеся одеяла — вот как ты сейчас, — занял всю кровать, отодвинув меня на самый краешек, на голую железную сетку — прямо как ты сейчас, — и произнес: «Согревайся, Джордж! А! С этим ничто не сравниться!» Он умер неделю спустя. Ему было девяносто два, доброму старикану!
Сильвия пощекотала меня.
— Спи, — нежно сказал я.
— Поцелуй меня на ночь.
Я нежно поцеловал ее в левый глаз. Прекрасный, прекрасный глаз!
— Завтра ты уезжаешь, — жалобно произнесла она.
Я поцеловал ее опять, на этот раз в губы, страстно, и повторил:
— Спи.
И она промурлыкала, тесно прижимаясь ко мне:
— Мурр-мурр-мурр…
Свет погас. Мне пришли мысли о некой воображаемой девушке, чужой и не такой явной, как Сильвия, — какой-то другой девушке в каком-то чужом, далеком месте, каком-то другом месте, где я мог потерять эту штуку, эту проклятую штуковину — мою душу. Часы на столике рядом отсчитывали эпохи. Было темно, я слышал мерное дыхание Сильвии. Черный комар, как черная акула, зажужжал в воздухе и атаковал меня с настырностью, удивительной в таком утлом теле. Но он забыл заглушить свой двигатель, и его гудение, похожее на рев медной фанфары, выдало его приближение; это оказалось его ошибкой. В один миг я отправил его к праотцам! Потом, незаметно, я сполз в сон. Мне снилось, будто мой старый учитель математики, которого в школе я ненавидел, пытается продать мне несколько пишущих машинок «Корона», и что, хотя у меня уже была одна, он уговорил меня купить другую — что причинило мне глубочайшие мучения. Если мы можем страдать так во сне — бессмысленно и лишне, — значит, и в жизни мы страдаем бессмысленно и лишне. И, оплакивая покупку ненужной «Короны», я страдал во сне так, что вдруг чуть было не выскочил из постели.
— Ой, милый, извини, я напугала тебя, — донесся словно из другого мира голос Сильвии.
— Что? Где? Что? — И, не выходя из транса, я опять рухнул в постель и провалился в глубокий, без сновидений сон.
Проснуться утром и увидеть ее профиль; лицо, обрамленное темными кудрями, сбившимися к плечу, восхитительный нос, немного retroussé, ее глаза закрыты, четкий рисунок тонких, словно выведенных карандашом бровей; ее темноволосая голова, покоящаяся на белой подушке, немного набок, — вот они, прелести жизни. Держать в объятьях душистое, красивое, теплое тело, вдыхать восхитительный запах Cœur de Jeanette, шептать милые невнятные нежности и все время знать, что она — твоя, твоя Сильвия-Нинон, — о, как хорошо было явиться на свет, как хорошо, хорошо! Эти алые губы, ее лицо против твоего, и когда она моргает, ты чувствуешь на своей щеке проказливое дуновенье ее ресниц, и, не видя, чувствуешь, что она улыбается, — какой запас тайных радостей, интимных наслаждений! Ты перекатываешься и целуешь ее в закрытые веки, и она, неохотно — ибо ей ужасно хочется спать, ужасно трудно проснуться, — улыбается тебе, мурча, как котенок: «Мурр-мурр-мурр…» Это гоже, это гоже, говорю я вам, даже для интеллектуала. А ее нос! Эти благородные линии маленького носа! Милый профиль, когда ее голова лежит боком на подушке. Как случилось, что я не замечал этого прежде? Если вы не улавливаете моего ликования, если вы пытаетесь выстроить холодный фронт равнодушия, это потому, что — я знаю — вы этого не видели и не знаете этого. Я знаю: я это видел (Совершенно необходимо, чтобы мы поняли друг друга здесь, чтобы перейти к дальнейшему рассказу). Эго было словно сказка, а Сильвия с ее локонами и детским личиком напоминала маленькую фею. И я почувствовал укол жалости при мысли, что не надо было являться этому очарованию в последнее утро, когда я должен покинуть ее навсегда: что первая необходимость всегда последняя.
Но Сильвию и впрямь трудно будить. Едва я дотрагивался до ее руки, она с сонной хмурой гримасой убирала ее.
— Дорогая, — прошептал я, — это последнее утро; я сегодня уезжаю — скоро.
Она лишь пробормотала в подушку:
— Хочу спать.
— Но ты сможешь спать весь остаток своей жизни: я уезжаю через несколько часов! — вскричал я в муках. Она только промурлыкала в ответ:
— Мурр-мурр-мурр…
Видимо, сон был важнее. Иной раз я утрачиваю веру в жизнь.
— Мне снилась, — произнес я, — мне снилась красивая девушка в балетном платье, которая меня поцеловала, и сердце мое исполнилось любви. А сейчас ее нет.
— О! — вырвалось у нее, и она моментально проснулась. — О!
— Правда, дорогая, у нее были светлые волосы. У тебя — темные, а у нее — светлые. Ведь я могу любить вас обеих, правда?
— Все равно, — ответила она, не особенно встревожившись. Но повернулась ко мне спиной.
— Просыпайся! Это был только сон.
— Все равно, тебе не должен был сниться такой сон.
— Я ничего не мог поделать!
— Я рада, что, наконец, тебя испугала.
— Испугала меня?
— Ты разве не помнишь?
— Нет.
— Я услышала ужасный шум — маман звала: «Берта!» Потом Бертины pantoufles[107]. Я перегнулась через тебя к столику, чтобы зажечь спичку, а ты так перепугался, что едва не выпрыгнул из постели.
— Я не пугался!
— Пугался!
— Я что-нибудь сказал?
— Сказал: «Черт!»
— Я не говорил этого!
— Говорил! Ты произнес это пять раз — вот так: «Черт! Черт! Черт! Черт! Черт!»
— Странно! Ничего не помню. Только, кажется, небольшой испуг во сне.
А когда после этого я увидел, как она берет свою зубную щетку, увидел, какая та потрепанная, вся в красных пятнах, увидел жалкий выдавленный тюбик зубной пасты, мне стало грустно. Почему? Ведь она наверняка сможет купить другую. Тем не менее, почувствовав укол в сердце, я произнес:
— Эта щетка…
— Что, дорогой?
— Твои зубы и все такое. Будет ли он заботиться о тебе?
— Все это было для тебя.
— Было-то было… но было ли?
Я взглянул на часы, на ее печальный вид. Корабль отплывает, твои ноги отплывают, грудь вместе с сердцем остается — ты переворачиваешься. Вот несчастье!
— Эта зубная щетка… Такая жалкая… Вижу, ты пользуешься красной зубной пастой.
— Да.
— Карболовой?
— Да. А что? — Сильвия всегда относится ко мне недоверчиво.
— Да так. Я пользуюсь белой — «Пепсодентом».
— Да, — сказала Сильвия. Она всегда говорит «да» — тихо, шепотом.
— Сильвия, дорогая!
Поцелуй.
— Сильвия-Нинон!
Поцелуй.
— Ты маленький… принц.
Двадцать четыре поцелуя в одном.
— Ха-ха! — рассмеялась она. — Я пыталась прикрутить твой колпачок к моему тюбику!
— Милая, — прошептал я, — я люблю тебя, всегда буду тебя любить, — горячо, страстно. Люблю твою откровенность, твою доброту, твою доверчивость. Твои глаза, твои волосы, твои движения. Я люблю тебя, как я люблю тебя… всей душой… всей своей душой… — Милый, — сказала она, — пойди отверни для меня кран в ванной.
45
Настало 29 апреля, но на дворе уже тепло и солнечно. Весна начиналась не на шутку. Я сломал свою запонку на воротнике и поэтому опоздал к завтраку. К своему удивлению, я обнаружил там во главе стола полностью одетую тетю Терезу. Обыкновенно она завтракала в постели. И я оценил ее уважительность. Оценил, поскольку не выдержал бы, увидев накануне своего воскресного отъезда Сильвию в пухлых, веснушчатых руках Гюстава, хотя судно, на которое был куплен мой билет, не выходило из Шанхая раньше, чем через десять дней, и я планировал провести неделю в путешествии по Китаю.
— Сегодня тепло, жарко, — сказала тетя Тереза, — можно спать с раскрытыми окнами.
— А вы спали с раскрытыми окнами, ma tante?
— Я вообще не спала.
— Я слышала ночью ужасный шум, маман, вы кричали: «Берта! Берта!» — сказала Сильвия.
— Еще бы ты не слышала! — простонала она.
Нет! Она хотела бы подчеркнуть, что не может больше этого терпеть — из любви ко всем. (И от ее слов точно ледяная рука легла мне на сердце. Возможно ли, чтобы тетя Тереза знала о нас?) Она не станет с этим больше мириться, если только мы не хотим, чтобы она совершенно лишилась рассудка! Внезапно, посередине ночи, она пробудилась. Дверь, которую она заперла накануне, была полуоткрыта. Казалось, некто в белом халате вошел в комнату, держа свечу. Она была слишком напугана, чтобы кричать. Свет потух. Но кто-то стоял у ее кровати, обдавая ее дыханием. Она протянула руку за спичками, и из темноты ей протянули коробок. Кто это был? Она зажгла свечу на ночном столике: никого в комнате не было. Почтовая открытка стояла стоймя. Кто это сделал? Кто держал ее в таком положении?
Все было ясно. Ее преследует он. Его вынесли за порог, поставили над ним тяжелый надгробный камень. Но этого, видимо, недостаточно. Она сожгла панталоны, чулки, подвязки, чепец, но без толку. Он приносил их ей во сне. У нее выработалось отвращение ко всем панталонам и подвязкам, старым и новым, даже к их сочетаниям; у нее возник тайный страх, что все они каким-то таинственным путем заражены. Она не знала, что делать. Совсем их не носить? Разве это справедливо? Ей стал сниться один и тот же ужасный сон: дядя Люси приходит без конца, странно скалясь (как он молча выслушивал местных интеллектуалов), с этой последней застывшей странной ухмылкой на лице, намекая при помощи тех вещей, которые он держал в руках, что сколько бы панталон и лифчиков она ни сожгла, какие новые ни приобрела бы, они всегда будут теми же самыми — изначальными. Казалось, каждый раз он приносит их ей из адского пламени. Каждое утро, когда она просыпалась, они висели на спинке стула. Она не желала к ним притрагиваться. Правда, она помечала каждую новую купленную пару разноцветными нитками. Однако он, видимо, по ночам заменял ее метку. Она никогда не знала, что у него на уме. К тому же не может же она без конца покупать новое белье. Мораль: она должна покинуть проклятый дом.
Общеизвестно, что далеко идущие, чреватые последствиями решения почти всегда принимаются по прихоти или под влиянием минутного настроения.
— Эммануил! — сказала она. — Мы возвращаемся.
— Возвращаемся куда, дорогая?
— В Бельгию.
— Но, ma tante… — попытался я.
— Нет, Джордж, нет!
Она была настроена ехать, не взирая ни на какие трудности. Она не желала задерживаться здесь ни на неделю. Дядя Люси обдавал ее своим дыханием; она была уверена.
Я не противоречил.
— Сборы не займут долго. Мы все должны помочь. Я буду писать ярлычки.
Я, правда, встревожился, когда она повернулась ко мне и произнесла:
— Когда следующий пароход?
— Какой пароход, ma tante?
— Пароход в Европу… из Шанхая.
— А!.. Ну… Бог его знает. Мой пароход, «Носорог», отчаливает через неделю, в среду.
Она поразмыслила.
— А почему бы, — сказала она, — нам не отплыть на «Носороге»?
— Так скоро? — спросил дядя Эммануил.
— Но он дышал на меня! Я не могу здесь оставаться! Mon Dieu!
— Может быть, сменить комнату?
— Он придет и в другую — я в этом уверена.
— Но стоимость билетов, дорогая?
Она поразмыслила.
— Гюстав оформит нам кредит в банке.
Открылась дверь, и вошел Гюстав, с красной розой в петлице и двумя букетами в руках — один для тещи, а другой — для невесты. И я оглядел его с двойным любопытством.
— Гюстав, — сказала она, принимая цветы, — мы уезжаем.
— Куда, маман?
— В Европу — в Бельгию.
— Когда?
— Скоро. Тотчас же.
Он посмотрел на нее, потом перевел взгляд на свою невесту.
— Бедняжка, она будет переживать расставание.
Тетя Тереза с неясным выражением смотрела на него.
— Ах, Сильвия! Она едет с нами, разумеется.
— Но… моя супруга… — Он запнулся. — Она должна остаться со мной.
— Гюстав, — тихо произнесла тетя, — прекрати. Я много могу перенести. Но есть одна вещь, которую я терпеть не могу, — когда со мной не соглашаются. Прекрати. Прекрати! Ради Бога.
— Но ведь она… она… моя жена!
Тетя кинула на него косой взгляд.
— Ты хочешь меня убить? — осведомилась она.
Гюстав больше не вымолвил ни слова.
— Сегодня воскресенье. Мы отъезжаем в среду, — приказала тетя.
— Но упаковываться! — взвыла Берта. — И мы оставляем тысячи нерешенных дел.
— Гюстав может свернуть все наши дела.
Гюстав сидел молча, впав в уныние.
— Гюстав! — сказала тетя. — Ты должен постараться договориться о скорейшем переводе в Брюссель — и, для начала, о длинном годичном отпуске.
Гюстав только улыбнулся, показав черные зубы по углам рта, и было в его немного сардоническом кивке нечто такое, отчего становилось ясно, что лично он считает такую возможность маловероятной.
— Courage! — сказал дядя Эммануил.
— Alors, en avant! — скомандовала тетя. — Я не могу больше выносить это изгнание. Мне необходима полная перемена. А в Диксмюде за мной будет, наконец, ухаживать Констанция.
— Разве за вами не ухаживала Берта? — спросил я, весело взглядывая на ту.
— Берта, — сказала тетя, — не профессиональная сиделка.
— А как быть с квартирой?
— За ней присмотрит Гюстав.
Потом начались сборы. Они начались яростно. Ибо у нас было всего три дня. Мы работали, засучив рукава. Все коробки, мешки, чемоданы и сундуки снесли с чердака вниз и начали наполнять, переполнять вещами, так что они едва не лопались, туго перевязанные ремнями, — а работа продолжалась день и ночь, тогда как тетя Тереза, устроившись в мягкой постели, надписывала ярлычки. У капитана Негодяева, едва он заслышал о нашем нежданном бегстве, случился жестокий приступ мании преследования, и он жалобно взмолился о том, чтобы мы, ради всех святых, взяли его с собой в Европу.
— Да ты весь растерзан, — заметил Скотли, с состраданием осматривая дрожащего русского. — Точно говорю — тебе надо с нами.
— А жена с Наташей?
— Тоже… чего бы нет?
Капитан Негодяев стал с благодарностью трясти Скотли руку. Но поедут они с ним или нет, зависело в крайней инстанции — хотя никто не знал, почему, — от тети Терезы. И та, наконец, согласилась: «Да». Гюстав должен был в тот день встретиться со своим начальником и директором (хотя было воскресенье, и банк был закрыт), чтобы договориться о значительном займе; и, вернувшись, он сказал, что может сделать это на том условии, что по возвращении в Брюссель Père Вандерфлинт предпримет срочные меры по продаже своей пенсии.
— Да, продать эту пенсию, — поддержала Сильвия.
— В общем, да, — согласилась тетя Тереза.
— Хорошо, мой ангел, — присоединился дядя Эммануил не без тревоги. — Но на что мы будем жить?
Ответила она не сразу.
— Есть разные способы, — промолвила она.
Оказалось, что и это можно устроить. У Гюстава были родственники, имевшие долю в нескольких диксмюдских кинематографах, и дядя в городском совете, и еще для его тестя, возможно, — он не мог сказать наверняка, — можно было получить в Диксмюде должность фильмового цензора, что подразумевало скромное жалованье в качестве компенсации за утрату пенсии.
— Да, это очень даже сойдет, — весело постановила Сильвия.
В период между средой и воскресеньем мы жили в чем-то среднем между вихрем и трансом. Переезжали. Вот, казалось бы, осели, стали обустраиваться надолго и постепенно приближаться к неуклонному концу — стали прогибаться, проминаться, выдыхаться. И вдруг, внезапно, — переезд, новая жизнь, с нуля, планы, борьба, напряжение. «О Боже!» — в голос выла Берта, зажатая сундуками. Вот так начиналась весна. Весна начиналась. На половине земного шара начиналась она, обновленная зеленая надежда. Я мало виделся с Сильвией. Вопросы морали счастливо ускользнули из наших рук. Если и есть какое-нибудь правосудие, судный день, тетя Тереза в свое время ответит за это любопытное небрежение convenances[108]. Пока же я отказываюсь обсуждать этот щекотливый вопрос. Я умываю руки. Гюстав был не орел. И если бы я был Сильвией, то я бы к нему не вернулся. Но в таком случае я, прежде всего, не вышел бы за него замуж. А она вышла и вернулась к нему — до среды. Это было ее дело. Я воздерживаюсь от замечаний. Мне нечего сказать по этому поводу.
Во вторник, после обеда, тетя Тереза в последний раз посетила могилу дяди Люси; а в среду утром, без четверти десять, мы были готовы ехать на вокзал.
— Остается два вопроса, — сказала тетя, надевая шляпку. — Один — это Владислав.
— Все в порядке, — сказал дядя Эммануил. — Я говорил с генералом насчет Владислава. Я представил его к ордену святого Станислава.
— Другой — Степан.
— Я был у Степана, — сказал я. — Он все еще в своей каморке.
— Гюстав, — сказала тетя, — ты бы мог приглядеть за Степаном.
— Oui, maman, — ответил Гюстав и погладил кадык.
— А теперь можно ехать.
— Пойдем, Гарри. Пойдем, Нора, — позвала тетя Молли.
— Ой, где же мой зонетек? — закричала Наташа.
— Вот он.
— Пошли.
Тут на ступенях нас остановила дочь действительного тайного советника.
— Нет времени, — остановил я ее рукой. — Мы уезжаем.
— Я вас не задержу. Основным пунктом нашего проекта реформы…
— Разумеется. Но вы же видите, что у нас нет времени, мы должны успеть на поезд.
— Да, да, да. Я вас не задержу. Мы хотим, если союзники поддержат нас с нашим алфавитом…
— Разумеется, но мы боимся, что пропустим поезд.
— Да, да, да. Всего минуту. Главным образом мы бы хотели ввести фонетическую…
— Право, мы опоздаем на поезд.
— Madame, nous sommes pressés[109]. У нас нет времени; наш поезд отходит, — вклинился дядя.
— Я буду краткой и обрисую схему несколькими точными…
— Прощайте!
И прокатились мимо нее.
46
Генерал Пше-Пше в своей серой шинели с алой подкладкой был уже на вокзале, и я дал указания нашим караульным — двум венграм-военнопленным, ожидающим репатриации и одетым в британскую форму, под командой старого косоглазого британского капрала по фамилии Хром, следующего в Тяньцзинь по демобилизации, — оказать генералу соответствующие военные почести. Но этот сонный народ отдал вместо него честь акцизному чиновнику, к вящему удовольствию того. Мы попытались устроить военный парад, но министерство давно вывело войска, и у нас получилось не особо впечатляюще. Полковник Исибаяси выслал почетный караул. Маленькие японцы в своих кепках с красными околышами выглядели браво, но с офицера, визгливо отдающего приказ, казалось, заживо сдирали кожу, так что русские крестьяне, глазевшие на нас из-за ограды, издевательски ржали.
Генерал приказал, чтобы нас проводил поредевший военный оркестр, и мы видели, как он появился: движущиеся руки барабанщика, надувающиеся щеки солдат, — и ни звука, пока они не поравнялись с нами. Мало какие вещи вызывают такую жалость, как зрелище развалившейся, некогда блистательной армии. Явился граф Валентин и принялся изъясняться с Бертой на цветистом французском, постукивая по своим новеньким гетрам, раздобытым на британских артиллерийских складах, легкой бамбуковой тростью (также английского производства). Приехал митрополит. Приехал доктор Абельберг. Филип Браун, который ехал поездом в Шанхай, чтобы сесть на свой пароход, уже отплывший из Владивостока, хотел, чтобы его сфотографировали, когда он прощается со своей «девушкой». Брауна провожал его двоюродный брат, всего лишь сержант американского экспедиционного корпуса, сказавший, правда, своей русской подруге, что этот чин — выше офицерского. Стоял дивный весенний день. Нас ждал особый поезд, выделенный генералом Пше-Пше, — генерал подарил тете Терезе свисток на белом шелковом шнурке, — она должна была засвистеть в этот свисток, чтобы поезд двинулся с места. Это был самый роскошный поезд, который имелся в распоряжении генерала, его персонал составляли чехи. Поезд уже раздул пары и пыхтел: пуф-пуф- пуф. Чехи-машинисты с бесшабашным видом глядели на нас сверху вниз: «Уж мы вас так прокатим, как вы еще не катались!» Такой у них был вид.
— Отличный паровоз, — произнес я, оглядываясь на Владислава, который с самодовольным видом разглядывал свои начищенные сапоги.
— Паровоз. Одно название — паровоз. Вот во Франции — да, вот там паровозы! Такие паровозы, что как заведешь его, так потом не остановишь! Да.
Весенняя солнечная свежесть; я с наслаждением дышал воздухом; я расхаживал взад-вперед в своих коричневых, прекрасно начищенных сапогах с отворотами. О жизнь! Владислав — он отличный парень. Он пройдет сквозь все революции и контрреволюции и выйдет из красного, белого и зеленого террора без единой царапины. Он будет скитаться от побережья до Урала, от Каспийского моря до Волги и обратно на юг, запад, север, восток, снова и снова. Отличный парень.
— Держись подальше от армии, сынок, и все у тебя будет хорошо, — таково было мое прощальное напутствие ему.
А потом мы расстались с генералом. На его лице застыло тревожное выражение: его войска уже разоружили, и у него появилось прозвище — «Главнокомандующий всеми разоруженными военно-морскими и сухопутными силами Дальнего Востока». Прежде чем уехать — он торопился, — генерал низко склонился над бледной, унизанной перстнями рукой тети Терезы и приблизил к ней в длительном изысканном прощании черные усы. Тетя была взволнована, очаровательна — ее прекрасные грустные собачьи глаза. Он довольно поспешно удалился, не скрывая своих чувств, и не заметил того, что караул не отдал ему честь.
Гюстав стоял на перроне, у открытого окна нашего купе.
— Пиши, Гюстав, — сказала тетя.
Он глотнул пару раз, дернув кадыком, робко потянул за воротник, нерешительно откашлялся и произнес:
— Oui, maman.
— Тебе обязательно следует постараться вернуться домой — получить постоянный перевод в Брюссель или Диксмюде, — сказала она.
— Да, — отозвалась Сильвия.
Гюстав кашлянул и настроил свой кадык, но промолчал. Только погладил широкий подбородок двумя пальцами и улыбнулся, показав по углам рта черные зубы.
— Allons! — произнес дядя таким тоном, каким обычно подстегивают мальчишку, которому ужасно не хочется прыгать в воду. — Allons! Надо попробовать. Надо постараться.
— Вперед. Бог не выдаст — свинья не съест! — вмешался Скотли, который всегда принимал деятельное участие в любой беседе, даже самого интимного свойства, если она велась в его присутствии.
— Вперед. Ты должен потребовать перевода, — призвала тетя Тереза, — или немедленного отпуска на год.
Гюстав не казался обнадеженным. Если уж быть до конца откровенным, то я не помню, чтобы кто-нибудь, невзирая на сердечные убеждения со всех сторон, выглядел менее обнадеженным. Казалось, он раздавлен масштабом, проблемой, расстоянием и неопределенностью всей этой затеи.
— Courage! Courage, mon ami! — сказал дядя Эммануил.
— До свидания, Гюстав, — сказала Сильвия.
Они поцеловались.
— До свидания.
Казалось, он сейчас расплачется. Я вспомнил, как он сказал в церкви: «Она принесла радость в мою жизнь». И точно солнце закатилось так же неожиданно, как и взошло.
— Courage, mon ami!
— Adieu, mon pauvre Gustave![110]
Это все, что y его тещи нашлось ему сказать. Но это, быть может, удовлетворило его. Не знаю. Мне все равно.
Но когда он приблизился к окну и со смущенной, скромной улыбкой повернулся к детям, я почувствовал, что он — член семьи, что он привязался к нам, и что с ним поступили жестоко и несправедливо; и боль вошла в мое сердце, и совесть вспыхнула.
— До свидания, Арри, — сказал он.
Неожиданно лицо Гарри задрожало и сморщилось в затяжном, неторопливом чихе, прошедшем все этапы своего развития и завершившемся громовым разрядом; он развернул платок, дважды трубно высморкался, убрал платок и потом ответил:
— До свидания.
Тетя свистнула в свисток на белом шнурке, подаренный генералом Пше-Пше, старым кавалером. Было великолепное утро, такое свежее; паровоз мощно пыхтел, лишь ожидая сигнала к отходу. Теперь можно было трогаться.
— Adieu, Gustave!
И она опустила унизанную перстнями руку к его тонким губам, скрытым под мягкими канареечными усиками.
Он робко улыбнулся в ответ:
— Adieu, maman!
Вот, скажем, в Англии вы сидите у окна в своем купе, где-нибудь в Нанитоне, и поезд этак незаметно отходит со станции. В России не так. Отходу предшествовал такой рывок, словно два паровоза попытались сделать нечто, что было определенно выше их сил. Рывок был настолько сильный, что саквояж на полке дернулся и закачался.
— Allons donc! — пробормотала Берта, а дядя Эммануил развел руками, словно говоря: «Que voulez-vous?» Мы едва начали устраиваться снова, как — бах! — последовал еще один рывок, и все сиденья вокруг затряслись, застонали и жалобно заскрипели.
— Ah mais! Ce sont des coquines ces machinistes tchèques?[111] — вырвалось y дяди Эммануила, он ринулся укладывать обратно на полку две шляпные коробки тети Терезы, как тут — бах! — еще один рывок, на этот раз послабее, как будто на этот раз задача, поставленная паровозом, была не такой уж непосильной. Последовал четвертый рывок — по-видимому, машинам, невзирая ни на что, удавалось добиться своего… удавалось. Сильвия помахала рукой, одетой в перчатку. Но ее мать заслонила собой окно.
— Смотри пиши, Гюстав!
Паровоз набирал силу, и медленно, но все быстрее и быстрее мы набирали ход. Владислав помахал шапкой в воздухе и, неуверенно, но все же ликующе, закричал вслед уходящему поезду:
— Vive la France!
Поезд уходил, и вот Владислав с Гюставом вместе с перроном скрылись из поля зрения, из пределов слышимости. Я стоял у окна и смотрел на проносящиеся мимо пригороды: пару мельниц, фабрики, кладбище; им на смену пришли поля и леса. Паровоз издал пронзительный свисток. Поезд грохотал с нарастающей скоростью, изогнулся на повороте — и поля с лесами ушли в прошлое.
Пуф-пуф-пуф! — и сопровождающие это пыхтение шум и грохот отнюдь друг другу не противоречили. Мы ехали. После ожидания и суматохи мы сидели на своих местах и ехали. Я сидел, подперев голову, и думал: «Pauvre Gustave! Pauvre Gustave!» Я был единственный из всей нашей команды, кто пролил слезу о нем — и не крокодилову, а настоящую человеческую слезу. Что мне было делать? Даже если бы я передал ему Сильвию через окно, чтобы бы произошло? Представьте тетю Терезу, срывающую стоп-кран. Это была его удача и моя, и лишь судьбе угодно было знать, кто из нас удачливее. Я бы не хотел, чтобы вы отнесли все на наш с Сильвией счет. Все было очень просто — наш роман был расстроен одним деспотическим поступком тети Терезы; теперь же ситуация круто изменилась вследствие другого ее поступка. По зрелому размышлению, нам было довольно положиться в своей любви на судьбу и тетю Терезу. «Pauvre Gustave! Pauvre Gustave!» — лишь повторял я под стук колес. Тем, кто захочет первым швырнуть в меня камень за мое предательство Гюстава, я скажу в свою защиту вот что — Гюстав был загадкой. Он говорил «да», говорил «нет» и говорил это в зависимости от того, хотели ли вы услышать от него то или другое. Он был из тех людей, которые всегда играют вторую скрипку в оркестре: надежный, но робкий, — и никуда негодный дирижер. Гюстав от этой сделки ничего не выиграл. Или так получалось ввиду всего.
Но он был терпелив, а терпение для терпеливого так же естественно, как нетерпение для нетерпеливого. Я был нетерпелив. Но тетка моя была дура, слепая, эгоистичная дура.
— О чем задумался? — спросила она.
— Не спрашивайте.
Я смотрел в окно. Мимо неслись зеленые поля; мелькнула пара деревьев; пролетел лес.
— Посмотрите — весна!
Нора посмотрела и увидела лошадков-иго-го, коровков-му-му, барашков-бя-бя и козочков-ме-ме. Поезд продолжал нестись вперед. Сильвия сидела напротив меня, в своей большой бархатной черной шляпе, и ее широко распахнутые глаза блестели на утреннем солнце. И, посмотрев в окно, с нескончаемой улыбкой она спросила:
— Ты боишься быков?
— Очень.
Я думал: она моя, моя навсегда. И сердце заболело за Гюстава. Мне захотелось поговорить с ней, срочно, наедине. Я стал делать знаки, чтобы она вышла в коридор. Она отвернулась от солнца, посмотрела на меня своими темными бархатистыми глазами, покачала головой и снова повернула голову к окну, улыбаясь солнцу.
— Да, — настаивал я.
Она не отвечала.
Я написал на кусочке бумаги:
Немедленно выйди в коридор, или я никогда тебя не прощу.
Она написала в ответ:
Дорогой, ты такой глупый. Не смеши людей своей слюнявостью.
Ее огромные глаза смотрели из-под черной широкополой шляпы на залитые солнцем поля, она чему-то без конца улыбалась.
В час дня мы пообедали в вагоне-ресторане. Поезд бежал вперед — пуф-пуф-пуф. Размокшие поля, казалось, совсем потонули в разливе, темные стволы деревьев торчали из воды во всей неподобающей наготе. Нарождалась весна. Но нарождалась она на половине земного шара, покуда мы катили через разворошенную страну, которая до того, как мы за нее взялись, была куда в лучшем состоянии. Настроения, воспоминания запечатлелись в моем сердце. Когда-то весной, в точно такой же день, в точно таком же настроении, в Оксфорде, я ушел к окруженной китайской стеной цитадели колледжа Магдалины и ступил в нежную листву, а из открытого окна донесся отрывок из Шопена, словно вопрос, брошенный в пустое пространство. Сейчас Оксфорд, должно быть, сплошная масса белых, нежных гвоздик, волнующихся, как море. Зеленые вязы вытянули ветви к небу. Зачем? Затем, что, как и мы, они жаждали достичь запредельного. Их собственная красота до них не доходила, была потеряна для них. Но когда начинался дождь, мокрые березы поникали сияющими конечностями и плакали. Потому что, утолив жажду, они не находили больше ничего — ничего за пределами мук желания! И сейчас, пока мы с грохотом неслись вперед, высокие сосны стонали на ветру, а стройные молодые березки прижимались друг к дружке; заключенные, прикованные корнями к земле, они стояли и оплакивали свою жестокую судьбу. Чуть позже, в отсветах заката, они качали головами, постаревшие, помудревшие и безропотные, — но грустные-грустные.
В их смутных грезах было больше достоинства, чем во всех наших смехотворных занятиях. Ибо за нашими хрупкими мыслями лежит смутность спящего мира, и, созрев, они скукоживаются до точных выражений. И потому, возможно, эти спящие буки не ищут понимания и, не ища, понимают во всей полноте.
— Логическое завершение жизни, — говорил капитан Негодяев, — всех радостей, горестей, страданий, ликований, сознания, — словом, бытия, — небытие.
— Или сон?
— Нет.
— В чем смысл жизни?
— Жизнь бессмысленна. Возможно, она нужна для того, чтобы придать смысл смерти. После жизни мы довольны смертью.
— Я в это не верю. Если весь мир нереален, то где тогда реальный мир? (Это, кстати говоря, не вопрос, а заявление, утверждение, что единственная реальность — «я»). И, желая умереть, выродиться в ничто, я подразумеваю лишь то, что я устал и хочу заснуть счастливым сном на удобной подушке. Мысль о смерти — о полном уничтожении моего «я» — так же противоестественна и невозможна, как съедение себя самого живьем, не оставив ни крошки.
— Дорогой, пожалуйста, поговори о чем-нибудь более интересном… о чем-нибудь, что можно понять, — попросила Сильвия.
— Вы верите в бессмертие? — спросил он.
— У меня нет достаточных данных, чтобы в него не верить. Существовать в теле — не меньшее чудо, чем существовать без оного.
— Я не верю в то, для чего у меня нет осязаемого доказательства, — заявил он.
— Что означает, что вы не верите ни во что, кроме собственных ограничений.
— Как так?
— Ваши ограниченные познания останавливаются на пороге смерти, и вы выносите вердикт в пользу этих познаний. Для меня же верить в то, что смерть — это конец, все равно, что вынести вердикт в отсутствие бесчисленных протестующих свидетелей, которые не смогли явиться в суд из-за какого-нибудь наводнения или пожара. Неизведанные возможности того, что может случиться после смерти, так неисчислимы перед лицом нашего предварительного допущения противоположного, что мы таким же образом можем отказывать грядущим поколениям в их изобретениях и открытиях, о которых у нас нет ни малейшего понятия.
Я вздохнул.
— Что ты, дорогой?
— Нет, ничего, — ответил я — и подумал: «Pauvre Gustave».
Через час мы сделали остановку в сельской местности, у реки. Как тихо, какая идиллия!
Потом снова тронулись. Ставни в вагоне сделались розовыми от заката. Скрежет и лязг смягчились: мы влетели в тоннель. И вот вырвались из него, загрязняя воздух над склоном холма.
По приказу генерала нам был выделен особый поезд, но не успел генерал уехать, как от состава начали отцеплять один вагон за другим, пока не осталась половина. «Le sabre de mon père» осталась в коробке тети Терезы вместе с ее зонтиками, и мое красноречие оказалось бесполезным перед злодейством станционных смотрителей. За недостатком места я оказался в одном купе с тетей Терезой, тетей Молли, Бертой, Сильвией, дядей Эммануилом и Гарри. В соседнем купе устроилась семья Негодяевых, Бабби, Нора и няня. В третьем купе — Скотли, Филип Браун и несколько незнакомцев.
— Уступи маман место у окна, chérie, — велела тетя Тереза. Это оживило во мне утихшую было галантность. Я сдал без боя свое драгоценное место тете Молли, заранее чувствуя, что буду вознагражден за эту жертву; ибо сейчас я сидел рядом с Сильвией. Наши женщины стрекотали, как птицы. Вскоре мне и дяде Эммануилу было поручено выудить тяжеленную, невероятных размеров, корзину для пикника. На свет появились чай, кофе, фрукты, пироги, пирожные, бутерброды и прочие предметы. На станциях я должен был выбегать и искать бананы, содовую и тому подобное. Вечернее солнце бросало сквозь кремовые ставни розовый отсвет на Сильвию, сидевшую рядом со мной. Поезд стучал колесами. Берта и тетушки все стрекотали. Их разговоры были шумны и приятны. Берта вспоминала, как много лет назад путешествовала с отцом, и с ними в купе был один молодой человек, который, устраиваясь на ночь, все снимал с себя и снимал бесчисленные предметы нижнего белья, просто без конца. Они засмеялись. Но тетя Молли молчала. Посмотрев в окно, я увидел, что наш поезд поравнялся с крестьянином на телеге. Одно мгновенье я четко, до мельчайших подробностей видел его щекастое лицо под шапкой и в один миг сумел нарисовать себе истинное «я» этого человека, как будто это я сам сидел там, на тряской телеге; а потом дорога, бегущая вдоль путей, ушла в сторону, и мы с ним разъехались, разъехались за пределы видимости, слышимости и памяти. Так и в жизни, подумал я и увидел себя — маленький огонек, комок прожитого опыта, пробивающийся сквозь время-пространство, мимо других комков, смутные лица, глаза как освещенные витрины, все торопятся — сквозь какой транс, какой видимый мир, к какой цели, с каким намерением? Вперед, вперед и вперед. Освещенный изнутри, поезд спешил на юг. Устраиваясь на ночь, Берта и тетушки производили под блузками странные движения руками, их талии автоматически раздавались вширь, и они превращались в дряблые, несимпатичные существа, похожие на пустые мешки из-под овса. Одна Сильвия ничего не делала для приготовлений ко сну. Когда наступила ночь, на лампочку надели абажур, а ставни на окнах опустили. Грохоча, поезд летел сквозь тьму. Я постоял в раскачивающемся коридоре, глядя сквозь широкие черные стекла на цепочку фонарей. Сколько же домов они понастроили: как они расплодились и размножились, эти человеческие существа! Мы устраивались на ночь, а поезд, наоборот, все более оживлялся и набирал ход, не обращая внимания, по-видимому, ни на темноту, ни на сон, весело мчался вперед, тогда как мы потягивались всем ноющим телом и вздыхали. Сильвия спала. На фоне этого скрежета и лязга какие сладкие сны она видела… быть может, ей снился я? Они лежала в моих руках, а ночь уже кончалась, и подбирались надутые утренние часы, друг за другом. И она спала, словно дитя-ангел. Строки из Мопассана снова пришли мне в голову:
Сколько ночей провел я, оплакивая бедных женщин былого, столь прекрасных, столь нежных, столь милых, открывавших объятия и даривших поцелуи, а ныне мертвых! Но поцелуй бессмертен! Он переходит с уст на уста, из одного столетия в другое, от одного возраста в другой. Люди получают его, дарят и умирают.
Это была бесконечная ночь. Я осторожно пододвинул ногу к ее ноге и почувствовал ее лодыжку. Она даже не пошевелилась. Да, она спала, прислонившись к моему плечу.
Вот она вздохнула, попыталась положить голову удобнее на подушку, но потом оставила это дело и открыла глаза.
— Положи подушку мне на колени.
Она положила.
— Так-то лучше.
Закрыла глаза. Я взглянул на часы. Шел четвертый час ночи. Все спали. Потом проснулся Гарри, который спал, положив голову на колени Берте. Пробормотал:
— Вчера поезд ехал, а сейчас остановился.
— Спи, маленький, — прошептала Берта, — спи, дорогой. Ты проснулся посередине ночи. Поезд ехал вчера, и сегодня тоже едет; он остановился только на минутку и теперь будет ехать не останавливаясь. Спи, мой хороший. — Она поцеловала его в лоб. — Спи, маленький. Вот так.
Он закрыл глаза, но через какое-то время снова открыл их и спросил:
— А где Норина обезьяна?
Берта сунула ему тряпичную обезьяну; он закрыл глаза. Но вскоре снова проснулся и громко объявил, что хочет вздернуть эту обезьяну.
Это пробудило остальных, и больше никто не пытался уснуть. Я поднял ставню. Серенький рассвет, показавшись в залитом дождем окне, передразнивал электрический свет. Воздух в купе был тяжелым. Дядя Эммануил зевнул в руку и открыл дверь в коридор. Было прохладно. Женщины приободрились. В игру вступили подушечки для пудры, зеркальца и прочее; глаза и руки занялись делом; приводились в порядок прически и цвет лица; в воздухе повисли ароматы. Ни капли воды все это время. О воде даже не упоминали. О воде не думали! У Сильвии был крошечный оранжевый крепдешиновый платочек — и это было все, чем она пользовалась для туалета. Мне это показалось трогательным. Правда, если бы она пользовалась банным полотенцем или вообще ничем, то мне бы это показалось — уж такова природа любви — равно трогательным.
Поезд мчался в сторону Чаньчу. Показался еще один поезд, и вот они несутся бок о бок: то один обгоняет, то другой, пока пути не развели их, и другой поезд не пропал из поля зрения.
В десять утра поезд в изнеможении остановился в Чаньчу. Я выглянул наружу. Пыльная листва. Китайцы, сидящие на земле и глазеющие на поезд. На перроне продается лимонад и апельсины. Солнечно. Ну и страна! Покой. Расслабление. Все идет своим чередом под этим щедрым, наблюдательным, улыбчивым солнцем. Мы сошли и отправились в гостиницу завтракать.
Перед завтраком тетя Тереза выпила коктейль с вишней на палочке. Стоял славный весенний денек. Мы сидели на открытой веранде и разговаривали.
— Итак, есть ли жизнь после смерти? — вопросила тетя.
— Ответ, — произнес я, — положительный.
— Откуда нам знать? — вмешался капитан Негодяев. — У нас есть так мало, на что можно опереться.
— Вот и причина ни на что не опираться. Учитывая, что все разговоры заканчиваются тем, что жизнь есть чудо, было бы поистине чудесно, если бы чудеса никогда не происходили.
— Но ты, кажется, уверен в этом.
— Есть бесчисленное множество способов оставаться в живых — и лишь один способ умереть. Следовательно, шансы на то, что есть жизнь после смерти, — бесчисленное множество к одному.
— Подумать только, — подпел мне капитан Негодяев, — что нам известно! В моменты вдохновения я скажу — да, смерть еще не конец. Но во власти обычного настроения приду к выводу, что, быть может, и конец.
— А ты, Джордж? — спросила тетя. — Что ты чувствуешь по этому поводу?
Я вздохнул.
— Как Джордж Гамлет Александр Дьяболох, писатель, я раскланяюсь и больше не возникну после смерти; но как законный пайщик общества «Жизнь», я неизменен и буду жить, покуда Вселенная не сгинет вместе со мной. Возможно, со мной в качестве члена совета директоров компании с неограниченной ответственностью «Космос». Возможно — ведь я владею преимущественными акциями, — в качестве некоего сопредседателя на пару с Богом. Но я не сгину: поскольку, также, как и все остальные, я владею акциями космического концерна.
Тетя Тереза облегченно вздохнула.
— Ах, если бы так!
— Это так. Можете заручиться моим словом, ma tante.
— Смерти нет?
— Нет и не будет.
Капитан Негодяев покачал головой.
Тетя поглядела на него.
— Почему мы живем так мало, — спросила она, — а мертвы столько времени? Почему?
— Совершенно беспричинно, — заметил дядя.
— Так Анатоль, может быть, жив?
— Еще как жив! Живее, чем был.
— Но помнит ли он? Помнит ли он меня?
— Ни черта он не помнит.
— О!
— Мы всего лишь скудели былых воспоминаний, — сказал капитан Негодяев. — Когда я думаю об окружающих меня живых существах, которые для меня все равно что никогда не существовали, я осознаю природу забвения, тех семян смерти, которые я уже ношу в себе. Еще немного — и смерть завершится.
— Так вы думаете, — сказал я. — Не думая. Не живущее в вас воспоминание, а этот голосок, этот огонек бессмертен. Вы можете сейчас утерять память и ничуть от этого не пострадать; вы продолжите ощущать свое «я» как себя и никого другого, как вы чувствуете это в любом сне и кошмаре: потому что это «я» озарено на бессмертном алтаре вашей жизни и таким образом пребывает бессмертным, даже будучи погруженным в любые иные миры, это все равно вы, мир в себе, навеки.
— Ну что ж. Нам пора идти завтракать.
Ехавший вместе с нами британский коммерсант из Харбин устроил нам завтрак с шампанским.
— Вы можете подумать, что это немного расточительно, — сказал он. — Но по таким случаям иной раз позволительно чуточку распуститься, вы не думаете? А я пришел к тому, что щедрость себя окупает.
— Я хочу «Дейли мэйл»! Здесь бывает «Дейли мэйл»? — спрашивала Сильвия.
— К сожалению, бывает.
Потом мы поехали обратно на вокзал.
Как, после завтрака с шампанским, погожим весенним днем, когда стоишь на перроне, а поезд — пуф-пуф-пуф! — прекрасна и чудесна жизнь, полная сладких ожиданий!
В Мукдене от нашего спецсостава отцепили последний вагон, и мы пересели на обычный поезд, следовавший в Пекин. Ранним утром мы с Сильвией решили прокатиться на рикшах и поехали посреди вялого гама через языческое великолепие маньчжурской столицы, однако заблудились и оказались в затруднительном положении, пытаясь объяснить везущим нас кули, как проехать обратно к вокзалу. Мы пытались с помощью губ подражать звуку паровоза и изображали руками пар, вырывающийся из трубы. Кули ухмылялись и изображали полное понимание, но, провозив нас по городу минут двадцать, остановились и принялись с сомнением скрести в затылках, тогда как мы возобновили наш спектакль, что не привело ни к какому видимому результату. Пока, на наше счастье, в поле зрения не появились двое европейцев. Мы сумели запрыгнуть в поезд за секунду до отъезда. Тетя Тереза была в истерике. Рано утром мы увидели Великую китайскую стену. А к середине дня поезд вошел в Пекин.
Мы посмотрели там все, что можно; карабкались на пагоды; посетили Летний дворец; пару буддистских храмов. Тетя Тереза высоко поднимала ноги, чтобы на них не вскарабкались огромные страшные муравьи.
— А это что? — спросила Берта.
— Это Буд да. — Я весело заглянул ей в глаза.
— Гм, — произнесла она. — Гм. Ну что ж…
Мы посетили военные кладбища, и дядя Эммануил даже оставил запись в книге посетителей, а также на стене и на крашенных деревянных колоннах. После чего мы сели на рикш и отправились в гостиницу.
Я ехал последним и думал: «Хорошо бы ускользнуть от них и уехать одному».
После бегов пони был праздничный ужин и танцы, мы танцевали в запруженной народом зале и затем поехали обратно в гостиницу сквозь влажную тяжелую весеннюю пекинскую ночь. Мне словно подарили, насовсем подарили эту жизнь, словно мое «я» было следствием этого дара, словно весь мир был не сам по себе, а через меня. Почему же тогда я задавался вопросами? Почему я вечно задаюсь вопросами? В этом был некий смысл. Но какой смысл, если черная смерть стирает все? Значит, смысл в этом, скрытое значение. И если смерть — вечное молчание, значит, это молчание значительно. Мне казалось, что все — смерть и все прочее — все — в жизни; и если я дрожу от волнения, охвачен страхом, возношу молитву, нервы мои каким-то образом сращены со всем миром: они словно струны музыкального инструмента, отзывающиеся на некую слабую, незнакомую музыку; и даже сейчас, едучи в паукообразной коляске мимо роскошных представительств над тихими, источающими необычный запах каналами, в чью зеркально-черную воду смотрит на собственный угрюмый вид ночная листва, а на воде и на деревьях пляшут желтые фонари, я чувствовал себя путешественником, для которого эти фонари и тени загадочны и странны, но не страннее тех теней, что возникали передо мной, когда я, световая частица, перед тем, как упасть, пересекал пространство, — видел планету, свирепый факел, зажженный — на чьем алтаре? какого солнца?
Назавтра нас ожидал приятный сюрприз: приехал Берлинский филармонический оркестр с фрагментами из Вагнера. Музыкантам устроили оглушительную овацию, и те под самый занавес, в качестве десерта, сыграли увертюру к «Тангейзеру». Мне казалось, что меня разорвет. Это было так роскошно, так мощно, так невыразимо-великолепно и величественно. Казалось, душа становится на цыпочки! Музыка — я чувствовал, что эта музыка была сама жизнь, эта музыка понимала то, что ни слова, ни мысли не в силах передать. Она пробуждала отклики, затрагивала сердечные струны. О Музыка, где ты познала свою тайну?
Бедная старая тетя Тереза, думал я. Бедный старый дядюшка! Бедные старые все…
Я столкнулся с выходящим дядей Эммануилом, он был красен, глаза его горели от восторга.
— Клянусь Богом, — проговорил он, — это было изумительно. Надо, чтобы Вагнера играли немцы. Я пришел в такой восторг и возбуждение, что чуть не заплакал.
Я чувствовал, что мы с ним братья, вообще все мужчины между собой братья, и все рождены для великих дел!
Поскольку отплытие «Носорога» все откладывалось, мы задержались в Пекине еще на несколько дней. Сибирь — как мы прочли в газетах — была уже красной и краснела все больше. Чита оставалась одним большим белым островом в красном море, и туда (и в Китай) стекались все обломки реакции. Пекин впитывал больше того, что мог вместить. Белые генералы, обанкротившиеся министры, специалисты по государственным переворотам, неудачники, разнообразные ничтожества сделали это место своей штаб-квартирой. Мы встретили многих старых друзей. Внезапно, довольно неожиданно, мы столкнулись с генералом Пше-Пше.
— Ваше превосходительство! — приветствовал я его. — Мы думали, вас давно повесили!
— Но не раньше, чем я чуточку повешал, — отвечал он с усталой улыбкой. — А как вы поживаете? — повернулся он к тете Терезе и провел своими колючими усами по ее бледной, унизанной перстнями руке.
Кажется, в Харбине дела обстояли худо. Красные бандиты отобрали у него город — и теперь с населением может случиться все, что угодно. Все, что угодно! Он сам посчитал самым умным покинуть город инкогнито, ночью. Анархисты и сторонники разрушения орудуют по всему миру. Единственная надежда, вынужден он сказать, в мистере Черчилле. Но у этого доблестного государственного мужа есть враги даже в собственной стране.
Он говорил, а я смотрел на него. Как он вообще ухитрился выбиться в генералы — один Бог знает! Наиболее вероятным объяснением было то, что он сам себя произвел в этот чин, — в интересах отечества. Пше-Пше, как я потом узнал, прихватил с собой несколько золотых слитков из государственного казначейства, считая нужным вырвать их из рук негодяев, его противников. Теперь он жил вместе с семьей в лучшем пекинском отеле. Он опекал нищих. «Деньги, — повторил он несколько раз, — не в счет». На вопрос, каковы его планы на будущее, он ответил, что едет в Чиньтао подлечиться и отдохнуть, а заодно подождать, когда вновь взойдет политическая звезда мистера Черчилля, и наступит тот День, когда фонарные столбы Харбина будут украшены трупами бандитов; ибо в цивилизованном обществе закон и порядок — прежде всего. Итак, он оставался верным прошлому. Но России уже не быть слепком с его рухнувших мечтаний. Он был грустен, неразговорчив, разочарован судьбой; и все обходил в разговоре те смерти, которым был причиной. В поезде — он отбыл вместе с нами — генерал рассказал, что незадолго до его отъезда из Харбина пришла весть, что доктор Мергатройд был схвачен его врагами-большевиками в Омске. И, если не брать во внимание человеческий фактор, всем показалось, что ситуация не лишена юмора. Но мы были уверены, что когда-нибудь в каком-нибудь безопасном месте все равно объявится этот старик в мужицкой одежде с зажатым в зубах карандашом и исписанными листами в руках, быть может, немного помудревший, а, может, и нет, — и, в конце концов, издаст книгу.
— А как вы поживаете? — повернулся генерал к госпоже Негодяевой.
— Ах! — вырвалось у нее со вздохом.
— Эх, жизнь! — Он устремил взгляд в окно.
— Да одно название — жизнь. Вот ждем. Зимой дожидаемся весны. Но весна пришла, и я вся искусана мухами да комарами. Весной ждем лета. Но приходит лето — и льет с неба, словно осень на дворе. Ах! — Она махнула рукой и замолчала.
— Вы пессимистка, — сказал он, крутя короткий жесткий ус. — А я совсем не таков.
— Всегда, всю жизнь, я словно стояла на пороге жизни, но не жила. Не жила, и не жила, и не жила. Я так много уповала, — и ничего из этого не вышло. Сейчас я уже не надеюсь — так, может, теперь что-то выйдет. — На ее исхудавшее лицо упал луч солнца. — У меня большие надежды, — произнесла она.
Она жила, но настоящая жизнь словно обходила ее. Я думал: безнадежные натуры, подобные ей, легко разочаровываются жизнью, но и легко утешаются надеждами, такими же туманными и беспочвенными, как только что отброшенные.
Генерал сошел в Тяньцзине — на пути к Чиньтао — вместе с косым капралом Хромом, который пошагал со своим ранцем к складу. Генерал прижался колючими усами к тетиным бледным пальцам; но наш поезд собирался отходить, и тетя Тереза, ждавшая, когда он окончит ритуал, выглядела встревоженно и нетерпеливо.
— Берта! Я искренне надеюсь, что мой аптечный сундучок не забыли! — закричала она через плечо. Он выпустил ее руку. Она влезла в поезд, тот тронулся, и отдающий честь генерал, перрон, на котором он стоял, песчаная отмель с сидящим на корточках и глазеющим на поезд мальчишкой-китайцем, проселок, по которому шагал капрал Хром, — все отъехало назад и пропало из глаз.
Я чувствовал лицом ветер из открытого окна, видел багровое солнце, пробивающееся сквозь раздражающие желтые ставни, — год просыпался, а день упорно умирал.
Когда мы пересекали на паровом катере Янцзы, я посмотрел на широкую желтую реку, а потом взглянул на тетю Терезу рядом со мной. Я любил мою тетку — умеренной любовью. Но сейчас, увидев, какая она бледная и хрупкая, я подумал: «Бедная тетя Тереза! Сколько она еще продержится?» И мне показалось, что в этом ярком свете я смогу разглядеть что-то по ту сторону ее слабостей. Я увидел — но что можно разглядеть в человеческой душе, лишенной внешнего покрова? Замешательство, мечтания и надежду, нескончаемую надежду.
Высадившись на том берегу, мы уселись в вагон и сидели молча, словно связанные каким-то таинственным братством, — а поезд несся к Шанхаю. Неожиданно словно какая-то огромная птица затенила солнце — потемнело. И мы почувствовали, что как будто тень пала на ясную, тихую поверхность наших душ. Мгла. Дождь; град барабанит в стекло. Мир — скорбное место!
Я смотрел, как Скотли задвигает окно, и мне пришла мысль, что для нас характерно то, что именно Скотли первым спохватывается, чтобы предпринять какой-то поступок. Это было ценно. Я задумался.
— «Единственное в мире ценно», как сказал Эмерсон, — произнес я, — это активная душа».
— Очень верно сказано, — поддержал капитан Негодяев.
Наташа сидела лицом ко мне, и я при взгляде на ее искрящиеся зеленые глаза думал — не знаю почему — думал о смерти. Почему, при взгляде на нее, мне пришла в голову мысль о смерти? Этот бивак, который мы зовем жизнью: приходит наша очередь, и мы уходим в ту неясную громадность. А позади, в воротах, от которых нас отделяет растущее расстояние, траурно, торжественно, звонят колокола, провожая нас в бескрайнее туманное море… Куда? Зачем? А, теперь-то мы знаем, что эти вопросы не возникают. Нет; они нереальны.
Дождь прекратился, выглянуло солнце.
— Смотрите, девочки, какой славный денек! — сказал Гарри.
Выглянуло солнце, и все вокруг стало блистающим и веселым. Я закрыл глаза и заснул под лучами солнца.
47
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПАРИЖ
Когда я проснулся, было заполночь, поезд уже подходил к Шанхаю. Берта спешно упаковывала тетину ручную кладь, и мы стаскивали наш багаж с полок и надевали наши шляпы и пальто, когда поезд пришел на вокзал. Это был вокзал, ничем не отличавшийся от других вокзалов. Я не заметил никакой разницы между ним и Викторией или Черинг-Кросс. От выездного мы узнали, что нас дожидаются два автомобиля. Оказалось, мы можем выбирать между Сефасом Спиком и Септимусом Пеком — двумя всемогущими шанхайскими коммерсантами, которые, вообразив, что мы герои-победители, соревновались в том, чтобы предложить нам свое гостеприимство. Мы выбрали Сефаса Спика и уселись в роскошный лимузин с разодетым выездным за рулем. Думаю, мы сделали свой выбор под впечатлением от внушительного вида выездного, — ехали в роскошном автомобиле по темному мерцающему городу, который не без доли правды назывался дальневосточным Парижем. Я смотрел на ночные улицы с множеством фонарей, эту любопытную смесь Европы и Востока, такую тревожащую и чарующую, как будто только благодаря этой смеси, а великолепный большой автомобиль величаво катил сквозь теплый, влажный весенний воздух. Мы ехали по прекрасным ухоженным аллеям, которые в лунном свете казались засыпанными снегом, между глубокими стенами темной листвы. Автомобиль катился быстро, но его величина и пышность придавали этой быстроте некую ленивость, как будто бы он говорил самодовольно, снисходительно: «Да мне это ничего не стоит».
И, думая о нашей любопытной судьбе, я произнес: — Жизнь — это случайный перекресток, где сталкиваешься со случайными встречами. Эпизодические события, происходящие нестройно и обрывающиеся внезапно: они полностью основаны на случайности; но внутри каждого события, происходящего на нашем пути, мы развиваем свою внутреннюю, связную и всецелую гармонию. — Дорогой, почему бы нам не поговорить о чем-нибудь интересном? — возмутилась Сильвия.
Печаль, машина едет вперед и потом, коротко просигналив, сворачивает в еще одну аллею с темной листвой и полной луной. Въехали во двор. К нашим ногам устремились слуги. И, с общей помощью, мы высадились и поднялись по ступенькам во дворец гостеприимного владетеля-коммерсанта.
В холле, несмотря на поздний час, стоял сам мистер Спик, грубый на вид, но на деле человек робкий и застенчивый, и протягивал руку (он бы протянул обе, но он был для этого слишком робок), от всей души предлагая удобство и комфорт. Ничем себя не утрудив во время войны, кроме набивания своих карманов, он робел еще сильнее в обществе людей, подобных нам, которых, по причине геройской военной формы, считал воинами без страха и упрека. Когда я спустился вниз, мистер Спик уже внимал рассказу дяди Эммануила о нашем суровом опыте.
— Вижу, многовато вам пришлось вынести в руках большевиков, — заметил мистер Спик, наполняя дядюшкин бокал и передавая бутерброды.
— Ah! mais je crois bien! — согласился дядюшка, проглатывая коктейль и бутерброд.
— Испытания, постоянные переживания и неопределенность, горести печального изгнания, — вставила тетя Тереза, — совсем расстроили мои бедные нервы.
— Ah, c’est terrible[112], — отозвался дядюшка.
Хозяин оглядел нас с безграничным сочувствием.
— Сейчас вам необходимо хорошенько отдохнуть и собраться с силами. Вы должны постараться забыть о большевиках.
И он пустил по кругу бутерброды. Мы словно потерпели кораблекрушение и теперь были спасены, а мистер Спик оказывал первую помощь. Тетя Тереза издала глубокий вздох, а дядя Эммануил произнес:
— Я их спросиль: «Eh bien, сколько еще будет эта гражданская война?», а они отвешаль: «Мы не знать, не спрашивайте». Voyons donc, я сказаль, вы должен знать, vous autres militaires!
— Они ведь ужасные, эти большевики? — спросил мистер Спик с таким видом, словно ожидал услышать, какие они ужасные.
— Ah! je crois bien! — поддержал его дядя с жаром. — Государство должно защищать дом, семью, священный очаг. Мы хотим, чтобы наши девушки оставались девушками. Если позволить им — в смысле, большевикам — продолжать делать все, как им угодно, скоро в России не останется ни одной девственницы! Ah! c’est terrible!
Мистеру Спику, кажется, хотелось услышать о девственницах побольше, но дядя Эммануил был серьезен, и мистер Спик тоже напустил на себя серьезности.
Бессознательно наши рассказы приняли героический оттенок. Мы чувствовали, что они должны стать такими, чтобы сравняться с его гостеприимством. А оно было весьма велико. И хотя было оно велико, оно все росло пропорционально размаху наших рассказов, каковые необходимо было подгонять под его растущее гостеприимство.
— Ох, ладно вам! — сказал я наконец, чтобы утихомирить расходившееся дядино воображение.
— Прошу извинения! — возразил дядя. — Я знаю, о чем говорить.
Мистер Спик только слушал. Качал головой. Это казалось невероятным. Дядя Эммануил продолжил.
— Истинная правда, — вмешался капитан Негодяев. — У меня самого две дочери, мистер Спик: Маша и Наташа. Маша, бедняжка, замужем и вынуждена жить в ужасающих условиях на юге России с супругом, Ипполитом Сергеевичем Благовещенским. А это — Наташа! — это Наташа.
Мистер Спик одобрительно покивал, ибо считал капитана Негодяева оплотом борьбы с большевизмом. И подарил Наташе круглую коробку шоколада, перевязанную оранжевой ленточкой.
— Ой, смотри, смотри! Гарри, смотри! Какая красота! Так прелесть!
— Милая девчушка! — заметил мистер Спик.
— К сожалению, при нынешних обстоятельствах, мистер Спик. Наташино образование страдает. Мы просто не знаем, что делать.
— А сейчас, мне кажется, нам всем надо идти спать. — произнесла тетя. — Уже четверть третьего.
Мистер Спик пожелал нам спокойной ночи.
На ночном столике лежали романы. Добрый старикан оставил их тут для меня. Все они тут — Гильберт Франкау, Комптон Макензи, Стивен Мак-Кенна[113]. Дом, при всей его роскошной величавости, не мог похвастать водопроводом, и воду, холодную и горячую, приносили слуги-китайцы, которых в нашем распоряжении имелось предостаточно. Такое своеобразие объяснялось не тем, что водопровод в наши дни — вещь редкая, всякий приличный дом им обзаводится, а тем, что мистер Спик предпочитал, чтобы его полк китайских слуг по-настоящему существенными трудами отрабатывал свое жалованье. Ночью, кажется, провалилась крыша и пробила потолки. (Эти дворцы не отличались добротной постройкой). За завтраком мистер Спик принес извинения за причиненное ночью неудобство.
— Весьма сожалею, — произнес он, — но из-за этого происшествия я вынужден буду устроить вас с женой в одной комнате.
— A là guerre comme à la guerre[114], — согласился дядя Эммануил.
— Какая Наташа бледная, — заметила тетя Молли.
Наташа, по словам госпожи Негодяевой, плакала во сне. А Наташа рассказала нам напугавший ее сон. Весь в снегу холм, где-то в России. Устав от ходьбы, она решила присесть — и подождать. Быстро сгущались сумерки. И, наконец, появилось то, чего она дожидалась. С заснеженных гор, теряющихся в сумерках, издалека, из неясной сумеречной дали, приближалась к ней некая черная масса. Наконец, она различила, что это какое-то шествие.
— Ужасные человеки подходят и не смотрят на меня й что-то несут — как гроб. Ой, я так испугалась! А они все ближе и ближе, и не смотрят, а потом останавливаются передо мной и молча ставят гроб на землю. Я смотрю — а он открытый и пустой. Я говорю: «За кем вы явились?» А они: «За тобой». Я так… ох! — Она поежилась и неожиданно расплакалась.
После обеда я погулял в саду. Величественные деревья. Покрывало из тюльпанов, все клонятся к солнцу, словно кордебалет. Странно: этот шанхайский дом явился словно из моих снов. Его очертания напоминали наш дом в Петербурге, грезящий на берегу широкой Невы. Отлично помню его, — немного потертый, но невероятно близкий, словно говорящий с укором: «Ты покинул меня, но у меня есть собственная душа, и я буду жить, даже когда тебя уже не станет». Интерьер в некоторой степени тоже был знаком. Вот комната сестры, думал я. Вот здесь, на широком площадке, я, бывало, ждал на своем трехколесном велосипеде, когда она вернется из школы домой, просто чтобы проводить ее по этому коридору в ее комнату… У этого окна мы сидели и ждали, когда приедет экипаж с родителями, возвращавшимися из Ниццы… Все это прошло… Но прошло ли?
Через сад прибежала Наташа, ее зеленые глаза сияли на солнце.
— Ой, а мы были в кино, мистер Спик нас водил! — закричала она. — Ой, так прелесть! «Мэри Пикфорд». А этот маленький лорд Фонтанырой такой хорошенький! С такими длинными красивыми волосами, как вот эти. О, и такой грустный — я так плакала! Ой, так уж плакала все время! Ой, такой хорошенький! Ой!
Ей понравился мистер Спик, но она удивлялась, почему, раз он такой богатый, его шкафы не ломятся от шоколада.
Пока мы были в Шанхае, Наташа была у зубного врача, и мистер Спик сказал, что за каждый зуб, положенный под порог, Мышка принесет ей по доллару. Она положила туда два зуба, и Мышка принесла два доллара. Наташины глаза лучились радостью, когда утром она достала монетки.
— Гарри, гляди, гляди! — воскликнула она.
Когда удалили третий зуб, Наташа посерьезнела.
— Бедная Мышка, она не сможет достать так много долларов! — вздыхала она.
На ужин был морской язык по-дьеппски; соленье из куропатки с шампиньонами и апельсиновым салатом; запеченная баранья лопатка с тушеным сельдереем, картофельными оладьями, желе из красной смородины и подливка; фруктовый десерт и печеные устрицы. Стол был накрыт великолепный. За спиной нашего хозяина стоял старый мажордом-китаец, немой, как статуя, воплощение долга и преданности, и следил за тем, чтобы каждый жест хозяина немедленно претворялся в жизнь. Руководимая им процессия слуг бесшумно сновала туда-сюда и обслуживала нас с благоговением, словно принося жертву, под трепетным присмотром верховного жреца. Когда дамы вышли, дядя Эммануил, куря сигару, заговорил о несчастьях, постигших Бельгию от рук недавнего врага.
— Ah, figurez-vous, — начал он доверительным тоном, задерживая мистера Спика и давая понять, что он собирается рассказывать о чем-то ценном. — Les crapauds![115]
Сообщение растворилась в сигарном дыму так же неожиданно, как явилось на свет. Мистер Спик, спекулянт, который чувствовал себя не в своей тарелке в присутствии офицеров, «исполнявших свой долг» на войне, однако весьма непринужденно с разоткровенничавшимся дядей, с готовностью поведал нам о собственном опыте по изгнанию немецких коммерсантов из Шанхая и воцарению на их месте. Он выполнил свой долг. Наш хозяин робко смотрел на нас в беспокойном ожидании одобрения своих патриотических поступков, которое он немедленно и получил от дяди Эммануила, сказавшего:
— Les crapauds! В Бельгии они взяль бургомистра Макса, они взяль его и забраль его, les crapauds!
Мистер Спик вздохнул.
— Великая война, — промолвил он.
— Ah, nous autres militaires y нас есть повод это помнить! — сказал дядя. — Мы плывем домой vers la patrie[116].
Покончив с патриотическими разговорами, хозяин принялся рассказывать нам анекдот за анекдотом. Но я его не слушал, потому что, пока он говорил, я держал свой анекдот наготове (иначе он разражался очередным), а в конце каждого его анекдота я автоматически смеялся вместе с остальными. Ибо, как известно всякому, гораздо веселее рассказывать свои анекдоты (поскольку для того, чтобы анекдотом насладиться, его необходимо хорошенько усвоить, а на это требуется время), чем слушать, как кто-то рассказывает новые.
На следующее утро Сильвия, одевшись в только что купленные платье и шляпку, ушла без меня и шикарно провела время со своими новыми друзьями. Но она вернулась танцевать карлтон, и я почувствовал, когда она прижалась ко мне во время танго, как шелк скользит на ее теплых гладких ногах. И все спрашивали: «Кто эта прелестная темноволосая девушка?» А я все время чувствовал, что она моя. То есть я должен был быть счастлив. Но каждая исполнившаяся надежда несет в себе свой рок. То, на что мы надеялись, исполнилось, но не так, как мы надеялись.
— Утром я побывала на исповеди, — сказала она во время танца. — Чтобы исповедоваться в своей любви к Принцу. Молодой священник, — добавила она. — Довольно симпатичный.
— И что же он сказал?
— Он сказал: «Все?» Я ответила: «Да». «Но почему?» — спросил он. «Потому что я люблю его». «Но кто он?» «Не знаю. Просто я его люблю».
Перед отъездом из Шанхая дядя с тетей сочли подходящим разослать свои карточки капитанам и старшим офицерам союзного флота, и дядя, страдавший несварением желудка, попросил меня разнести его карточки. Мне нравилось, когда при моем прибытии «играли захождение». Американский флаг-адъютант, мой приятель, обычно отдавал мне полковничьи, а не капитанские почести, и я появлялся на борту американского флагмана довольно часто. На квартердеке меня встретил Филип Браун.
— До чего же я рад видеть тебя, Джордж! — Он протянул руку. — Ну, вообще-то это против наших правил держать на борту спиртное, но если ты пройдешь со мной в мою каюту, я позабочусь о том, что тебе досталась хотя бы капелька.
И действительно! И действительно! Он выудил из-под койки бутылку виски и сифон и наливал из бутылки гораздо чаще, чем из сифона.
— Давай-ка, старина! Прими-ка внутрь! В самое нутро!
С американского флагмана я перешел на британский, с него — на французский, итальянский, японский и так далее. Повсюду для меня должным образом «играли захождение». Только на квартердеке китайского корабля меня встретил жалкий одурманенный офицер, который никак не мог понять причину моего визита.
— Чего вам? — осведомился он с ошеломляющей прямотой.
— Комендант Вандерфлинт, — начал я, — который в настоящий момент нездоров…
— Кто нездоров? Вы нездоров? — перебил китаец.
— Господи, конечно, нет! Вот его карточка — для капитана.
— A-а! Никого нет дома, — произнес он после паузы.
Когда я повернулся, какая-то искра зажглась у него в глазах, но, пока я сходил, он все еще стоял, в сомнении и нерешительности. Наконец, после раздумий, он пронзительно завопил, призывая матроса, который издал одну-единственную несчастную ноту, когда я уже ступил на берег.
В пятницу, уезжая куда-то на выходные, мистер Сефас Спик простился с нами и оставил полностью в нашем распоряжении весь свой огромный дом со свитой слуг, стойлами, гаражом и четырьмя машинами.
— Вот, — произнес он, вручая Норе коробку конфет. — И передай это Гарри.
Берту отрядили переночевать на борту, чтобы ранним утром приглядеть за погрузкой нашего багажа, и она прихватила с собой Гарри.
— Позаботься о моей пишущей машинке, Гарри, — сказал я ему.
Когда на следующее утро тетя Молли, одетая в заказанное здесь новое дорожное платье, спустилась вниз, Нора воскликнула:
— Ой. мамочка, как ты выглядишь! Я хочу…
— У меня нет времени, милая.
— А когда у тебя найдется время на время? — настаивала Нора.
Но она не желала сходить с места, а когда ей приказали надеть шляпку, она расплакалась.
— Чего ты плачешь, Норкине?
— Я хочу остаться на обед — вот в чем беда! — всхлипывала она.
Наташа, с зонтиком в обтянутой перчаткой руке, ступала как маленькая дама. Потом мы сидели в величественном лимузине в ожидании шофера. Шофер вышел из машины и возился с двигателем, издававшим тарахтение, как пулемет-максим. Наконец, его усилия были вознаграждены. Машина повиновалась. Он включил передачу, и гигантский автомобиль скакнул вперед. Водитель включил скорость. Тетя Молли, боявшаяся машин на улице, была не меньше напугана, сидя внутри: а что, если машина столкнется с другой? Вскоре мы неслись по Бунду, спеша к пристани.
— Что это там за пароход? — спросила тетя Молли, показывая на большой трехтрубный лайнер.
— Это наш пароход, «Носорог», — ответил я.
Автомобиль остановился. Мы стояли у кромки воды. Другой океанский лайнер плавно уходил в море, отходил от берега, выталкивавшего его в бурные пределы до тех пор, пока он не стал точкой на горизонте и не скрылся из виду.
48
Завидев Гарри, Нора завизжала от радости. Первый раз в жизни они оказались разлученными на целые сутки. Он стоял на палубе и смотрел на нас сверху — маленький человечек в большой шляпе.
— Тетя Берта не трогала вашу машинку, все хорошо, никто до нее не дотрагивался, — было первое, что он мне сказал, едва я ступил на борт.
Гарри и Нора, встретившись после своей первой разлуки, стали лицом к лицу и тихо смеялись пару минут. Потом они принялись вместе бегать по палубе.
— А где те конфеты для Гарри, который подарил мистер Спик? — спросила Нору тетя Молли.
Нора еще никогда не передала Гарри ни одной конфеты с тех пор, как явилась на свет.
— Ты съел мое пасхальное яичко, — произнесла она неуверенно, ведь это произошло больше двух лет назад.
Гарри промолчал. Нынче он не улыбался и был настолько серьезен, как будто забота о целом свете легла ему на плечи; а если и улыбался, то старческой улыбкой — улыбкой древнего старика! Гарри, похоже, не рос, зато Нора быстро догоняла его в росте. Он казался маленьким старичком — мудрым, циничным, беззубым.
Бабби одобрила пароход со словами: «Слава те Господи, тут нет машин, мамочка», а Нора назвала его «скользким домом». Она расцветала с каждым днем. «Я больше не говорю «кавется». Я говорю «кажжжется». Такая довольная собой.
Нам предстояло по-настоящему долгое путешествие — с детьми, с грузом багажа, — путешествие, обреченное продлиться многие недели; завершение жизненного периода, новое начинание, судьбу которого было не определить. Оно натолкнуло меня на воспоминание о том жутко длинном путешествии в Америку в «Проделках Софи»[117]. Дети же радовались. Они считали, что пересекают море, чтобы на другом его конце под названием Англия встретить Папу, который ждет их на берегу.
— Я ему писывала, писывала, писывала, — а он мне так и не отвечнул, — жаловалась Нора.
Гарри серьезно смотрел своими незабудковыми глазами.
— Он придет, если мы ему фто-нибудь подарим, — сказал он.
— А, маленькая Норкин! — закричала Наташа.
И тут, почти тотчас же, рядом появился неизбежный старый моряк в темно-синем кителе, — проходя мимо нас, он так весело подмигнул Наташе, что она залилась смехом. Я не особенно читаю в сердцах моряков — за этим могу лишь отослать вас к Джозефу Конраду, — но мне сразу бросилось в глаза, что старый моряк — как бы это сказать? — был «парень ничего». Наташа с ним подружилась.
— Вы только что из Англии? — спросила она. — А вы видели принцессу Мэри? Ой, такая красивая! Так прелесть!
Как же она расцвела! Она стала его любимицей, и всякий раз, проходя мимо нее по палубе, он подмигивал ей так весело, что она заливисто хохотала.
— А как тебя зовут? — спросила она.
— Том.
— А где твоя каюта?
Он показал ей.
Она засмеялась:
— Ха-ха-ха-ха-ха! Ну, прямо хижина дяди Тома!
Он подмигнул.
— Ой! Ой! Я так плакала над «Хижиной дяди Тома»! Ева… она такая… такая… милая девочка! Так прелесть!
С этого момента она прозвала старого моряка в синем кителе дядей Томом, а поскольку для детей любой взрослый — либо дядя, либо тетя, то и они прозвали его дядей Томом. И ему это понравилось.
«Носорог» был транспорт, и вскоре на борт взошла армейская рота под началом главного сержанта, который разделил ее на две части.
— Вы, парни, пойдете на острый конец судна, а вы — на тупой.
Моряки смотрели саркастически. О, как же они были саркастичны! Даже дядя Том улыбался в бороду.
— Темной народ эти сухопутные, — поведал он мне, качая головой.
Сержант его услышал.
— Ну, ты, темной-лесной! — бросил он ему. — Займись лучше своим темным делом, черт тебя дери!
Мы шли вперед. Со стороны носа доносился размеренный бесстрастный стук шатуна. Мы шли вперед. Земля отдалялась, и мы скользили все дальше и дальше по ветру, по зеленому зеркалу моря.
— Ой, зеленое-зеленое море! — воскликнула Наташа, сияя глазами цвета морской волны.
Повсюду были заметны следы того, что военное министерство внезапно потеряло к нам интерес. Выделенный транспорт был явно неустойчив и кренился с боку на бок.
За обедом я увидел рядом русского генерал-майора с шальными тусклыми глазами и длинными черными ногтями, который сказал, что возвратился в Шанхай из Гонконга, но потом, по зрелом размышлении, решил вернуться, не сходя на берег, обратно в Гонконг. Я узнал его: это был человек, который однажды нанес мне новогодний визит и сидел в передней рядом с другими безумцами. Его глаза были едва ли не безумны, а речи — бессвязны. Когда разразилась революция, он, царский генерал, перешел на сторону повстанцев и принял команду революционных частей; потом его нервы сдали, и ныне он бездумно и бесцельно скитается по свету. Если он и был безумен, то в его безумии не было никакой системы. Жил он тем, что выписывал долговые расписки в каждом порту, где останавливался. В одном месте, где его расписку не приняли, он взял напрокат рояль и затем продал его, использовав вырученные деньги на выпутывание из ситуации. На его взгляд, для достижения цели все средства были хороши. Но, выслушивая его неделю за неделей, до меня, наконец, дошло, что как раз эта самая цель и есть самое слабое его звено. Будучи допрошен с пристрастием, он признал, что презирает программы, но верит в то, что можно жить день за днем, прислушиваясь к диктату своей сложной личности. На вопрос, как он совместит этот взгляд со своими идеалистическими воззрениями на государственную службу, он отвечал, что презирает государство.
Во время обеда Гарри отпускал громкие замечания насчет пассажиров:
— Тот мальчик — придурок.
— Гарри! — возмутилась тетя Тереза.
— Ш-ш! — шикнула тетя Молли.
Генеральские ногти отняли у нас аппетит, и я попробовал дипломатично отвлечь разговор:
— У китайцев необычайно длинные ногти.
— Это знак принадлежности к аристократии, — самодовольно ответил он. — Чтобы показать, что они не работают.
— Но они черные!
— Какая разница? Цвет несуществен.
Генерал признался в том, что в жизни не принимал ванны.
— Потому что, — пояснил он, — сегодня ванна, завтра ванна, — этак все поры откроются.
За обедом он внезапно стал слезлив и меланхоличен. Оглядывая свои руки и одежду, он произнес:
— Как я пал! Мои нервы совсем расстроились. Меня мотает с одного конца света на другой.
Глаза его были полны слез.
Война — необычайно глупое дело — ведется глупыми людьми (поскольку все умные люди прилагают ум, чтобы ее окончить); и люди, которые обычно остаются в тени, выходят на свет и организуют «секретную службу», чьи агенты проводят время в рассылке друг другу сведений о разного рода безумцах и невинных, а вице-консулы и так называемые специалисты по техническому контролю предпринимают все усилия для того, чтобы вставить палки в колеса миропорядку через годы после того, как война кончилась. И один такой чокнутый — думаю, Филип Браун — доложил о нашем друге-генерале, еще один тронутый известил МИД, МИД оповестил Адмиралтейство и военное министерство, и ревностные чиновники пошли рассыпать друг другу сведения об этом «опасном революционере».
Море было зеленым зеркалом. На всем пути из Шанхая в Гонконг оно было зеленым зеркалом. Ни звука не доносилось до наших ушей, кроме бесстрастного стука шатуна — доказательства неустанных трудов машины. Безграничное море способствует безграничным мыслям о Боге, Человеке и Вселенной. Заниматься нечем, поэтому ведутся разговоры. Капитан Негодяев был настроен философически. Я не знал об этом до тех пор, пока не попали в компанию друг друга на борту «Носорога». Он стоял, опираясь на перила, одетая в хаки крыса на тонких ножках, и философствовал.
— Если вы остановитесь на полпути к логическому умозаключению, — говорил он, — то приблизитесь к правде настолько, насколько это возможно по эту сторону могилы. Но опишите круг, и вы снова никуда не придете. Я… — Вы имеете в виду, — произнес я (ибо мы имеем привычку, перебивая, говорить то, что имеем в виду мы), — вы имеете в виду, что это просто кончается тем, что вы скитаетесь, покуда не приходите к барьеру. Потом вы позволяете душе созреть, насытиться за барьером. (Пока варится каша, поторапливайтесь, займитесь делом: пишите, рисуйте, экспериментируйте). После этого, через какое-то время, барьер начнет рушиться — и вы снова станете бродить по лугам, пока снова не выйдете к тракту.
Мы разговаривали не напоказ, негромко, приняв — кажется, бессознательно, — позу людей испытанного интеллекта, между которыми все понятно, которые как должное воспринимают все, что известно обо всем. К жизни он относился с сумрачной улыбкой — улыбкой того, кто рад возможности узнать еще одно небольшое доказательство той гнусности, о которой он всегда утверждал, что она пронизывает жизнь. По сути, я верил в надежду, он — в отчаяние. Он словно говорил: «Tant pis!»[118]
— Вы говорите, что верить в отчаяние нельзя. Но верить в отчаяние можно. Я верю в отчаяние. Я живу им, — сказал он.
— Вы сомневаетесь в возможности бессмертия, потому что…
— Капитан Дьяболох, — перебил он. — Одолжите мне 15 фунтов. Я отдам вам — слово чести, — когда мы доберемся до Англии.
— Вы сомневаетесь в этом, потому что неверно представляете себе, что реально.
— Я правда отдам.
— Внешний мир кажется вам реальным, потому что вы можете его видеть, слышать, чувствовать и осязать. Но это потому, что ваши чувства так сосредоточены и настроены, что вы можете его видеть, слышать и чувствовать. По сути дела, это все просто определенные иллюзорные вибрации, отмечающие ход времени в ничто, — такая математика, поддерживающая фикцию Времени и облекающая ее плотью. Это просто мир внешней видимости, в который ваше «я» окунулось, как упавшая звезда, принявшая облака за реальность и сомневающаяся в своем собственном свете. Как капля воды из океана содержит в себе те же качества, что и весь океан, так и свет в вас — ваше истинное «я» — имеет все качества бессмертного, безвременного солнца.
Услышав наши разговоры, немедленно вклинился Скотли:
— Тараторите, как две старые прачки!
Капитан Негодяев примирительно улыбнулся:
— Вы, философы жизни, — всего лишь шаловливые дети, тогда как все другие — дети воспитанные. В конце мать-природа всех нас укладывает в постель.
Скотли тяжело кивнул и громко загоготал. Когда капитан Негодяев распространялся на философские темы, англичанка, сидевшая рядом и читавшая роман Уиды[119], осуждающе осмотрела его в свой лорнет.
— Вы не должны так громко разговаривать и так бурно жестикулировать, — посоветовал я. — Эти люди считают исключительно дурным тоном так возбуждаться, говоря о каком-то Боге и вселенной.
— Ну что ж, — согласился он, — если уж мы заговорили об этом: я никогда так не смеялся, когда увидел вчерашним вечером ваших англичан за картами. Они не издавали ни звука и не двигались, словно сидели в церкви. Однообразие их занятия способно была убить любого нормального человека. В России кто-нибудь давно бы уже вскочил, стал бы улещивать другого и назвал бы его плутом и лжецом. А эти — сидят как камни. Неисправимый народ. Сначала я вынужден был делить каюту со Скотли, но, не вынеся его вони, упросил дядю Эммануила поменяться местами. Но он выскочил из каюты, зажимая нос.
— C’est assez![120] Как я тебя понимаю!
Никто не хотел жить в одной каюте со Скотли. Так что, наконец, уговорили генерала с безумными глазами попытать счастья, и он из этого эксперимента вышел невредимым, заметив, что для него любая вонь несущественна. Но в течение почти всего нашего путешествия Перси Скотли болел, и Берта за ним ухаживала.
Утром мы вошли в гонконгский порт. Облака смешались с горами, так что трудно было отличить, где те, а где другие. Прибыли на катере с британским флагом двое штабных офицеров в бледном хаки с красными нашивками и осведомились:
— Находится ли на борту генерал Похитонов?
Им сообщили, что находится. И генералу с безумными глазами запретили высадку на берег, а то он еще подобьет местные народности на бунт против британской короны.
Генерал был человеком, неизменно на все соглашавшимся, — заявляя при этом протест; и сейчас, заявив в письме к капитану свой протест, он остался на борту, а мы с Сильвией отправились на берег. Там мы сели на трамвай, идущий на пик Виктория. И, пока мы взбирались вверх по склону, я сказал:
— Ты смотришь на мир иной как на меблированную квартиру, где все готово к твоему прибытию. Я же полагаю, что мир скорее схож с музыкой, которая стремится к повторному рождению через собственное вдохновение; а человек — это композитор, пробуждающий жизнь, чтобы сделать ее отзвуком каданса, вырванного им из глубокого сна, чтобы ему были подсказаны новые тайны и новые мелодии.
— Дорогой, ты говоришь так громко, что тебя все слышат.
— Мне все равно. Я говорю правду.
— О!
— Что?
— Черт побери эту муху.
— В обычной мухе столько бесстыдства, сколько нет во многих взрослых мужчинах и женщинах.
— Мы здесь выходим?
— Да. Тут живут все снобы — на холме, — произнес я, выходя. — А простой народ (за исключением губернатора) живет внизу, чтобы на него удобно было смотреть их собратьям (за исключением губернатора), которые живут на холме.
Мы шли под руку с Сильвией, а чтобы муравьи не могли взобраться мне на брюки, я все ускорял и ускорял шаг, тогда как муравьи, как и все твари Божьи, пытались не упустить свой шанс и погибали у меня под каблуками. Они сновали по каменным развалинам с серьезным занятым видом, пока мы, люди, взбирались по скалам — безобразным порождениям природы, видевших наше рождение. И — гляди-ка! — одинокий жук, тоже выползший прогуляться в этот славный весенний денек, пересек тропинку в вялых поисках своей жертвы.
— Дорогой, пожалуйста, не беги так, не тяни меня за руку!
— Ты что, хочешь, чтобы эти чертовы твари взобрались нам на ноги?
Я замедлил шаг, и тотчас же моей лодыжке досталось, когда на ней очутилось одно из этих пакостных созданий, чьи укусы несоразмерны их величине. Я стряхнул его. Если бы я только мог, рассуждал я вслух, я бы добился взаимопонимания с муравьями, modus vivendi, и позволил им жить — пока они трудятся на благо спасения своей души, каким бы оно ни было! Но мне некогда — и поэтому я давлю их каблуком и лишний раз не стесняюсь. И так мы поступаем друг с другом. В таком нелепом мире мы живем!
Потом мы оказались в парке, под нами расстилалось море. Какое барственное чувство! Порыв ветра пронесся меж деревьями и сорвал с ветвей несколько зеленых листьев; какое-то время они еще дрожали. Жаркое солнце погружало лучи в прохладные зеленые воды внизу, и они искрились радостью. Небо, отзывчиво-игривое, пускало белые пушистые облака гоняться друг за дружкой по лазури. Сильвия посмотрела на меня тем безгранично-нежным взглядом, какой приберегают для единственного человека, что-то значащего в жизни.
Я смотрел на нее.
Она закрыла глаза и вздохнула.
— Устала. Хочется прилечь.
— Пойдем в гостиницу?
— Да.
Мы работаем, размышлял я, но никто не знает, зачем.
— Вот. — Я остановился и указал тростью. — Муравьи тоже работают.
— Да, дорогой, работают. Но то, что они делают, ничего не стоит, правда? — произнесла она, устремляя на меня нежный взор, молящий о благоразумии, словно ей было жаль муравьев, обреченных на незначительность, но она и не могла пройти мимо этого, поскольку это было так очевидно.
— Ничего не стоит — в смысле, для мира?
— Да, дорогой.
— Вопрос не в размере. Вселенная в своей совокупности имеет не больше, а даже меньше смысла, чем муравьи, и пытается изъясняться через них, чтобы осознать свою душу в ощутимых трудах на благо истины. Вселенная пробуждается ото сна к жизни и нащупывает, строит, то есть делает предварительный расчет для возведения прочных дальних постов, чтобы не съехать обратно в сон, где все размыто, как в бреду. Наши труды здесь — всего лишь итог, подводимый миром для того, чтобы не запутаться в вычислениях. Но финансовый инспектор все прибавляет и прибавляет без конца: он пытается представить себе размер своего состояния, прийти, наконец, к верной сумме. Ибо, скажу тебе, дьявол с помощью мошенничества лишает Его имущества.
— Так и есть, дьявол его побери!
— Вот тебе и наша работа. Вот чем занимаются муравьи — регистрируют мечту. Но необходимо осознать смысл этого и не регистрироваться только для одной регистрации. У тебя должно быть что-то, что можно зарегистрировать, и для этого ты должен постоянно нырять за жемчугом обратно в сон.
— Дорогой, — сказала она, — а ты мне так и не купил то ожерельице из фальшивого жемчуга.
— Вся беда в том, что мы не знаем, вселенная ли управляет нами или мы — вселенной. Некоторые считают, что вселенная направляет нас, чтобы мы направляли ее. Но, может, правда в том, что мы, ее компоненты, подпираем друг друга и не может решить, куда идти, — поскольку это совершенно неважно. Вселенная, может, вообще никуда не стремится, а понимает фатальную бесплодность самой идеи куда-то стремиться и по той же причине боится остановиться. Так что ей просто неймется. Мы не знаем, чего по-настоящему хотим.
— Но, дорогой, ты прекрасно знаешь, чего я хочу. Ты просто притворяешься, что не знаешь.
— Может, когда нам надоест желать чего-то конкретного или просто чего-то, нам надоест иметь какие бы то ни было желания, и мы не будем желать вообще.
Рано или поздно нам надоест ничего не желать. Пока нам не надоест то, что нам все надоедает.
— А потом?
— Потом мы займем место Бога.
— Ты такой озорник, дорогой, — сказала она.
Мы провели сиесту в длинной комнате, пахнущей свежеполированным деревом, с окнами, выходящими на море, после чего официант принес нам чаю.
— Дай ему хорошие чаевые, дорогой, — сказала Сильвия. — Он был очень услужлив.
Выходя из гостиницы, она подала руку женщине-администратору.
— Благодарю вас, — сказала она. — Мы с мужем прекрасно провели время.
Спускаясь на трамвае с холма, мы увидели расстилающееся перед нами море. В порт осторожно входил большой пароход, а другой как раз выходил в море; и этот образ на фоне кипящей у воды и бьющей в лучах солнца жизни, предвещал мир — мир, воцарившийся задолго до нашего приезда. Я думал: я исчезну, но вселенная — моя.
— Если целый свет не имеет никакого значения, то что тогда имеет? И в чем причина существования этого не имеющего значения мира? Ибо если жизнь существовала бы без никакой разумной причины или следствия, то само ее существование было бы тайной. И если бы не было жизни вообще, а только смерть, — это было бы не менее странно и таинственно, если бы смерть была… огромное спящее Ничто.
— Потусторонний мир… дорогой, я ничего о нем не знаю, только то, о чем плачет и тоскует мое сердце, словно ребенок, криком требующий молока. Но явится ли мать?
— О да, она явится! Обязательно явится!
И когда мы оказались внизу, в городе, выяснилось, что он кишит маленькими озабоченными человечками, словно жучками — темными человекоподобными жучками, снующими во всех направлениях, и между ними затесалось несколько белых жучков, носителей бремени белого человека. И я возненавидел себя.
— Но если мы можем ненавидеть себя и смеяться над собой — откуда в нас это чувство юмора? Что сидит в нас такое, что заставляет нас смеяться, что не выдерживает напыщенности, что не впечатляется жизнью? Что сулит этот предохранительный клапан, это постоянное восхождение от определенного факта к неопределенной сублимации? Разве это не истинный Господь, от которого мы не можем отойти?
— Ты такой озорник, дорогой.
Время приближалось к ужину, и вечерний воздух пронизал слабый ветерок, облегчающий дыхание. Замысловатая музыка, доносившаяся из какого-то кафе или дансинга, возбудила в нас жажду жизни; абажуры на столах манили разделить с ними их уединение.
— Давай поужинаем здесь, дорогая.
— Нет, нет, маман будет беспокоиться, куда мы пропали.
Мы проехались на рикше, сошли на площади и поглядели на статую герцога Коннахтского. Потом снова сели на наших рикш и отправились на берег.
Жизнь мудрее разума, думал я. Жизнь есть, и, существуя, ей не о чем размышлять: а разум — частичное открытие того, что есть, — незавершенное и поэтому любопытствующее.
— Дорогой, она ждет, когда ты ступишь в лодку.
Мы ступили в сампан.
Это давняя жалоба: свое переутомление мы списываем на изнурительный труд, а любовное томление — на любовь. То не был изнурительный труд. И любовью это не было. Это было другое. Сильвия, сидя близко ко мне, была растрогана и очарована, и по некоему немому соглашению мы не разговаривали. Ее огромные сияющие карие глаза смотрели пристально, в священном трепете.
Гонконг позади тоже был скован заклятием томности, не шевелясь, не грезя: просто смотрел, радуясь тому, что он есть. Было тихо, лишь вода билась о борт сампана; и лицо китаянки, ворочающей веслом, вылепленное, несомненно, по образу и подобию Божьему, все же так сильно отличалось от наших. Она либо не ждала чудес, либо принимала их как должное; она устремляла летаргический, без выражения, взор в море и тупо, механически работала веслом. «Носорог», с его белой мраморной рубкой, был похож на морскую раковину, просвечивающую на вечернем солнце, дивную, завороженную. Крепкое судно, не страшащееся ни штормов, ни пространства, ни темноты, выглядело странно и мирно, покоясь на волнах, как невозмутимое существо, тающее от любимой музыки, или суровый моряк, улыбающийся ребенку. И при взгляде на морской простор, на небо, на жемчужный город, мерцающий под замирающим солнцем возникало такое ощущение, будто мы и вправду бессмертны.
— Господи Боже! — промурлыкала она. — Как же я хочу жить вечно!
Слезы показались на ее глазах, повисли на ресницах, отливая золотом, как у Саломеи. Она улыбнулась, и они упали с ресниц.
Но тем вечером, за ужином, она уже снова смеялась, пила много вина и весело ворковала, как всегда, едва слышно. Ее зубы блестели, когда она, точно цветок за стебель, брала бокал и чуть не расплескала вино, и поэтому, а еще по причине врожденной смешливости, совсем развеселилась. Мы с дядей Эммануилом надели белые фланелевые рубашки и белые, почти прозрачные пиджаки — чистые и хрустящие, только что из стирки, — а тетя Тереза, тетя Молли, Берта и Сильвия были в белых открытых кружевных платьях; была весна, почти лето, и мы были полны радости жизни. Тетя Молли с детьми сидела за другим столом, а за углом расположился капитан Негодяев с супругой и Наташа, которая то и дело выглядывала, заливаясь смехом. Вдруг она тихонько заплакала.
— Что ты, Наташа?
— Что такое, милая?
Она тихонько плакала.
— Миленькая, в чем дело?
— Оса, — всхлипывала она.
Гарри засмеялся.
За ужином дядя Эммануил пил много вина и говорил о губернаторском бале и о том, какая это ошибка, что он туда не явился.
— Я не иду: у меня нет парадной формы.
— Какая жалость!
Выяснилось, что тетя Тереза в компании Берты тоже была на пике.
— Трамвай так дернуло, — жаловалась она, — прежде чем я успела сесть.
— Такое случается, — согласился я, — иной раз даже во сне. Однажды я выскочил из постели.
— О да, помню-помню! — закричала радостная Сильвия.
— Как-как? — повернулся к ней дядя с видом следователя. — Откуда это ты можешь помнить?
— Прошу прощения, — произнесла она, опуская ресницы.
— Этого недостаточно.
— Простите, — повторила она. — Простите.
— Все дело в том, что я вывалился прямо на ковер.
— Это определенно весьма интересно, — сказал он. Повисла напряженная пауза. Дядя откашлялся.
— Я все время догадывался. Все время.
— Ну и удачи вам в этом.
— Я бы посоветовал тебе быть осторожнее в выражениях.
— Когда мне понадобится ваш совет, я вам телеграфирую.
— Если бы мы были одни, я бы сказал тебе, что об этом думаю.
— Тогда нам надо обменяться нашими думами, как визитными карточками.
— У нее нет брата, — проскулил он. — Анатоль… — И его глаза наполнились слезами.
— Офелию любил я; сорок тысяч братьев всем множеством своей любви со мною не уравнялись бы[121].
— Причем тут Офелия?
— Я сделал ее счастливой.
— Бедная моя дочь…
Я томно отхлебывал бренди. Потом поднял на него усталый взор.
— Я действительно должен вышибить ваши глупые мозги?
— Это скандал! Это скандальное дело!
— Единственное оправдание вашего существования, которое я могу ориентировочно выдвинуть, — то, что вы — та беда, которая может обернуться благом.
Возможно, я временами и циник; но он еще хуже: он не знает, что он циник. Его дочь! Его дочь! Но эта дочь хотела моей любви, а в это время ее отец любил чужих дочерей. Так чего же он тогда пищит и визжит, этот будущий киношный цензор?
— Я — последний, — мой тон был примирительным, — кто хочет придать этому делу неприсущую ему значительность.
— О!
— Эммануил! — произнесла тетя Тереза тоном, в котором ясно прозвучала не только ее гордость продемонстрировать родительский авторитет, но и намек на то, что многое в жизни заслуживает прощения. Она запиналась. Она имела в виду — но с трудом могла передать словами, — ее все время удручала мысль, что она отказала дочери в первородном праве на любовь, и что сейчас я сумел восстановить ее в этом праве.
— И, Эммануил, Сильвия была уже замужем в это время.
— Накануне моего отъезда, старая ворона!
— Замужем? — перепросил дядя Эммануил, приятно удивленный этим оправдывающим обстоятельством. — Разумеется, это представляет дело в ином свете. Что ж, тогда, полагаю, она знала, что делала. И все же… все же…
Но он не пошел дальше этого «все же» — протест заявленный, но не настоятельно.
После ужина мы расположились на палубе с кофе. Большой пароход выходил в открытое море; пирс можно было различить лишь по цепочке фонарей. Когда стихал оркестр в кафе, в промежутках до нас доносились обрывки музыки из освещенных садов Дома правительства. А на носу пронзительно визжал граммофон, и какие-то жалкие офицеришки-кокни быстро и вульгарно танцевали друг с дружкой под эту музыку.
То был Китай — Дальний Восток! Влажная вечерняя духота обволакивала нас, и, здесь, на палубе, почему-то становилось жаль себя и всех на свете.
49
Когда на следующий день мы вернулись (на судне произошла поломка, и оно проходило перестройку и ремонт), русский генерал все еще был на борту и расхаживал по палубе в своих пропотевших парусиновых туфлях, как кот по крыше горящего дома. Приехавши из Гонконга в Шанхай и вернувшись обратно в Гонконг, он решил теперь добраться до Сингапура, где русский консул — как он надеялся — поможет ему деньгами и потребует разрешения на его высадку на британскую почву. К этой мысли он цеплялся с той готовой надеждой всех слабодушных, за которую, страшась грядущего отчаяния — его единственной возможности — цеплялся как за соломинку в уверенности на спасение. На Британскую империю генерал смотрел как на большое посмешище, тогда как капитан Негодяев считал ее убежищем для себя и для своей семьи, где мог спастись от воображаемых преследований, которых так боялся в России, и с серьезным видом при каждом удобном случае он отдавал честь «Юнион Джеку»; а случаев таких, с учетом того, что останавливались мы непременно в британских портах, было предостаточно. Уже стало трюизмом то, что русские, встречаясь, обязательно ссорятся. Негодяев был монархист до мозга костей, а генерал обратился в большевизм. Когда я сыграл величественный старый российский гимн, генерал заметил, что это совершенно неуместно, а капитан Негодяев умолял меня продолжать. Однако именно капитана Негодяева генерал презирал больше всего, называя его пошлым оппортунистом и издеваясь над его непримечательным полком и провинциальным воспитанием. Генерал-большевик был гвардейцем и преподавателем военной академии. Он гордился своими связями в Англии и много рассказывал о наставниках, с которыми был близок.
— Мне стоит лишь написать лорду Курзону[122], — говорил он с самодовольной улыбкой, — и для меня откроются все британские порты.
— Невзирая на всех ваших друзей-аристократов, — вступал в разговор капитан Негодяев, — вас не впустят даже для того, чтобы купить пачку почтовых открыток. А я…
— Разумеется, нет, поскольку я — важная персона; вы же — вы просто никто, вас никто и не заметит.
Капитан «Носорога», бравый коротышка с неприятной улыбкой, кавалер ордена святого Михаила и святого Георгия, всеми своими словами и поступками намекал на то, что он ничем не отличается от капитана военного корабля. Но путешествовавший с нами в качестве пассажира коммодор, одетый как штатский, был постоянным сучком в его глазу; и во время ужина капитан обстоятельно рассказывал о военных подвигах торгового флота.
— Конечно! — тяжело, по своему обыкновению, кивнул Скотли. — Я всегда говорю: один человек ничем не отличается от другого и даже гораздо, черт подери, лучше! — И он загоготал.
Капитан оглядел всю компанию — и коммодора. Но тот промолчал.
Каждое утро, в половине одиннадцатого, капитан и командующий военными частями совершали обход палубы в сопровождении первого помощника, адъютанта, второго помощника, дежурного офицера, судового казначея, главного инженера, начальника медицинской службы и судового хирурга. По завершении одного из этих парадов капитан Негодяев остановил капитана (который как раз шел по каким-то своим делам) и, через меня, сообщил:
— У меня две дочери, господин капитан: Маша и Наташа. Скажите господину капитану, что Маша далеко — замужем. А вот это Наташа.
— Это Наташа, — переведя, пропуская вступление.
Капитан любезно потрепал Наташу по плечу, не потому что захотел, а потому, что она оказалась у него на пути. — Это ваша дочь? — спросил он таким тоном, словно подразумевая, что ей не положено стоять у него на пути. И отправился по своим делам.
После обеда играли на палубе в теннис. Скотли играл так, как можно было от него ожидать, — с радостной решительностью, со значительными кивками, с очевидным удовлетворением и широкой довольной ухмылкой, появляющимися на его лице всякий раз, когда его противник не мог отбить его удар (правда, не потому, что Скотли играл хорошо, а потому, что противник играл плохо). Но он каждый раз оглядывался, словно желая сказать: «Видели? Вот каков я: одним махом всех побивахом!» И он оглядывался, словно желая удостовериться, всели это видели. А госпожа Негодяева играла так, словно ожидала (если есть правда на земле), что успех измеряется затраченными усилиями. И когда это не оправдывалось — что ж, весь ее вид говорил, что нет правды на свете, нет разума, нет добра, нет Бога!
— Какое славное-преславное море! — воскликнула Сильвия, стоя у перил в ожидании сигнала на ужин.
— Стоячий пруд, отразивший случайный луч, тоже может показаться какому-нибудь эфемерному насекомому доказательством чего-то чудесного и божественного. Возвышенное в природе не зависит от простых ответов, как, например, является ли это великолепное море перед нами эликсиром божественной природы или обычным ведром помоев, разлитых некой небрежной уборщицей из другого измерения: ибо чудо, возможно, в том, что это море по сути и то, и другое.
— Дорогой, ты становишься очень скучным, — резюмировала она.
Рано поутру мы бросили якорь у берегов Сингапура. Приплыл на белом катере с британским морским флагом офицер с красными нашивками и, вступив на борт, осведомился:
— Есть ли па борту русский генерал По… Похк… Похитонов? Опасный человек.
Таковой на борту был. И в результате генералу высаживаться не разрешили.
В Сингапуре, вместе с прочими вещами, были также куплены книги для Наташи. Ее родители все больше и больше беспокоились насчет ее образования.
— Ей уже восемь, через год ей будет девять, и она не очень внимательна, — жаловалась госпожа Негодяева. — Я всегда говорила — мои дети будут прекрасно образованы. И я тратила последние деньги на Машу. Бедная Маша! Она так прекрасно образована — и так несчастна. Ну да что там. Теперь вот Наташа… А, вот и мой херувимчик!
Наташа стояла рядом с ней с сияющими глазами.
— А мы видели волов, — сказала она, — Ой, так много волов на улице!
В Сингапуре на борт взошел старый британский генерал в отставке, после чего мы вступили в пролив, идя меж лесами темных малакковых деревьев, пока снова не вышли в океан. Русский генерал решил, что поплывет на Цейлон. Капитан Негодяев на слова британского генерала: «Какая у вас славная дочурка!» ответил через меня:
— У меня, ваше превосходительство, две дочери: Маша, старшая, далеко — она замужем, ваше превосходительство. А это, ваше превосходительство, Наташа. Ей всего восемь. К несчастью, ваше превосходительство, при нынешних обстоятельствах, ваше превосходительство, ее образование весьма и весьма страдает. Да, истинная правда: весьма длительное путешествие, ваше превосходительство.
Британский генерал капитану Негодяеву понравился своим явным отсутствием снобизма, — как возненавидел он русского генерала за его надменное превосходство. Но это было потому, что он еще не научился различать эти две поведенческие традиции. Чем выше по положению русский барин, тем грубее его манера обращения с подчиненными. В Англии не так. Английский снобизм — снобизм сдержанный, снобизм в оттенках, в полутонах. Русский граф попросту обрушит залп брани на голову навязчивого выскочки, а прочие графы с удовлетворением почувствуют, что он встал на защиту их исключительной касты. В Англии не так. Английский сноб будет обращаться с вами с преувеличенной почтительностью и с помощью сдержанных намеков покажет, что пред лицом его и Господа Бога вы отличаетесь от людей его звания. Британский генерал не воспринял русского.
— Вы — большевист, — сказал он ему с таким видом, будто здорово беспокоился за судьбы России.
Тот фыркнул.
— В вашей стране нынче любого, кто не курит трубку и не играет в бильярд, зовут большевиком. Вы можете с тем же успехом окрестить меня стулом или ковром.
Британский генерал не выпускал русского из виду и следовал за ним по пятам.
— Он — опасный человек, — признался он мне. — Убежден, что он подожжет корабль, если я не буду за ним следить. Эти большевисты — ужасный народ.
И, сидя в своем шезлонге на палубе, вы могли уловить между двумя рубками промельк безукоризненно-белых теннисных туфель британского генерала и вслед за этим — промельк бурых, изъеденных потом парусиновых туфель генерала русского, которые, казалось, стремятся убежать от теннисных туфель вокруг двух рубок.
Для нас с Сильвией это путешествие было одно чистое незамутненное блаженство с раннего утра до поздней ночи — любовь всю дорогу — пока это чуть-чуть не надоело. Я был удовлетворен — равнодушен. «Боврил»[123] и печенья, теннис на палубе и метание колец, концерты, танцы, коктейли, разговоры, бридж и лимонный сок.
— Погода, — заметила она, — прекрасная.
— Мы, любимая, с тобой вместе и в мороз, и в зной. Глянь-ка на этих генералов, гоняющихся друг за другом вокруг рубки.
В каюте было жарко и душно. Мы вытащили наши матрасы на палубу и спали на самом краю, под ленивый плеск волн.
— Чего ты смеешься?
— Над тем, как мы его обводим вокруг пальца.
— Кого? — спросила она, поворачиваясь.
— Капитана.
— Это не любовь.
— Любовь, любовь, любовь… я люблю тебя, а ты — меня… блаженство… удовлетворение… вечное счастье. Однако почему же тогда, дорогая, так хочется повеситься?
— Александр, — сказала она, — ты переменился.
— Я не переменялся, просто это… выводит из себя.
На середине Индийского океана капитана Негодяева внезапно настиг приступ мании преследования, и он приказал жене и дочери надеть пальто (ему казалось, что бежать надобно обязательно в пальто), и они сидели в кают-компании в шубах, муфтах и галошах, со всех сторон окруженные тропическими водами, пока он не провозгласил: «Все чисто!» и не послал их обратно в постель. Когда я спросил Наташу, зачем папа заставил их надеть пальто и сидеть в кают-компании, она ответила, пожав плечами: «Не знаю, что это означать». Ее обучение началось по-настоящему. Мать учила ее русскому синтаксису. Я взялся учить ее английскому и трижды в неделю диктовал ей, постоянно отвлекающейся, из азбуки: «У Криса была киса, но не было крысы. Киса съела крысу бедного Криса?» И, прерывая занятия, доносилось шарканье приближающихся изъеденных потом, парусиновых туфель, мелькали шальные тусклые глаза, слышалось шмыганье носом, хрюканье, и он уходил. Сильвия взялась за уроки французского, и Наташа упражнялась в несколько чреватом разговоре: «Avez-vous vu le pantalon de ma grand’tante qui est dans le jardin?»[124] Берта давала ей уроки фортепиано, что означало, что каждый день по часу Наташины тонкие розовые пальчики проходили по клавишам в однообразном упражнении Ганнона, все выше и выше по тембру, и, достигнув вершины, начинали сходить вниз по гамме, пока пианино не начинало сипло реветь (и немного неестественно, если вспомнить возраст и пол создания, производившего такие беспорядочные звуки), усугубляя однообразие морского путешествия, укачивая и обостряя желание больше не просыпаться! А Скотли, пока на море был штиль, взялся натаскивать Наташу в арифметике (поскольку не мог преподавать культуру иностранной речи), и пригласил (ибо всегда хотел затмить нас всех) в ту же группу и Гарри, который считал: «1,2, 3, 5, 7…», или на вопрос, сколько будет два плюс два, всегда полагался на свое большое воображение и отвечал, мечтательно поразмыслив: «Одиннадцать». Дядя Эммануил, в свое время изучавший немецкий, — выбрав этот язык с позиции генерального штаба, ожидавшего войну с Германской империей, — впервые использовал его, чтобы способствовать Наташиным первым шагам в этом языке; и когда, после обеда, вы проходили мимо кают-компании, вашим глазам представало зрелище — рассеянная девочка с косичками, открывающими нежную шею, кусает ручку, держа ее измазанными чернилами пальцами, болтает открытыми по колено ногами, а маленький дядя Эммануил, сунув руку за отворот кителя, расхаживает перед ней с профессорской миной и диктует: «Ist dasein Mensch? Nein, es ist ein Stuhl»[125]. А если вы подождете еще немного, то будете вознаграждены звуком прерывистых шагов, появлением из-за угла пары потертых парусиновых туфель, шмыганьем, фырканьем и исчезновением. Наташино запоздалое образование было таким образом закручено до последней степени, даже тетя Тереза взялась за усиленное обучение ребенка кройке и шитью. И Наташа с гордым видом сидела на подушечке у ног величественной седовласой дамы в бриллиантах, которая время от времени делала ей замечание глубоким протяжным баритоном.
Прошел дядя Том и подмигнул. Она залилась восхищенным смехом. После уроков она бежала за ним и просила:
— Поиграй со мной! Ну, пожалуйста!
Она рассказала ему все про маленького лорда Фонтаныроя. Пальцы дяди Тома хрустели, когда он сгибал их, а все потому, что, как он объяснил, у него был ревматизм.
— Ой, дядя Том, ты такой смешной!
И она придумала для него новое прозвище — дядя Риматизм, потому что, как она объяснила, «у него все косточки хрустят». Гарри и Нора тоже ужасно заинтересовались в этом хрусте косточек дяди Риматизма и с трепетом слушали хруст суставов старого моряка. По их просьбе он должен был постоянно ими хрустеть.
Чем дальше на запад мы углублялись, тем смуглее становились желтые китайские физиономии, тем правильнее становились их черты, все больше и больше походя на лица моих худощавых друзей из Индии, с которыми я учился в Оксфорде. Это была постепенно меняющаяся панорама, все более заметная в каждом порту, куда мы заходили, благодарная тема для размышлений, в которых огромный океанский лайнер, уменьшенный до миниатюрных размеров моим воображением, преодолевал беспокойный океан где-то между малайским побережьем и островом Цейлон.
Море успокоилось, выглянуло солнце, сияющее, как улыбка. Я закрыл глаза, и бриз, напоенный живостью моря, дохнул мне в лицо; я задремал в остром наслаждении. Мне приснился капитан Негодяев, просящий занять ему 50 фунтов, — и я проснулся.
В Коломбо русского генерала вновь задержали на борту как опасного революционера. Штабной офицер, прибывший на катере с этим приказом, употребил всю свою хитрость на избавление от британского генерала, и наутро мы все отправились на берег. Ах, Цейлонское море! Ах, тропическая ночь! Рано утром спускаешься на рикше к зеленому ревущему, играющему бликами океану, то набегающему на берег, то отступающему, то снова набегающему и отступающему. Танцы в отеле «Галль Фас». И снова тропическая ночь с большой бледной луной, и пальмовый лес ухмыляется нам из-за спины, и освещенный корабль ждет на вахте, терпеливо ждет. Чего мы ждали? Смерти? Она подкрадется на четвереньках и — раз! — заберет нас всех, по очереди.
Мы собрались на верхней палубе «Носорога», пока корабль осторожно шел мимо ярких, омытых пеной волноломов и залитых солнцем пляжей Коломбо, устремляясь в открытое море. Океан вздымался зелеными валами, чьи гребешки отблескивали; кружащие, кричащие чайки то взмывали под небеса, то качались на волнах. Сильвия стояла рядом и смотрела на меня.
— С этим ветхим бантом ты похож на второразрядного поэта. Дай-ка завяжу.
Я почувствовал прикосновение ее нежных пальцев на шее и ощутил аромат ее волос, и это напомнило мне, как мы танцевали в отеле предыдущим вечером, принесло рой неуловимых ощущений, напомнило тропические ночи, расстроенные планы, любовь, которая преобразилась для меня, как ничто другое, и это странное путешествие вокруг света; и я понял, что мы будем долго вместе, и цветок нашего счастья еще расцветет.
Начиналась качка.
Русский генерал больше не имел планов. Не прокатиться ли ему до Египта — поглядеть, что там новенького в Порт-Саиде?
— Думаю, Черчилль и Ллойд-Джордж сейчас советуются, что со мной делать, — поделился он со мной, — и, полагаю, они отведут мне резиденцию — скорее всего, в Лондоне, в каковом случае я обращусь за вашими услугами в качестве моего адъютанта.
В четверг вечером на борту было запланировано устроить бал-маскарад, и я придумал нарядиться пугалом. Нору мое появление развлекло, Наташа пришла в восторг — даже захлопала в ладоши: «Ой! Ой! Глядите! Пугало огородное! Глядите! Пугало!» — а Гарри отнесся с полным презрением к моему спектаклю. «Глупо», — бросил он. Но во вторник капитана Негодяева снова обуяла мания преследования, он приказал жене и дочери одеваться, чтобы бежать в любой момент, и они сидели в шубах в кают-компании. Госпожа Негодяева, казалось, послушно играет некую роль, необходимость которой не оспаривалась, а Наташа была сконфужена нашим присутствием, немного пристыжена тем, что должна участвовать в этом странном ритуале. Громадный, зеленый океан был спокоен и гладок. Лайнер бесшумно скользил среди шапок пены. Весь долгий день напролет мы лежали в шезлонгах и глядели на простиравшееся вокруг море. Мы не видели земли многие сутки, и на многие сутки не было надежды на то, что мы ее увидим. Наташа и Нора славно играли вместе, а Бабби всегда играла одна. Гарри же, который держался презрительно, особняком, руки в карманах, и не выказывал особого интереса к их играм, время от времени совершал неожиданные налеты на их игрушечные домики, опрокидывал их, — и тогда пронзительные крики «Гарри! Гарри!» неслись тогда над тихим зеркалом Индийского океана.
— Где та сабля? — подошел он ко мне.
— Зачем она тебе?
— Хочу Норе голову отрубить. Она мне надоела!
— Тебе нельзя эту саблю.
— Почему?
— Потому что она моя.
— Ага, тогда убейте дядю. И тетю Терри. И Нору. И маму. И Наташу. И тетю Берти.
Прошел «дядя Риматизм», старый и беззубый, насвистывая «Пузыри навек пускать», снова подмигнул Наташе так весело, что она залилась смехом.
— Гарри! Гарри! Что ты делать?
— Гарри, отстань! Жаткнись!
— Что тут произошло? — появилась тетя Молли.
— Гарри меня пнул, — плакала Наташа.
— Она первая меня пнула.
Наташа получила затрещину от отца и забилась в угол; она плакала. Гарри, из вежливости перед иностранцами, тоже получил подзатыльник от тети Молли:
— Озорник!
— За что?!
И он заревел в самом искреннем отчаянии. Но вскоре снова бегал по палубе, как ни в чем ни бывало, как будто ничего не происходило. Открылась дверь, и Наташа, подобравшись сзади, закрыла мне глаза своими холодными ладошками; и хотя по ее нежному прикосновению, по особенному дыханию, по шуршанию платья я знал, что это может быть только Наташа, она произнесла экстатически:
— Догадайся, кто это!
И после правильной догадки последовал ее заливистый смех.
— Закрой глаза, открой рот!
Наташа очень выросла, постройнела, стала немного застенчивой и замкнутой. Я давал детям орехов; бунтари жадно хватали их и просили еще. Лишь Наташа брала немножко и всегда говорила: «Спасибо».
Какой славной девочкой она вырастала, какой послушной, изящной, таким нежным растением! И мы занимались ее образованием крещендо, форте, фортиссимо! Ее волосы, заплетенные в косички по причине невероятной жары, открывали нежную белую шейку. Из всех созданий нет другого такого нежного, такого отзывчивого, душевного и грациозного, как девятилетняя девочка!
— Завтра, — объявила она, — будет бал-маскарад. Я буду Ночь.
Наутро, однако, у Наташи разыгралась головная боль. То ли от чрезвычайной жары, то ли от чрезмерных занятий, но уже за завтраком она совсем поникла, старалась не двигаться.
— Голова болит, — повторяла она. — Голова болит.
Мы с Сильвией стояли на корме, глядя на пенный шлейф за кораблем, на то, как он растворяется.
— Гляди!
Я глянул. В волнах появилось какое-то черное тело. Появилось и исчезло. Животное появилось еще раз, сверкнув белым брюхом, и опять пропало.
После обеда мы увидели его снова. Черная голова то появлялась, то исчезала, — акула, похожая на громадную черную собаку, с парой злобных черных глазок, шла у нас по следу. Потом она исчезла.
— Вон! — закричала Сильвия. — Вон она снова — поравнялась с нами. Она идет за пароходом.
Акула пропала в волнах. Мы подождали, чтобы удостовериться, что она исчезла. Но она снова появилась, идя у нас по пятам. То и дело нашим глазам являлось ее светящееся белое брюхо, когда она наполовину высовывалась из воды. Она появлялась то по правому борту, то по левому, но всегда где-то в пятидесяти ярдах от кормы, следуя за нами в какой-то тайной уверенности.
Наташа, нахмурившись, сидела в шезлонге. Прошел дядя Том и подмигнул ей.
— Ха-ха-ха! — залилась Наташа. Но не попросила его поиграть с ней.
— Что ты, Наташа?
— Голова болит.
Неожиданно к вечеру ей стало хуже, и ее, всю в красных пятнах, горящую в лихорадке, уложили в постель. После обеда, когда доложили, что ее состояние серьезно, бал-маскарад был отменен, и пассажиры, с нетерпением дожидавшиеся его и проспавшие весь день, чтобы всю ночь быть на ногах, в тоске и томлении расположились на палубе. Капитан Негодяев поднимался из каюты дочери.
— Доктор говорит, что через пару дней она выздоровеет, ей нужен полный покой. Она слишком перевозбудилась, слишком много бегала под солнцем.
— А какова причина?
— Он говорит — небольшой солнечный удар. Кто знает?
— Но не зря же он доктор; он должен знать.
— Он не знает.
Мы стояли у перил под светом луны.
Мне скучно сегодня. Кажется, никогда меня еще не одолевала такая мучительная, всеохватная, безобразная скука.
— Почему бы вам не покончить с собой? — засмеялся он.
— Этого будет недостаточно. Сегодня мне хочется взорвать весь земной шар, совершить самоубийство от имени всех. Кратчайший путь до царствия небесного на земле — покончить с этой самой землей.
Он снисходительно улыбнулся.
— Подумать только, какая тема для художника, какой сюжет для рассказа, — ученый ночью похищает светящийся земной шар и отправляет его, одним махом и чохом, к праотцам. Все, моря больше нет. Какое возвышенное преступление! Полюбуйтесь на его вид. Такое мог бы написать какой-нибудь безумец вроде Бальзака.
— Зачем ограничиваться одной землей? Почему бы не вся вселенная, весь космос?
Я остановился и задумался.
— Я — за.
Он посмотрел на меня.
— Но куда все это денется? Все души и так далее?
— Куда? Почиют.
— А что сделает Бог? — спросил он.
— И Бог туда же.
— Это невозможно, — произнес он, поразмыслив.
— А!
— А!
Мне он нравится, он из людей интеллектуальных, но по некоторым причинам наши интеллектуальные беседы обыкновенно заканчиваются самым унылым и практическим способом; вот и сейчас он проводил меня до моей каюты, весь лучась улыбкой, и вышел оттуда со смятой пятифунтовой банкнотой в руке, беззаботно произнеся:
— Уладим это на той неделе, даю свое слово, — а до этого он выдал мне долговую расписку, подписавшись: «Питер Негодяев». Ненавижу обобщения, от меня последнего можно услышать ошибочное мнение, что все русские обязательно люди непрактичные: но, вообще-то говоря, я бы дал такой совет: пусть ни один шотландец по возможности не дает в долг русскому.
Покончив с этим делом, мы вернулись на палубу и продолжили нашу беседу о высоких материях.
— Если нет вечности сейчас, — сказал он, — то человечество может создать ее после нас. Как знать?
— Да, те, кто когда-то страдал, любил и вернулся к первоисточнику, могут однажды нас искупить. Труба, которая воскресит нас, может быть произведена в Бирмингеме или Массачусетсе: какая разница? Прозвучит последняя труба, но мы не предстанем пред Богом, — ибо сами им и будем.
Подошла Сильвия.
— Я рассказывал, дорогая, о массачусетской трубе?
— Ты рассказывал о какой-то трубе, но я ничего не поняла. Мне надоедает тебя слушать. Дорогой, ты становишься страшно занудлив.
Пришла Берта передать капитану Негодяеву, что жена зовет его вниз — Наташе снова стало хуже. Он спешно ушел. Русский генерал, издалека следивший за нами (он не разговаривал с капитаном Негодяевым) теперь подошел спросить, в чем дело.
— Загромоздили детские мозги всякой ерундой, — ответил я. — Вот в чем все дело. И теперь, кажется, нервный срыв.
— Но вы тоже давали ей уроки.
— Я только притворялся, чтобы успокоить родителей, а сам рассказывал ей разные веселые истории. Она уже восхитительно говорит по-английски. Не знаю, чего они хотят.
— Они себя не знают, — радостно ответил он.
— Вот ребенок с самыми деликатными чувствами, а вы забиваете ему голову арифметикой! И теперь она серьезно больна.
— Не от этого.
— Очень даже от этого.
— Чепуха.
— Ничего не чепуха.
Неожиданно перейдя на английский, он рявкнул:
— Так говорить — сплошная инфантерия!
Генерал учил английский без посторонней помощи, полагаясь исключительно на свои умозаключения — процесс небезопасный. Поэтому, наткнувшись в словаре на слово «infant» и сделав правильный вывод, что это слово сходно с испанским словом «infanta», что означает «ребенок», он решил (на этот раз неправильно), что «ребячество» будет по-английски «инфантерия». Так что частенько он замечал:
— Социализм сейчас еще на стадии инфантерии.
Я пробовал его поправлять: бесполезно — он все знал сам. К слову сказать, можно было бы подумать, что он, пехотинец, знает, как правильно назвать пехоту по-английски. Он звал ее, как и по-русски, — infantería. Вот и сейчас, обозлившись на меня и желая сказать, что я ребячусь, он произнес:
— Так говорить — сплошная инфантерия!
— Генерал! — воскликнул я. — Генерал, вы мне поверите, если я скажу вам, что вы…
— Сплошная инфантерия! — крикнул он. — Инфантерия, и ничего больше!
— Вообще-то я знаю больше вашего.
— Вы? Да вы… даже не англичанин… а полиглот!
Этого я, по правде говоря, не люблю. Интернациональный во взглядах — не люблю я этого. Если бы вы родились в Японии, выросли в России и вдобавок ко всему носили бы фамилию Дьяболох, вам бы хотелось быть англичанином. Когда вовремя военных действий я следовал со своей частью по Ирландии, и какая-то старуха крикнула мне: «Английская свинья!» — я был в восторге, я был польщен, обрадован, охвачен тайной гордостью.
— Дурень! — сказал я. — Мой отец родился в Манчестере, а мать — в Йорке.
— Так я и думал. Йоркширская свинья!
Повисло молчание. Появился британский генерал в своих белых теннисных туфлях, не сводящий глаз с русского генерала, и остановился посмотреть.
— Этот идиот! — заметил русский. — Представьте, как он командует корпусом!
— Все генералы — балбесы.
Генерал глянул на меня с лютой проницательностью, словно решая, обидеться или нет. Он прошел пару шагов. А потом вернулся, решив оскорбиться.
— Убирайтесь! — крикнул он и топнул ногой.
— Сами убирайтесь.
Он подождал немного, исходя яростью, а потом сказал:
— В таком случае уйду я, вы, йоркширская свинья!
— Скатертью дорога!
Я удалился с тяжелым сердцем: зачем я оскорбил его? Бедняге было совсем не сладко среди нас. Мучаясь угрызениями совести, я пошел его искать, чтобы принести свои извинения, и тут, обходя рубку, увидел, что он шаркает своими парусиновыми туфлями навстречу.
— Простите, простите мою грубость, — начал он, пропуская мимо ушей мои извинения. — Я чувствую себя здесь пойманным вдовушку зверем — один в толпе врагов. Все смотрят с подозрением. Этот ваш идиот-генерал следует за мной по пятам. Я не могу даже в каюту к себе спуститься, чтобы он не сел мне на хвост. Все говорят, шушукаются, все указывают на меня пальцами. Мне не разрешают спуститься на берег, чтобы купить открытку; на меня спустили всех секретных агентов на свете. Я… я… я… мои нервы совсем расстроены. Простите меня, друг мой, прошу вас.
Он протянул мне руку.
Я поспешил с ответными извинениями, и мы вновь стали друзьями.
— Я слыхал, — сказал он, — что Наташе совсем плохо. Только что видел медсестру. Она встревожена. К тому же у нас может кончиться уголь, в каковом случае мы должны будем дрейфовать до Бомбея. Кажется, сегодня капитан устраивает совещание по этому вопросу.
Наутро Наташе полегчало. Сразу после обеда я отправился к ней. Войдя в лазарет, я увидел судового хирурга — смуглого аргентинца, — увивающегося вокруг красивой медсестры. Он приглядел ее с самого отплытия из Шанхая. И вот, наконец, выдалась возможность.
— Ну так, сестра, — говорил он, — давайте посовещаемся.
Чем они немедленно и занялись, он — взяв ее под руку, и сидя почти вплотную, у Наташиной койки, он весело спросил:
— Ну-с, как вы думаете, сестра, что такое с ней, черт подери, случилось?
Та задумалась и ответила:
— Не понимаю.
Они не слышали моих шагов и немного покраснели при моем появлении. В каюте было душно: пахло дезинфицирующими средствами. Наташа, казавшаяся совсем маленькой в своей полосатой фланелевой рубашке, взглянула на меня и вздернула тонкую бровь: — А, мистер Жорж!
Судовой хирург поставил ей диагноз легкого солнечного удара, лекарством от которого был полный покой и особая диета, ибо девочка была очень больна и не могла есть.
— Ну, Наташа, что с тобой такое?
— Риматизм, — отвечала она со вздохом.
Я стоял и смотрел на нее, не зная, что делать. Когда нас оставили вдвоем, она показала мне жестом присесть на кровать.
Я взял ее теплую, мокрую от пота руку, дотронулся до тонких пальцев.
— Не будет маскарада! — сказала она. — Не будет из-за меня!
— Нет. Никто не хочет его устраивать без тебя. Его отложили на неделю, пока ты не выздоровеешь.
— Ох, надо же! На неделю! Да я завтра буду на ногах… — И она вздохнула.
— Что такое?
— Голова болит, — проговорила она, морща брови. — Голова болит. Гарри не сломал мою куклу? — спросила она вдруг.
— Нет, я слежу за этим.
— Пусть Норкинс с ней играет. Но скажи Гарри, чтобы он к ней не притрагивался, а то он ее сломает — а она моя.
— Если он к ней притронется, я притронусь к нему.
— Ги-ги-ги! — засмеялась она своим заливистым смехом, потом сказала:
— Ты когда-нибудь видел принцессу Мэри?
Я признался, что не видел.
— Подай мне, пожалуйста, ту газету.
Я перегнулся через нее и подал ей.
— Что ты ищешь?
— Подожди.
Она видела фотографию принцессы Мэри в «График» и влюбилась в нее. Сейчас она нашла ту страницу.
— Вот, смотри! Ой, так красивая! Так прелесть — принцесса Мэри!
— Когда мы прибудем в Лондон, — сказал я, — ты ее увидишь.
— Лондон. Что означать Лондон? Как попасть в Лондон?
— Мы обязательно туда попадем. Это большой город, где много автобусов, поездов метро, движущихся лестниц и всякого другого, тебе нужно только встать на них, и они поднимут тебя наверх… наверх, прямо на улицу.
— Это там можно попасть к королю и… его жене? — поинтересовалась она.
— О да. Я отведу тебя, когда мы будем там.
— Ох, надо же! — и она вся залилась смехом. Приподнявшись, она прижалась ко мне своей теплой полосатой фланелевой рубашкой.
— Ты мой дядя, я тебя люблю. Ты мой папа, когда папа уходит… ты мой папочка. — И тут же, сморщив брови: — Голова болит. Ой, болит!
Я прижался лбом к ее лбу; он был твердый, горячий, влажный. Когда я поднялся, чтобы уходить, она вцепилась в меня:
— Посиди еще.
— Ляг, Наташа. Ты должна полежать. Ляг, вот так.
— Ты мой дядя. Ну, посиди еще. Дядя Джорджи, я люблю тебя. Люблю тебя, дядя Джорджи. Дядя Джорджи, я тебя люблю. Посиди еще со мной.
Мне ужасно не хотелось уходить, а ей ужасно не хотелось меня отпускать; но пришла ее мать, и я ушел и закурил, думая о природе ее болезни. Что это было? Никто не знал. Даже доктор, похоже, терялся в догадках.
На третий день она только повторяла:
— Пить. Пить. Пить…
Кожа на ее лице натянулась. Будучи здоровой, она была очень бледна, практически без кровинки в лице.
Сейчас, когда она металась в жару, ее щеки были словно две спелые, глянцевые вишни; лицо было залито румянцем, и она была так прелестна, какой я никогда еще ее не видел. Она бормотала в бреду: «Ужасные человеки… уберите ужасных людев». Приходя в себя, лишь просила:
— Пить. Пить. Пить…
Когда я поднимался в кают-компанию, мимо пробежала Берта.
— Что там такое. Берта?
— Малышка совсем плоха, — сказала она.
Мне снилось, что сбылось самое страшное — Наташа умерла, — а потом якобы мои страхи оказались ложными: будто мне все только приснилось, и мне стало легко. Потом я проснулся. Я проснулся — а она умерла; и это было так нереально, словно мне снился кошмарный сон.
Утром, еще не узнав о самом худшем, я, в халате и в тапочках, поскользнулся на палубе. Было еще очень рано, палубы натирали; вода хлестала из насосов и широкими потоками стекала по накренившейся палубе. В дверях кают-компании стоял судовой врач, глядя на море, и докуривал сигарету. Он щурил уставшие глаза от дыма, и в том, как он держал сигарету, двумя пальцами, указательным и большим, читалось облегчение после колоссального напряжения.
Я не осмеливался задать ему вопрос. Не осмеливался смотреть на него. Он приветствовал меня кивком и устремил взгляд в море.
Я подождал.
— Как она?
Врач сначала затянулся.
— Умерла только что, бедная девочка.
И он стал глядеть на море.
— Нас втянет в муссон сегодня к вечеру. Видите тех двух проклятых акул — видите? Плывут за нами уже трое суток, чертовы твари. Нас втягивает в муссон. Но капитан хочет идти дальше и заправиться углем в Адене. Первый помощник считает, что мы должны остановиться в Бомбее, пока уголь совсем не кончился. Я еще никогда не ходил на таком судне! Да, умерла, бедная девочка.
Я не понимал ни слова. Слова были лишены значения. Спустился в лазарет взглянуть на нее. Наташа лежала прямая, закрытые глаза делали выражение ее бровей еще более наивным, нежным и трогательным. Она была похожа на восковую куклу.
Вся наша жизнь, быть может, всего лишь сон в другом сне, а то, что мы зовем реальностью, — это сон о том, что мы бодрствуем, что пробудились; вскоре мы снова проснемся и обнаружим — то, что мы считали «реальностью», лишено существования. Наташина смерть… Да сплю ли я? Морской бриз ощутимо ерошит волосы: но все равно, мне может сниться и это. А если не снится, то какая разница? Ибо даже если она и умерла, она может проснуться — не спать и бодрствовать — и улыбнуться, улыбнуться давнишней обузе.
Я вернулся в каюту, побрился, принял ванну и оделся, все как обычно. И все время мне казалось, что это неожиданная, бессмысленная катастрофа было всего лишь дурной сон, что чуть спустя я проснусь по-настоящему и улыбнусь тому, что мне приснилась эта невыносимая, ужасающая утрата.
И все же она была мертва. Звучало странно, но она была мертва. Настало время, когда это уже не казалось странным. Это была правда, ей нужно было взглянуть в глаза; и при этом взгляде правда оказывалась жестокой. Наташа вышла невредимой из двух революций, пяти осад, двух лет, полных голода и болезней. Она умерла в тропических водах, среди изобилия, удобств и спокойствия, непонятно по какой причине. Родители стремились оттянуть похороны; но капитан повел себя так, словно не мог потерпеть ни малейшего вмешательства в обычную корабельную жизнь. В восемь утра несколько человек, неся доску, деловито спустились в лазарет. Тело Наташи, зашитое в парусину, с прицепленным грузом, положили на доску и накрыли старым российским трехцветным флагом — тремя наспех сшитыми разноцветными лентами. Те же мужчины подняли свою ношу и перенесли ее на полубак в сопровождении судовых офицеров, надевших парадную форму, похожую на разукрашенные смокинги. Там они остановились и уложили доску на два табурета. Впереди встал англиканский капеллан в стихаре (за отсутствием православного священника). Сзади стоял неразговорчивый капитан, его команда сгрудилась у него за спиной: молчаливый первый помощник, длинноногий, потрепанный, в своей изъеденной молью парадной форме, второй помощник в черных бакенбардах, высокий главный инженер, смуглый судовой врач, толстый коротышка-казначей и прочие. Капитан выглядел неприятно, словно с удовольствием воспользовался случаем блеснуть парадной формой. Его зловеще-триумфальный вид точно говорил: «Хоть я тут ниже всех ростом, зато по званию я выше даже самых высоких». В этом крылась неуловимая разница, о которой он догадывался. Он напоминал мне коротышку Ллойд-Джорджа в окружении своих высоких министров. Оскорблявший его взор коммодор, напротив, стоял на верхней палубе и беспечно глядел вниз, одетый в голубую куртку, сунув руки в карманы белых фланелевых брюк, — безмятежно взирал на то, что «у нас там происходит». Капитан Негодяев словно стал ниже ростом, согнувшись под неумолимыми лучами солнца, бьющими ему в едва прикрытые растительностью виски и затылок.
Он сильно волновался, его чахлые длинноватые желтые усики непрерывно подергивались. Рядом с ним стояла его жена, смятая, готовая упасть в обморок, как будто на этот раз сама Судьба наступила на нее. Мой разум упорно отказывался верить в то, что происходило, в категоричность смерти, пока я не передразнил свой разум, отказавшись поверить в то, что она мертва, хотя стоял над ее телом. Такое может происходить в книгах или в кошмарах или в жизни других, но не в моей. Утро было безоблачное, стояла невероятная влажная духота, палубы были полны громких, равнодушных людей, и я подумал, что страданиям и смерти место среди зимних ветров и холодов, осенних промозглости и дремоты, но не летом — только не летом! Какие-то любопытные глазели, свешиваясь с верхней палубы. Я заметил русского генерала. Его собственная трагедия сошла на нет, и он стоял, расставив ноги, нечесаный, выделяющийся из толпы неухоженностью и неотесанностью, движимый, похоже, одним лишь любопытством.
Капеллан (похожий на лошадь) отправлял службу, поручая тело глубинам, и тут Гарри громко прошептал на ухо матери:
— Флаг совсем завернулся.
— Ш-ш! Стой молча! — одернула его тетя Молли.
— Почему это?
— Потому что мы все сожалеем.
— Нет уж! Я рад.
— Гарри! — И он отвесила ему подзатыльник.
— Она меня пинала, — горестно завопил он.
— Гарри!
— Но она меня пинала!
Шлеп! — последовала новая затрещина — и хорошая. (Почему всегда по голове?)
— Оу-у! A-а! Воу-у! — взвыл Гарри, издавая вопль, несоразмеримый с полученной затрещиной, — чтобы произвести впечатление на зрителей и вызвать их симпатию. Капитан Негодяев поморщился и повернулся к нему. Как будто висевших в воздухе страданий было недостаточно, чтобы принять еще и этот пронзительный неподобающий вопль маленького существа!
— Гарри, прекрати! Немедленно прекрати!
— Дети не должны такое видеть! — закричала Берта. — Они не понимают! Они не должны понимать!
Мы вернулись мыслями к родителям, стоящих под тропическим солнцем и не отрывающих глаз от их маленькой дочери, готовой вот-вот навеки скрыться с их глаз. Море было покрыто крупной рябью. Над ним с криками носились чайки. И я подумал, что если сейчас они попросят последний раз взглянуть на нее, капитан этого не позволит. Их ребенок перестал быть их ребенком, вдруг к нему стало не приступить. И они сожалели о том, что уже не могут сказать ей того, что нужно было сказать, и не осознавали всей правды — что она уже забыла даже то, что они ей говорили. Берта со слезами на глазах пробормотала:
— Pauvre petite.
Я не могу читать в сердцах моряков; но дядя Том, серьезный, строгий, величественный, с непокрытой головой и с полным осознанием своего долга стоял рядом с доской, и в его осанке сквозило это любопытное высокомерное подобострастие, присущее старым потомственным английским слугам. Вот с таким видом оксфордские бойскауты прислуживают в главном зале в воскресный вечер у «высокого стола». С доски сняли кусок рельса. Корабль почти остановился; почти неощутимо покачивался он на поверхности глубокого-преглубокого, плещущего волнами моря. Доска повисла на канатах, как качели: по бокам стояли два моряка — дядя Том и другой, помоложе. Внизу брезжил Индийский океан, потягиваясь всеми пенными лапами, точно огромный кот. Гладкий зеленоглазый котик-мурлыка — но коварный, ненадежный.
Они взялись за канаты — дядя Том и молодой. Капитан Негодяев и Берта удерживали мать. Та была бледна, бела, как тесто, была ужасна. Быстро спустили флаг. Раскачали доску — сначала к нам, а потом в море. Наташино тело соскользнуло вниз и, описав дугу, с плеском погрузилось в воду. Пара секунд — и оно исчезло в пенных волнах.
Мать лишилась чувств. Ее унесли вниз, потрясенное, смятое ударом существо, которому судьба нанесла этот удар вдобавок к уже имевшемуся грузу скорбей. Рельс унесли. Толпа стала медленно рассеиваться.
В небе, в застывшем воздухе, в солнечной воде царил траур, а лайнер, неумолимо и безжалостно, как сама жизнь, шел вперед. И, стоя у перил, мы невольно возвращались взглядами к тому одинокому далекому месту, где вздыхали зеленые волны, и фантазия опускалась глубоко-глубоко, две или три мили в глубину, где у самого дна она будет покачиваться, колыхаться и дрожать в мощном течении. Маленькая русская девочка в необъятных глубинах Индийского океана.
Мы кинули последний взгляд на море и отправились на завтрак. Но столик, за которым, бывало, сидела зеленоглазая девочка, был пуст, и мы старались не смотреть в ту сторону. Говорили о перебоях одного из котлов, о задержке нашего путешествия, о том, что нам, возможно, придется дрейфовать в направлении Бомбея, чтобы там пополнить запасы угля; но мне было все равно, будем ли мы идти или дрейфовать, и обречены ли мы дрейфовать весь остаток нашей жизни и никогда не достичь Англии, или перестанем дрейфовать, или задрейфуем прямо в ад, — все это я, впав в острое уныние, встретил бы с полным равнодушием. После завтрака тетя Молли вышла на палубу с бутылочкой и ложечкой и дала Норе рыбьего жиру. Кажется, похороны немного подействовали ей на нервы, и она нетерпеливо сказала:
— Давай, Нора, не копайся целый час.
— Подожди! я хочу его распробовать, — попросила Нора, облизывая ложку.
— Теперь иди и приведи Гарри.
— Гарри, твое вимо! — донесся Норин голос оттуда, куда она побежала по скользкой палубе.
Гарри нахмурился.
— Противная мама, — произнес он.
Нора закричала, хлопая в ладоши:
— Наташа пошла к рыбам!
А после обеда, устав играть в одиночку, она спросила:
— А где Наташа? Она еще в море, играет с рыбками?
Акулы исчезли.
Я лежал в шезлонге и смотрел на неподвижные облака, своим видом похожие на огромные горы. Голубое небо было словно море, а гороподобные облака — точно скалы, что вырисовываются в его глубинах. А вон плывет небольшое облачко, похожее на ухмыляющуюся обезьянку — обитателя глубин! — оно вытянуло мускулистые руки и стало похоже на нагую спину атлета, а затем превратилось — ну да, в двух ухмыляющихся обезьян, прильнувших друг к другу головами, причем одна указывала рукой на солнце. Потом они утратили форму, стали непонятной полупрозрачной массой — и вот она уже отращивает плавники, превращается в рыбу, огромную белую акулу, плывущую медленно и осторожно, вперясь взором в меня. Я смотрел на нее зачарованный, как кролик; как пешеход, приросший ногами к асфальту в смертельной близости от автомобиля (потому что для него беда уже в прошлом, ее уже не поправишь: страх сделал свое дело). И я воображал себе, что когда перед тобой предстает зверь такой ужасающий, в последние роковые секунды тобой овладевает такой же транс, заставляя почувствовать себя оторванным от собственной судьбы; ты видишь себя как бы со стороны, моментально припоминаешь всю свою жизнь, понимаешь, что она кончилась, книга закрыта, твоя душа возвращается туда, откуда явилась. Я сгинул — но вселенная моя… И тогда, глядя на небо, я вообразил, что из голубой сини опускается, покачиваясь, маленькое тельце Наташи, зашитое в парусину. Вот оно достигло верхушек скал; опустилось в долину. Сегодня море спокойно — темно-зеленое зеркало, а небесное зеркало — темно-синее. Но когда море начинает волноваться, какие провалы образуются в волнах, когда они раздвигаются — а ведь это всего лишь вода, — образуется провал шириною в мили. Какая же там глубина! Какое путешествие! Сейчас она, может, лежит в долине, меж высоких холмов, выше их — море, а по его поверхности плывем мы…
Дети все играли. Тетя Молли вязала джемпер. Тетю Терезу терзала головная боль. Я грелся на солнышке и грезил.
Мы были плотом, дрейфующим по морю вечности. Когда-то давно, очень давно, увидев его воочию, мы решили попытать на нем счастья. Мы увидели плот и ринулись к нему. Но, даже будучи в безопасности, на плоту, мы — в море вечности. Уже троих смыло волной, но мы, оставшиеся, продолжаем цепляться за плот. Толпа озадаченных духов, пойманных в ловушку на этой планете. Мы просто сталкиваемся друг с другом поверхностями, а что-то там, в неисследованных глубинах, остается без внимания, выбрасывается из головы. Дядя Эммануил в лучах заката закурил сигару; в его глазах зажегся розовый отблеск. Я задумался, есть ли у него душа. Мелькнул капитан Негодяев, глядевший не отрываясь в море, жадно докуривающий свою сигарету. Я взглянул на небо: что отнимем мы у Тебя за то, что Ты отнял у нас наши жизни? Ответа не было.
— Бедняга, — произнесла тетя Тереза. — Мы должны для него что-нибудь сделать.
И, глядя на это создание с покрасневшими от слез глазами, которыми оно взирало на мир, полный красного отчаяния, дядя Эммануил вынул сигару изо рта и вздохнул.
— Да, он добрый малый, le capitaine. Когда я вернусь в Брюссель, я буду рекомендовать Военному министерству представить его к Ordre de Léopold Ier[126]. Мне его искренне жаль.
Небо было прозрачным перламутром — как будто сквозь все тени и тучи, все страдание, смуту и сомнение, просвечивала улыбка Бога: Я все же знаю, что делаю. И, закручиваясь изгибами пространства, она говорила о том, что там, за пределами времени, за пределами утраты, говорила о необходимости прощения.
Солнце село, и океан сразу же потемнел, небо насупилось: Бог исчез в своем укрывище. Прогуливаясь, я встретил капитана Негодяева. Он неподвижно и прямо сидел на корме, глядя на темный след за ней, словно просил его объяснить смысл смерти, у которой не было смысла. Днем, оглушенный солнцем и жарой, он как-то вынес все, расхаживая по палубе, уклоняясь от соболезнований, не в силах найти себе места. Сейчас, в сумерках, его горе, как стервятник, упало на него, и, съежившись на краешке скамьи, он рыдал. Я дотронулся до его плеча: его лицо дергалось, он закрыл его руками.
— Доверьтесь чувствам. Вспомните Тургенева: «Неужели их молитвы, их слезы бесплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна? О нет!
Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии «равнодушной» природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной…»[127]
— Цветы… — повторил он после задумчивой паузы и поглядел на темные норы в океане, бесстрашно уклонявшиеся от нашего твердого курса. — Невинные глаза… — Он хмыкнул. — Не понадобилась война. И революция не понадобилась.
Он поднялся и убрел прочь. Отправился к своей раненой жене, которая так с тех пор и не покидала каюты. Был ли он добр с ней, мы не знали. Я прошел мимо полуоткрытой двери в каюту тети Терезы. Тетины приготовления на ночь всегда были целым событием. Она принимала пирамидон от головы, аспирин от простуды, пилюли от побочных эффектов пирамидона на желудок и средство от побочных эффектов аспирина на сердце; помимо этого, она пользовалась лосьонами: лосьоном для зубов, лосьоном для десен, лосьоном для челюстей (против вывиха), подсолнечным маслом в качестве общего смягчающего средства, а также лосьоном для корней волос. Сейчас она в ночной рубашке сидела на койке в крайнем изнеможении и с помощью Берты втирала кокосовое масло себе в затылок. В последние несколько дней у нее неожиданно, с ужасающей скоростью начали выпадать волосы; на затылке образовалась плешь размером с блюдце.
— C’est terrible, — говорила она Берте, — скоро вообще ничего не останется.
Я вышел на палубу. Бдительное ночное небо парило надо мной. Звезды смотрели любезно, добродушно. Судовые огни с серьезным видом мигали в темноте.
Я неподвижно стоял, следя за темным фосфоресцирующим следом за кормой, то и дело поблескивающим при свете луны. Оставшись один, я прошептал:
— Ты слышишь меня?..
Но мне ответил лишь ветер, трепавший флаг в вышине. Ветер и ленивый плеск волн.
50
Когда мы подошли к Периму, я находился на дежурстве и должен был отрядить на берег партию солдат, матросов и морских пехотинцев для купания. Тетя Тереза, Сильвия, дядя Эммануил и Берта (совсем тощая в купальнике) тоже заняли место на нашем катере. На пляже были голые черные мужчины и женщины, и тетя Тереза с Бертой ловко притворялись, что их не замечают. Они не смотрели по сторонам; для них те были просто сгустившимся воздухом. Но красавица-негритянка поразила воображение дяди Эммануила. Мы вернулись на катер и уже почти поравнялись с пароходом, а он все стоял и, не отрываясь, смотрел в бинокль на берег, пока тетя Тереза не сочла необходимым оторвать его:
— Emmanuel! Eh alors!
— Ali, c’est curieux![128] — мягко сказал он, оглядываясь на нас, словно приглашая согласиться. — Деревьев совсем нет, ни одного деревца! Поразительная страна!
— Осторожно, ступеньки, милая, — заботливо произнес я, когда мы пристали к борту и карабкались по скользкому трапу на квартердек.
Я знаю, мне казалось тогда, что было нечто неописуемо жалкое в том, как мы стояли на якоре в убывающем солнечном свете этого жаркого дня, — бесшумное скольжение в тихую гавань, неподвижную, как судьба. Какие места были в мире. Какие города! Аден, кулисы мира. Сильвия оперлась на перила и смотрела, и я рядом — тоже. Она вдруг заплакала, тихо и горестно, сама не зная почему. А когда пароход, бесшумно скользя, вдруг встал в этом бесхитростном застывшем влажном воздухе и желтой воде, она взглянула на меня, словно ожидая, что я знаю, что она чувствует. Скотли тоже смотрел. Медленно покачал головой:
— Вот же дыра!
Мы поужинали на борту, а после ужина пересекли на катере теплую, кишащую акулами полоску воды и сошли на унылый берег. Ни деревца, ни полоски травы. Солнце погрузилось в море, но прожаренная пустынная земля еще дышала жаром, и когда, ведя на полной скорости машину сквозь темную ночь, я высунул руку в окно, мне показалось, что я сунул ее в печь. Сзади дышала на нас Сахара. Ночь как будто удушила луну. Русский генерал, которому не разрешили сойти на берег (не то он, чего доброго, взбунтует лояльных арабов), попросил меня купить ему пачку табаку. Покончив с этим, мы посетили знаменитые резервуары, по преданию построенные царем Соломоном, — миновали множество лестничных маршей и вступили под просторные своды, стократно отражающие наши шаги и даже шепот. Ночь была черна, Аден был темным рвом. Машина набирала скорость. Мы возвратились на берег — и на пароход.
В середине Красного моря Сильвия мечтала о том, как было бы замечательно пуститься вместе в прекрасное путешествие.
— Дорогая, даже в мечтах нужно соблюдать некоторую меру реальности. Какой толк от мечтаний о наших будущих путешествиях? Мы сейчас как раз совершаем одно и… и не очень-то похоже на то, что нам оно ужасно нравится.
— Ты просто пользуешься мной для собственного удобства.
— Неудобства.
— Поцелуй меня; ты совсем меня не целуешь.
— Сегодня поцелуй, завтра поцелуй. Как это тебя не утомляет?
— Ты сегодня встал не с той ноги, дорогой.
— Вполне возможно. Вполне возможно. У меня сегодня утром капитан Негодяев занял 7 фунтов. — Я вытащил записную книжку, чтобы проверить, сколько осталось, и неожиданно из нее выпала карточка:
— Что это, дорогой, дай посмотреть.
— А, это был прекрасный вечер.
— Да, был. Лучше всех тех, что были у нас с тех пор.
— Да.
— Дорогой, что с нами будет, когда мы вернемся в Европу? Ты когда-нибудь об этом думал?
Я вздохнул.
— Бывают в жизни такие стечения обстоятельств, когда ты не знаешь и не хочешь знать, что будет потом.
— Но я хочу знать!
— Вот именно. Такой же болезненный, нездоровый аппетит я с сожалением подмечал у читателей романов. Откуда мне знать? Жизнь не кончается ничем иным, кроме смерти, — поэтому, когда этот пароход достигнет берегов Англии, завершится некий групповой этап в нашем индивидуальном существовании.
— Ты говоришь менторским тоном, — пожаловалась она.
— Мне нравится легкая степень неопределенности касательно нашего будущего.
— Гюстав, — произнесла она и замолчала.
— Экстрадиция Гюстава может оказаться дорогостоящим делом.
— Нет. Как только я попаду в Лондон, я встречусь с моим адвокатом, чтобы немедленно начать развод.
— На каком основании?
Она подумала.
— Дезертирство.
— О!
— Восстановление супружеских прав, — добавила она со знанием дела.
— Зачем же разводиться? Он хороший человек.
— Но я хочу выйти за тебя.
— Он может умереть от гидрофобии. Подожди немного.
— Когда?
— Может, скоро. Все в руках Господа — и тети Терезы.
Она задумалась, помолчала.
— Если ты так и будешь любить меня, а я — тебя, то чего нам еще хотеть?
— Ну да, верно, и мы будем любить, любить и любить!
Она заворковала по-голубиному.
Из Порт-Саида я, Сильвия и дядя Эммануил отправились в Каир. На перроне я увидел «Первое и последнее» Уэллса и купил эту книгу.
— Купи мне «Дэйли мэйл», дорогой, — попросила Сильвия.
Жаркое, изматывающее путешествие. Вагон-ресторан, как и везде, только официанты — арабы в красных фесках. Метрдотель, который, кажется, считал, что с обедом нужно побыстрее расправиться, чтобы накрыть стол для другого обеда, а после того — для третьего, призвал нас побыстрее занять наши места, и официанты, понукаемые им, прогнали нас через весь обед. Человек, сидевший рядом со мной, подмигнул.
— Не вытурят же они вас отсюда! — заметил он, и на нас дохнуло берегами Темзы, откуда он явился. Но мы смотрели в окно на проносящиеся мимо египетские поля: мелькнул араб в белых одеждах, ведущий ослика, смуглая женщина. Вперед, вперед, вперед.
Наконец — Каир. Мы сели в викторию, лицом к лицу, касаясь коленями, и тронулись. Почему она купила себе эту безобразную шляпу, похожую на шлем, закрывающую всю верхнюю часть лица — прелестную в высшую степени, — и открывающую нижнюю часть — не такую прелестную? И, сидя в покачивающемся экипаже, который выносил нас из пределов вокзала в городское великолепие, я думал о том, что не следовало давать портье-арабу так много чаевых. Но ведь я не мог попросить сдачи, когда в экипаже ждали меня Сильвия и дядя Эммануил. То-то и оно, и, едучи в экипаже, я должен был взять верх. Но все же — почему эта шляпка?
— Дорогая, почему именно эта шляпка?
— Восемьдесят семь рупий, — ответила она. — Кроме того, она предохраняет от солнечного удара.
Повисла пауза. Пролетел тихий ангел.
— Бедная Наташа.
— Да.
— Почему я не взял с собой форму? Мы должны были нанести визит лорду Алленби, — заметил дядя Эммануил.
Выгоревшие от солнца дома, забранные ставнями окна, элегантные виктории, кучеры в красных фесках. Но вдобавок к этому — недоверие, граничащее с враждебностью. И когда мы отправились на верблюдах и дромадерах осматривать сфинкса и пирамиды, на лице погонщика моего верблюда была мрачная ухмылка, предвестница восстания мусульманского мира, и дядя Эммануил, балансирующий на горбу своего дромадера, выглядел таким маленьким и испуганным, а закутанные в белое арабы без устали вопили: «Бакшиш! Бакшиш!» или то и дело предлагали, нам египетские монеты, якобы отчеканенные за две тысячи лет до Рождества Христова (а на самом деле произведенные одним шеффилдским предприятием для ничего не подозревающих туристов).
Однако отказ от предложения погонщика дать ему бакшиш или купить его монеты всегда оканчивался жесточайшим ударом, который погонщик наносил палкой дромадеру и от которого животное принималось скакать самым неприятным манером, так что дядя Эммануил восклицал протестующе с верхушки горба:
— Cessez! Ah! Voyons donc![129]
— Бакшиш! — орал араб.
— Нет!
Следовал еще один удар, вследствие чего сохранять равновесие на горбу было тяжеловато, ибо горб качался и метался, словно мачта маленькой шхуны в бурном море. По прибытии к подножию пирамид двое арабов вскарабкались на верхушку одной пирамиды меньше чем за три минуты и потом потребовали бакшиш. Получив бакшиш, они предложили повторить весь трюк на том условии, что им снова будет дан бакшиш.
Сфинкс — он-то что думал обо всем этом? Ибо, в противоположность принятому мнению, сфинкс — мужского пола. Он прав: жизнь действительно ужасна. Он-то знает, что разговоры, писание, даже в самых лучших своих проявлениях, всего лишь пустой треп. Выдвинуть заявление и оградить его тысячью определений (когда было бы лучше вообще его не выдвигать) есть треп. Заявлять значит игнорировать. Придерживаться точки зрения значит придерживаться ложной точки зрения. Не придерживаться точки зрения значит отрицать существование. Утверждать значит опровергать. Прекратить утверждать значит опровергать утверждения других — и это санкция на ложь. Знать, ведать все значит молчать; и вправду, что есть в мире такого для таких, как он? Велите ли вы ему объяснить, что есть, а чего нет? что мы располагаем волей и не располагаем ею? что меняемся и не меняемся? Бывают мгновения, когда на тебя находит неуверенность во всех, даже в существенных, фундаментальных вещах; когда продвигаешься ощупью во тьме, ожидая возвращения света; когда все преходяще, зыбко, неопределенно, случайно, когда не стоит изливать душу; когда каждая фраза кажется произвольной, каждая страница — цепочкой предложений, начинающихся со слова «возможно». Ты словно бредешь по пустому миру, посреди зияния, по ничто. Молчите! Если мир нереален, то какая норма, какая бессмертная реальность этим управляет? Если нам суждено навеки умереть, то какая живая правда этому законом?
Прибыв туда, откуда мы начинали нашу поездку, погонщики-арабы потребовали еще бакшиша. Мы отказались — и они прокляли наших детей и детей наших детей до седьмого колена.
На следующий день мы отправились на автомобиле в прекрасный каирский пригород Гелиополь — Монте-Карло Ближнего Востока. Какая роскошь и в большинстве своем какая тщета! Робкий меланхоличный летний день близился к концу, и было другое ощущение, что… еще немного, и все подойдет концу. Вечером мы сидели в парке, вместе с остальными, образовав кружок. Цветочные клумбы такие симметричные, разбитые так аккуратно. Мы смотрим на клумбы, мы смотрим на наши трости и зонтики. Как скучно и бесчувственно! Кроме всего прочего, еще и комары зверски жалят прямо сквозь носки. Я думаю: так же, как прошедшие дни превратились в пыль под моей стопой, так и грядущие дни тоже превратятся — дай только время; и бессмысленное настоящее, колеблющееся, бледное, рухнет в бездну — и его не станет. Я жалел себя и Сильвию и арабов, которых мы подчинили — один Бог знает зачем — чтобы осуществлять многолетний отеческий контроль, жалел даже безмозглое, веселое военное руководство, делающее из себя ослов. Их военный оркестр играл нелепую музыку, разносящуюся далеко в жарком, душном, меланхоличном воздухе. Мы сидели и пили, борясь со всепроникающей жарой. А жизнь проходила, и этого не замечалось.
Ночью, когда мы шли по погрузившимся в спячку каирским кварталам, с балконов нас окликали шлюхи, зазывая внутрь, и дядя Эммануил махал им. Сильвия в постели, дядя зовет взглянуть на канкан, danse du ventre[130] большой негр и все остальное. Возможно, я слишком пуританин, но одного вида голой арабки, пляшущей канкан, было для меня достаточно.
— Поедемте домой.
— Ah, c’est la vie!
И по дороге домой, сквозь душную ночь, возникало такое чувство, что… еще немного, и нас свалится нечто более мрачное, более реальное.
Вернувшись из Каира, мы увидели русского генерала, которого в очередной раз не пустили на берег, и он устало расхаживал по палубе в своих изъеденных потом парусиновых туфлях, словно кот по пустой крыше. Он решил, что поедет в Гибралтар и оттуда, через Испанию, — в Италию. Нам пришла телеграмма от Гюстава, который подтверждал, что дядя Эммануил назначается членом диксмюдского муниципального комитета по делам кинематографической цензуры с окладом в 300 франков per mensem[131].
В пятницу вечером мы отплыли из Порт-Саида — этих ворот в Европу — и вошли в изумительные синие пределы Средиземного моря. Тут, в тихих синих водах, восстал со своего ложа Скотли, и они с Бертой часами простаивали у перил. Но, кажется, ничего из этого не вышло. В Гибралтаре к нам подошел, разрезая волны, белый катер под британским морским флагом с двумя матросами в белых пилотках на корме и тремя офицерами в морской форме и фуражках. Они спросили генерала Похитонова и оставили приказ, что ему запрещено сходить на берег.
С этого времени генерал никак не мог решить, отправляться ли ему на Сицилию, во Францию, Чехословакию, Германию или в Англию. За Гибралтаром — на другой стороне дышала жаркая Африка — средиземноморская синь осталась позади, и тропическая зелень Индийского океана, в котором лежала Наташа, давно осталась вне пределов видимости и слышимости. Не успели мы «завернуть за угол» и войти в Бискайский залив, как почувствовали всю разницу. Неожиданно похолодало. Мы расхаживали по палубе в пальто. Сеял мелкий дождь. Потом Перси Скотли, как будто ни в чем не бывало, скрылся в свою каюту.
— Сильвия хочет устроить сегодня вечером бал-маскарад, — сообщила тетя Тереза. — Но капитан этого не хочет — ведь сегодня воскресенье.
— Это не причина.
— Конечно, это слишком грубо.
— И это не причина.
Неужто они забыли, так быстро забыли тебя, мой маленький дружок?
— Капеллан тоже против бала-маскарада в воскресенье.
— Если только есть разумный Бог, на небесах, — начал я, уже чувствуя, как она заранее съеживается, ожидая богохульств, — если только есть разумный Бог на небесах, то Ему ровным счетом наплевать, будете вы танцевать в воскресенье или не будете.
— Это верно, — согласилась она, и внезапно на лице ее возникло циничное выражение. — А если Он — неразумный? — Ее лицо скривилось, ее очаровательный напудренный нос проказливо сморщился; ей словно стало страшно от того, что вот она начнет богохульствовать, от гордости своим врожденным цинизмом, будто говоря: «И я так могу не хуже вашего, стоит только захотеть». Но в следующий миг страх перед богохульством перевесил другой импульс. — Мы не должны так говорить, — сказала она и прибавила, после паузы: — Особенно сейчас, когда мы в море.
Инстинктивно мы взглянули на сгущающиеся облака. Солнце село; волны почернели. Сумерки в море! Какая грусть. Я вспомнил, что такие вещи сваливаются на тебя, как гром с ясного неба. Приходишь домой и находишь своего дядю в петле. Или просыпаешься и узнаешь, что твой ребенок погиб в море.
— Мы должны быть на службе вместо того, чтобы так говорить.
Собравшись в кают-компании, они поклонялись и благодарили своего Господа. Вечерняя служба подходила к концу, и сквозь закрытые двери доносились звуки гимна, смутные и печальные:
Сумерки. Море ярилось не ослабевая. Что самое невыносимое — то, что оно, по-видимому, будет яриться так столько, сколько сочтет нужным. Оно не уменьшало своей ярости ни со вторым, ни с третьим, ни с десятым валом. Волны зарождались не на берегу, а где-то в середине залива, набирали силу, пока не вырастали в водяные горы и не разбивались о нас, оставляя за собой глубокие зияющие провалы, грозящие поглотить корабль. Ярость сорвавшейся с цепи природы ужасна, ибо бушует с бессмысленной жестокостью, даже когда нас нет рядом, — так бушевала она, еще когда человек не вышел из первобытного ила, чтобы попытаться набросить на нее узду. Волны бушевали так, еще когда земля была один сплошной океан. Зачем этот гнев? Неодушевленное перенимает настроение одушевленного существа; океан крадется к тебе, как тигр. Чего ему нужно было от нас?
— А, он terrible, этот океан! — проворчал дядя Эммануил, когда мы, в пальто, стояли после ужина, вцепившись в перила и глядя на надвигающиеся валы. Волны, словно яростные, белогривые кони, приносясь издалека, неустанно разбивались о нас и проносились мимо, и развевающиеся их гривы, срывающиеся, надутые яростью, вызывали холодок в сердце.
Я сошел вниз. Тетя Молли тошнит, Сильвию тошнит, Берту тошнит, Гарри тошнит, Нору тошнит. Да и я сам, надо вспомнить, не морской офицер. Темная бурная масса за ночь не успокоится; брызги сыпались в стекло, когда я сидел на подпрыгивающем стуле у подпрыгивающего стола и записывал в дневник:
Ее юная цветущая прелестность, быстрая грация, ее весенняя яркость — все это не надолго. Однако не важно. Ее истинная сущность заключалась не в этом, а в ее сияющей звезде, вечном свете, ныне погрузившемся в иные миры.
Мои мысли переходили с одной темы на другую. В ближайшие годы она стала бы изысканной молодой девушкой. Ответом, возможно, на мою жажду бытия. Быть может… я видел на протяжении обманутых лет ее смутное предвестие — мою единственную настоящую любовь. Мечты! Сама жизнь умерла вместе с ней, и красота, и все обетования всех существ, которым суждено было родиться.
Море бушевало, не заботясь ни о чем. Я писал — и задремал. Мне снилось, что я на вокзале Ливерпуль-стрит, ступил на движущиеся ступени и еду наверх — к выходу.
Трансцедентальные ступени; неизменный дух движения и изменения: если мы ступим на эти ступени, нас вынесет к новым чудесам бесконечным. И тут я увидел Наташу, сидящую на ступеньках и крепко вцепившуюся в них, изумление и наслаждение было написано в ее сияющих глазах. А чуть ниже сидел Анатоль, в бельгийской форме, в сапогах, измазанных грязью фламандских полей, счастливый, обходительный, машет бельгийским флагом и кричит: «Vive la Belgique!.» А немного позади, на небольшом расстоянии, — дядя Люси, неразговорчивый и молчаливый, в чулках и чепце. Все спешат наверх… наверх… наверх, на небеса. Мимо, мимо уличного уровня, мимо «выхода». Ибо выхода нет, как нет и входа: ибо все есть жизнь, и нет ничего, из чего можно выйти.
— Пора, сэр!
Я открыл глаза. Пришел стюард, чтобы погасить свет.
— Конечно. Конечно.
Я протер глаза. Снаружи доносилась неумолкаемая песнь волн и неровный стук шатуна — словно сокрушающееся сердце. Я думал: они тут все еще толкаются в коридорах и шаркают и загораживают дорогу, а некоторые пытаются взобраться по лестницам, пихаются, падают — неверующие тупицы! — когда все, что им нужно сделать, — это сесть и не двигаться. Убежать от этой бессмысленной суеты, получить неизменное место в вечной новизне мира!
Поскольку двери кают-компании, ведущие на палубу, были в это время всегда заперты, я удивился, увидев их открытыми. Но я не был изумлен, увидев скорчившуюся в шезлонге тетю. Для той, которая утащила своего мужа-офицера с войны, которая заставила свою дочь порвать с возлюбленным и против воли выйти замуж, которая в свадебную ночь послала жениха домой, в его одинокую постель, и уплыла, захватив собой его юную жену. — для женщины, совершившей все это и не нарушившей ничьей доброй воли, нарушить судовой порядок было больше чем в порядке вещей. Я смотрел, как она скорчилась там, вся сморщившись, ловя ртом воздух. Но я довольно-таки ощутимо испугался, как бы ее не стошнило, и этот видок разбудил мои собственные нежные внутренности: так что я не стал тратить своих сочувствий.
Она мрачно взглянула на меня.
— Где Берта? Я тут вся больная, в обморочном состоянии, одна! О Господи! Где она?
— Она у Перси. Он нездоров. Мы в море.
— А! Это просто ни в какие рамки! Он — мужчина! Я женщина, бедный инвалид! И за мной никто не ухаживает!
Сделав извиняющийся жест, я передразнил:
— Que voulez-vous?
Океан еще ворочал сердитые валы. Насколько хватало взгляда, простиралась черная ночь. Я расхаживал туда-сюда, словно капитан по мостику, на вахте — охраняя что? Мне пришли в голову строки из Гёте:
Не хочу опечалить вас своим пессимизмом, но все же вполне вероятно то — и весьма вероятно, учитывая ничтожное дядино жалование в комитете по делам цензуры — что гонорар за эту книгу полностью уйдет на помощь тете Терезе и ее свите. Печальная перспектива для интеллектуала! Перед отъездом из Харбина тем солнечным днем мой бумажник был набит крупными банкнотами; после того, как мои родственники обобрали меня и выжали до капли, я опять беден, как церковная мышь. Мной овладевает безумное желание, как только пароход бросит якорь в Саутгемптоне, сбежать по сходням, чтобы только пятки сверкнули.
Судите сами. Вчера капитан Негодяев снова занял у меня денег. Как обычно, мы беседовали о религии и прочем; слушал он приветливо, только под конец попросил у меня одолжить ему 7 фунтов. Разумеется, он заверил меня, что выплатит мне все до пенни. Искренность его намерений перед лицом его полной неспособности их выполнить устрашает и заставляет верить. Но русские никогда не платят своих долгов; они не считают это товарищескими отношениями. На счету тети Молли 14 фунтов 12 шиллингов. Дядя Эммануил этим утром попросил меня 2 фунта. Долг капитана Негодяева — 19 фунтов. Берты — 4 фунта. Сильвии — 30 фунтов. Итого — 69 фунтов 12 шиллингов.
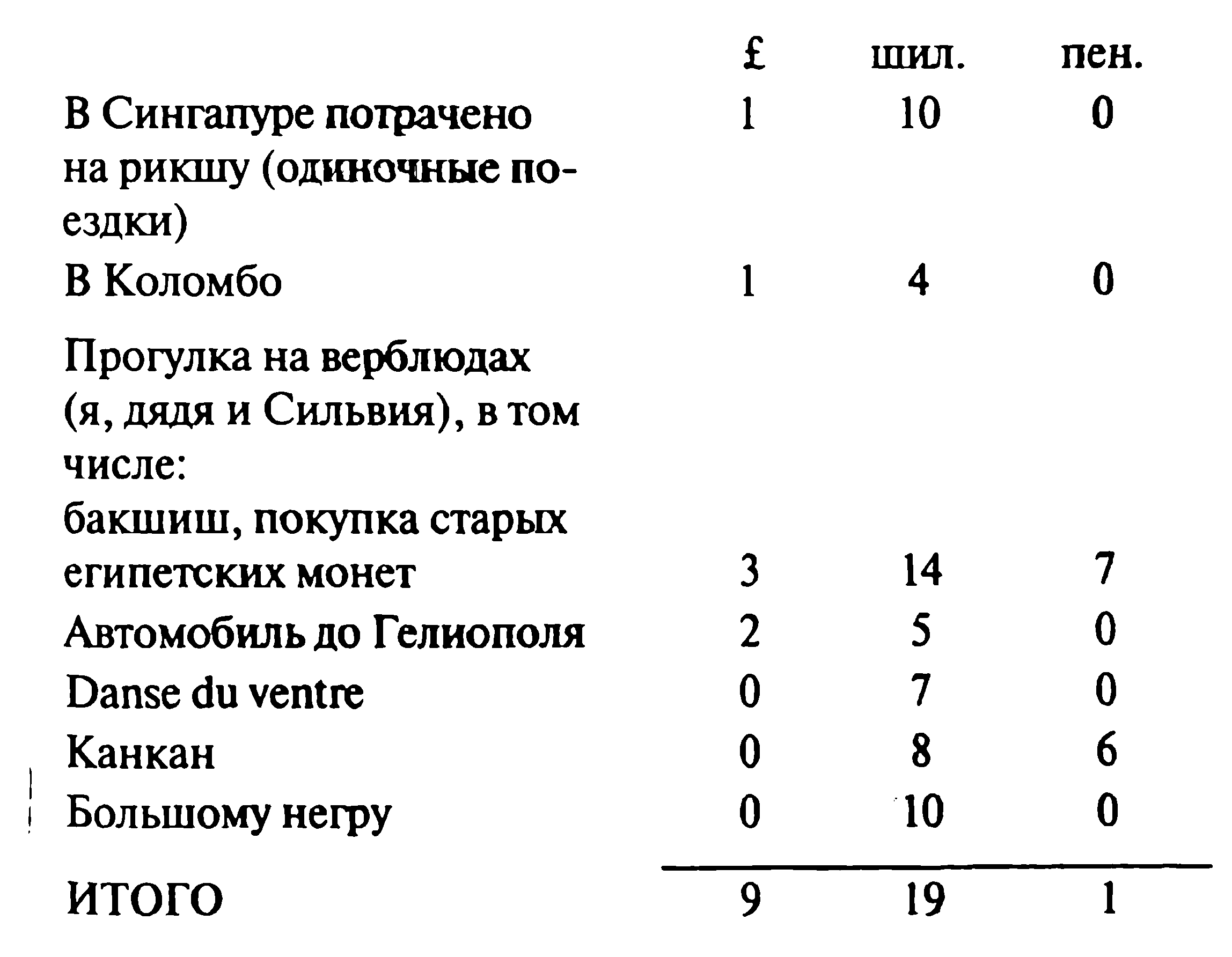
Общая сумма: семьдесят девять фунтов одиннадцать шиллингов один пенс.
— Черт! Черт подери!
— В чем дело, дорогой?
— Да не в тебе.
— Александр… пожалуйста, одолжи мне 15 фунтов. Ты не возражаешь?
— Я не возражаю. Но где мне их взять? Честно, глядя правде в глаза, — где? Разве пойти и занять их самому.
— Да, займи немного.
Дедушка заворочался в могиле.
Пока только тетя Тереза не взяла у меня в долг. Но я знал, что она почти исчерпала аванс из банка Гюстава.
— Что нам делать, — спросила она, — когда у нас кончатся деньги?
— Ну, есть еще Международный Красный Крест.
Она поразмыслила.
— Думаю, вряд ли… — сказала она.
Повисла пауза.
— Ты не можешь ничего сделать, Джордж?
— Могу.
— Что?
— Я начал роман. Уже написал титульную страницу.
Тетя бросила на меня взгляд, каким обычно смотрит английский школьник на своего одноклассника, которого тайно уважает за то, что тот «умный», но которого, тем не менее, считает «чудиком» и немного жалеет.
— Он будет хорошо продаваться? — спросила она.
Непомерные требования моей аристократической тети наложат свой отпечаток на тираж бестселлера. Вы еще увидите силу моего сочинения.
— Надеюсь, ты заработаешь, — сказала тетя.
Я молчал.
— Я знаю, Анатоль бы мне помог, если бы был жив. Он был такой щедрый.
Я молчал.
— Там много действия? Сейчас любят, когда в книге много действия и напряжения.
— О, очень много! — свирепо сказал я. — Перестрелки в каждой главе. Фейерверки! Герои гоняются друг за другом по кругу, потом еще и еще, пока не падают от изнеможения.
Тетя Тереза взглянула на меня так, словно не была уверена, шучу ли я или говорю серьезно, и если шучу, то не шучу ли над ней.
— Интересно, — сказала она, — о ком ты напишешь?
— Ну, ma tante, вы для меня — достаточно плодотворная тема.
— Гм. C’est curieux. Но ты же меня не знаешь. Ты не знаешь человеческой природы. Что ты можешь обо мне написать?
— Комедию.
— Под каким названием?
— Ну, быть может, «À tout venant je crache!»[134]
— Так ты хочешь посмеяться надо мной?
— Нет, никакого юмора. Юмор — это когда я смеюсь над вами и, смеясь над вами, смеюсь над собой (потому что смеюсь над вами), и смеюсь над собой, потому что смеюсь над собой, и так до десятой степени. Это смех непредвзятый, свободный, как птица. Неоценимое преимущество комедии над любым другим литературным методом изображения жизни в том, что здесь вы ненавязчиво поднимаетесь над любым взглядом, положением и ситуацией, таким образом изображенными. Мы смеемся — смеемся, потому что нас невозможно уничтожить, потому что ни в одном своем достижении не узнаем своей судьбы, потому что мы бессмертны, потому что нет ни этого мира, ни того, но есть бесконечные миры: и мы вечно переходим из одного в другой. В этом и заключается потеха, тщетность, непреодолимое величие всей жизни.
Я развеселился, восстановив утраченное равновесие одним-единственным coup[135]. И неожиданно мне вспомнилась смерть дяди Люси, и я понял, что она находилась в соответствии с общей смехотворностью вещей!
— Полагаю, — сказала тетя, — в Лондоне мы должны будем остановиться в отеле.
Я вздохнул.
— Жить в лондонском отеле все равно, что жить в такси с тикающим счетчиком — 2 шиллинга 6 пенсов — 3 шиллинга 3 пенса — 4 шиллинга 9 пенсов — и так за каждый вздох. Ужасно.
Пауза.
— Книга, — сказала тетя.
— Книга, — сказал дядя.
Море немного успокоилось, валы перекатывались равномернее и разумнее, словно стыдясь своих ночных пьяных бесчинств.
— Мне кажется, я так люблю музыку, что лучше брошу книгу и возьмусь за сонату, но мысль о крючках, восьмых и тридцать вторых нотах и многом другом обязывает меня держать мои музыкальные чувства при себе.
— Музыка — дело невыгодное, — холодно произнесла она.
— Или не исключено, что я могу стать психоаналитиком, архитектором, боксером или мебельным дизайнером.
— Нет-нет, — сказала она. — Книга. Книга.
— Книга, — сказал дядя.
Ну что же, писательство всегда можно чем-то компенсировать. Ибо если вы не можете добавить в рукопись огня, то вы можете предать огню саму рукопись. Вы уже написали один роман и работаете над другим. Ваш собственный издатель то и дело пишет вам: «Как идут дела? Что чувствуете?» И вы отвечаете тоном курицы, высиживающей редкое яичко: «Вроде бы ничего… Получается ничего вроде бы. Кажется, мы спасены». И он на цыпочках удаляется, испуганный тем, что может спугнуть вас с вашего драгоценного яйца. А потом появляется снова: «Как идут дела? Уже заканчиваете?» «Еще нет».
И он идет покупать бумагу, картон и прочие причиндалы в ожидании вашего произведения, которое находится «в процессе Подготовки».
Писательство можно компенсировать. Зашедшие в тупик рецензенты, которые предали проклятию мою прошлую книгу и которые предадут проклятию эту, — будьте вы прокляты заранее. Та книга была овощным macédoine[136]. Критики — большие и малые псы, гончие и пекинесы, подходили и обнюхивали это необычное овощное блюдо — и отходили, смущенно махая хвостами. В этой книге будет больше мяса. Не написать ли мне нравоучительный роман с моралью: что происходит, когда эгоистичная тетка во всем добивается своих злобных целей? Или же написать… Не важно. Поймите меня правильно — я не пишу роман: я только спрашиваю — сгодится ли такое для романа?
Внезапно на меня накатила энергия, переполнил страх, что я упущу еще одно мгновение. После всех этих праздных месяцев я вдруг осознал, что спешу. Как будто все эти впустую потраченные месяцы навалились на меня и придавили своим весом. Я жаждал увидеть книгу завершенной, отпечатанной, выполненной задачей, заключенной меж двух картонных листов переплета, одетой в кричащую желтую суперобложку и продаваемой за многие чистые. Этот старый ветхий корабль плыл так медленно. Он буквально засыпал на ходу. Я хотел делать дело, жить, работать, строить, кричать. Продвигать компании, дирижировать симфоническим оркестром, организовывать митинги под открытым небом, рисовать картины, читать проповеди, играть Гамлета, работать в угольной шахте, писать письма в редакцию. А потом пришла Сильвия и сообщила, что тетю опять мутит как не знаю что. Гюстав, счастливчик. Как же я завидовал ему, и какой глупостью казалось то, что в этот самый момент он, возможно, завидует мне.
Ба!
Мне смертельно надоели они все — аморальные старые дядюшки, ненасытные женщины, бельгийские никчемки, безденежные капитаны, безумные генералы, вонючие майоры, пирамидоновые тетушки! Надоел аспирин, tisane, одеколон. Запах пудры и Mon Boudoir. И когда ночью Сильвия пробирается ко мне в каюту и начинает разговоры о разводе, чтобы мы могли скрепить наш союз, передо мной встают панталоны и чулки, голова идет кругом от запаха Cœur de Jeanette, и, несмотря на то, что я знаю, что она красива, я говорю: «Что из того?» — и начинаю понимать несчастного дядю Люси.
А какая концовка? — можете вы спросить. Ибо у вас может быть болезненный вкус к ударной драматической концовке, которая, на ваш взгляд, пристала любой книге. «Чушь!» — говорю я вам. Концовка? Не знаю и не хочу знать. Концовка зависит от того, какой вы ее выберете. И я приглашаю читателя к сотрудничеству в духе доброй воли, чтобы сделать концовку этой книги счастливой для всех заинтересованных сторон — купите эту книгу. Если вы ее уже купили, купите снова и заставьте ее купить вашего брата и матушку. И тогда концовка для тети Терезы, тети Молли и семьи Негодяевых будет другой — совсем другой, — чем та, что случится, если вы этого не сделаете. Поэтому передайте друзьям, передайте всем вашим друзьям — так хочет моя тетя.
— К завтрашнему вечеру мы увидим огни на английском берегу.
Эта перспектива привела меня в восторг, и тетя — ведь не зря она родилась в Манчестере — тоже пришла в восторг. Она начала читать русский роман о женщине, у которой было шестеро мужей, все живые. Три мужа, ну четыре, — это число еще можно вытерпеть. Но шесть! Это было слишком.
— Я не могу это читать, — сказала она.
— Ma tante, вы относитесь к литературе так, будто делаете ей одолжение, прикасаясь к ней.
— Кстати о литературе, — встряла Сильвия, — ты читал во вчерашней «Дэйли мэйл» статью «Эгоистична ли женская любовь?»
Я кинул взгляд на горизонт.
— Земли не видно? — спросила она.
— Какие-такие испанские корабли? — вопросила тетя Тереза.
Мое знакомство с литературными цитатами стесняет моих родственников.
— Ах, ma tante, ваши выдающиеся качества лежат за пределами беллетристики!
В тот вечер мы дурачились, играли в карты и записывали адреса наших собратьев-пассажиров, всерьез полагая, что мы будем наведываться или хотя бы писать, — когда ранним утром на дымчатом горизонте нам явились берега Англии.
Приближающаяся Англия, словно бы внезапно, содействовала кристаллизации наших планов. Русский генерал решил поехать в Лондон. Он считал, что там должно быть заседание кабинета министров или дебаты в палате общин на предмет того, чем ему заниматься в изгнании.
— Почему бы вам не встретиться с Красиным и поехать обратно в Россию служить новому режиму? — Много чести Красину. Пусть он сам ко мне придет. Если придут они все, то я могу подумать о приглашении.
Генерал полагал, что британское правительство вместе с другими союзниками даст ему свободу передвижения в пределах своих стран и представит в его распоряжение свиту офицеров, по одному от каждой союзнической державы, сопровождать его в поездках по Европе; и он повторно посоветовал мне подать на весьма завидный пост его адъютанта.
— Война окончилась, — говорил он, — и лучшей должности вам не найти. Я буду относиться к вам со всем почтением.
Если же это не получится, то он подумывал зарабатывать на Британских островах предсказаниями, переодевшись Черным монахом из России, с длинными черными ногтями и ужасными тусклыми глазами.
— Мне эта мысль пришла только прошлой ночью. Моей штаб-квартирой будет Бонд-стрит. Ко мне прибегут все светские женщины. Они решат, что я — Распутин. Какого вы мнения?
— Небольшого.
— Я думаю о населении Англии то же, что и Карлайл.
— Это относится к населению любой страны. Если ваше недавнее высказывание следует считать характерным, то оно это докажет.
— Да в Англии столько идиотов, что я заживу там по-царски!
— И полицейские, конечно, не исключение: они достаточно глупы, чтобы вас арестовать.
— Гм, — сказал он и поскреб черными ногтями щетинистый подбородок.
Повисло молчание. Он, кажется, пал духом. Обычный оптимизм оставил его. На секунду он был удручен, оставшись без планов, без надежды.
— Прямо не знаю, что делать, — признался он, глядя на меня тусклыми, отчаянными глазами.
— У вас нет родственников?
— Жена есть где-то, сестра.
— Где?
— Бог их знает!
Отойдя от него, я увидел госпожу Негодяеву, — она стояла, облокотившись на перила. Я не видел ее с самого Коломбо.
— Видите те белые утесы? Это Англия, — сказал я с тайным чувством собственника.
— Да, — ответила она. — Но для нас мало разницы, Англия ли это или Бельгия или что-то еще. Мы сегодня сходим?
— Сегодня, очень поздно, мы бросим якорь, но на берег нам сойти не разрешат до утра, когда будет паспортный контроль.
Мы молчали. Потом она произнесла:
— Теперь остались только мы вдвоем — и, конечно, Маша. Бедная Маша! Ваша тетя сказала, что поможет нам. Она такая влиятельная и авторитетная, поэтому мы не беспокоимся. Нам двоим много не надо. Нам уже некого учить. — На ее глазах показались слезы.
Я смотрел мимо.
Англия, моя Англия!
Хоть мы ожидали этого с нетерпением, нас, тем не менее, захватило врасплох. Пассажиры внезапно перестали интересоваться друг другом и переключили все внимание на багаж. Все пробрались в трюм и принялись открывать и закрывать сундуки и мешать своим товарищам (как мужчинам, так и женщинам). Все стали занятыми, отстраненными и довольно раздражительными, тогда как стюарды — подчеркнуто вежливыми и обязательными. Всяк думал о том, чем заняться в ближайшее время: а ближайшее время имело мало или вообще никакого касательство к ближнему своему. К обеду выглянуло солнце, но после обеда снова скрылось за тучами.
В четыре часа, когда пароход еще не замедлял хода, прибыли на катере паспортные и карантинные чиновники и, как пираты, вскарабкались на корабль еще до того, как порт возник в поле зрения. Белые утесы сейчас были уже ясно видны.
— Мы, скорее всего, сегодня высадимся.
— Скорее всего, наутро, — сказал Скотли. — Когда пароход прибывает в порт, он еще битых шесть часов гудит и прилаживается. Навигация, я полагаю! Ха-ха! — загоготал он громко. — Очковтирательство, вот что это такое! Специально, чтобы вас надуть. Не хотят, чтобы вы вот так просто ушли с мыслью, что навигация — такая простая вещь, — а ведь так оно и есть! То же, что подать прошение о выдаче паспорта и подобные дурости. Все делается, чтобы произвести на вас впечатление. И тут так же. Будьте уверены, мы проваландаемся здесь до самого утра вместо того, чтобы зарулить в порт, как на такси.
— В России, — заметил я, — кучер нахлестывает лошадь и на предельной скорости осаживает ее у крыльца. Это считается шиком.
— Знаю. С машиной такое не сделаешь.
— Ну, я знавал одного лейтенанта-француза, который делал такое в России.
— Осел, сгубил все шины!
— В том-то, — заметил я, — и заключается вся пикантность.
Скотли тяжело кивнул, точно удивляясь, куда катится мир. Он знал, куда тот катится. В нем не было ни пессимизма, ни сомнений, ни бездействия. Он вернется в Аргентину на свою железную дорогу; отправится на канадские золотые прииски; организует компанию по развитию владивостокского порта и заработает кучу денег, а потом уйдет во внутреннюю и внешнюю политику, будет выкрикивать речи на митингах под открытым небом, строить мосты, бурить нефтяные скважины, осваивать леса и угольные месторождения и сравняет весь мир с землей; он… да он перевернет весь мир вверх тормашками и встанет на него, жестикулируя и авторитетно разглагольствуя. Он… Однако, слушая его, я был уверен в том, что, чем бы он ни занялся, он упустит главное.
Унылый день склонялся к закату, нас обгоняли небольшие волны, и «Носорог» двигался к одной-единственной точке в Англии, словно стрелка компаса к Северному полюсу. Уже показались слабо мерцающие огни побережья. И все же «Носорог», покачиваясь, шел.
Около шести, когда берег был чуть ли не на расстоянии вытянутой руки, а пароход двигался без остановки, и стюард застегивал гамаки в каюте, я поднялся на палубу. В мраморной кают-компании, на «тупом конце» корабля, восседали паспортные и карантинные чиновники и, точно инквизиторы, чинили суд над «чужестранцами». Русский генерал, капитан Негодяев и его жена выглядели беспомощно, как мушки, попавшиеся в паучьи тенета. Мы — в том числе коммодор — надели форму и, в качестве британских подданных, заняли привилегированные места у входа в кают-компанию, тогда как к задней его стене согнали «чужестранцев», словно заложников во время осады, заставляя их отвечать на разные гипотетические вопросы, позорные и несправедливые, прежде чем тоже пустить их на землю обетованную.
Мы были совсем близко. Англия лежала перед нами, зеленый остров с домами, людьми и парками. Мы были за пределами гавани, только еще входили в нее; корабль качался с бока на бок, неуклюже поворачивался, пробираясь в гавань, и сипло, отвратительно гудел; из труб поднимались столбы черного дыма, прямо в моросящее дождиком небо. Человек за штурвалом приказал человеку внизу застопорить машины; корабль остановился; потом машины снова заработали. И, точно как и было предсказано, мы «валандались» у самого входа в гавань. Все судовые офицеры заняли свои места; только врач, чья работа была закончена, праздно стоял у люка, попыхивая сигаретой. Еще очень долго корабль переваливался с боку на бок, издавая гудки и поворачиваясь как будто совсем без цели, а мы стояли у перил, стараясь сохранить равновесие, пока, наконец, пароход, тяжело накренившись, не вошел в гавань. Мы шли мимо волноломов, вдоль длинной, широкой ограды Саутгемптонского порта, между двух рядов зеленых лужаек, и тут машины, точно сдавшись, остановились, и огромный пароход, бесшумно проскользив немного по инерции, бросил якорь.
Прибыли. «Носорог», выполнив свою задачу, был неподвижен, исчерпавши все силы, поникнув духом. Сильвия стояла рядом со мной у перил и ворковала что-то о разводе с Гюставом, о браке со мной. Но я давно к этому привык и не слушал, только глядел на красивые подстриженные лужайки по берегам. Она сунула в рот конфету и, жуя, смотрела вокруг.
— Ужин на борту перед высадкой, — сказала она.
— Мы не высадимся на берег до самого утра.
— О! Правда! О! О! Милый, я люблю тебя. О, я тебя люблю. Я люблю тебя. Люблю тебя.
— И я тебя.
Подошел паспортный чиновник.
— Не сможете ли вы перевести для этого господина? Он совсем не говорит по-английски.
Когда я подошел, он спросил: — Вопрос насчет его дочери…
— У меня две дочери, — говорил капитан Негодяев. — Маша и Наташа…
— В паспорте записана только одна, — возразил чиновник.
— Именно так, — засуетился тот. — Маша не записана в паспорт, потому что она уже взрослая, замужем и живет с супругом, Ипполитом Сергеевичем Благовещенским, на юге России. А Наташа…
Его глаза наполнились слезами. Лицо задергалось. Он сглотнул.
— Еще… еще не били в гонг? — нервно спросил он.
— Еще нет.
Он посмотрел покрасневшими глазами на жену. Крошечная слезинка блеснула на ее ресницах.
— Наш херувимчик, — просюсюкала она, — ушел… ушел от нас… к херувимам.
Я перевел чиновнику.
— Понимаю, — сказал тот.
И пока мы стояли и ждали, пока расхаживали в молчании, я не услышал крадущихся шагов; ничьи холодные ладошки не закрыли мне глаза. Не было ни заливистого смеха, ни пожимания плечами, ни восторженного удивления. Сгущались скорбные сумерки, и огни Англии моргали удрученно, печально. Только гонг вторил шуму моря, и чайки, и ветер, и моросящий дождь.
Уильям Герхарди: возвращение на родину
Валерий Вотрин
Это поколение называли по-разному — «огненным поколением», «поколением 1914 года», «поколением Первой мировой». И действительно, Великая война была самым страшным испытанием, выпавшим на долю молодых людей, европейцев и американцев, которые в начале 20 века достигли своего совершеннолетия. Миллионам суждено было погибнуть в бессмысленной четырехлетней бойне. Другим посчастливилось — они остались в живых. Старшие из них родились в 1883 году. Младшие — в 1900 году. Людей, родившихся между этими датами, с легкой руки американской писательницы Гертруды Стайн стали называть «потерянным поколением».
На ближайшие семьдесят лет эти люди самых разных судеб, так или иначе затронутых опытом Великом войны, будут определять литературу 20 века. Имена наиболее ярких известны: это американцы Э. Паунд, Ш. Андерсон, Ф. С. Фицджеральд, У. Фолкнер, Э. Хемингуэй, англичане T. С. Элиот, О. Хаксли, Д. Г. Лоуренс, Р. Олдингтон, Дж. P. Р. Толкин, немцы Э. М. Ремарк, Г. Гейм, Э. Юнгер. Но и внутри «потерянного поколения» были свои потерянные таланты — как на войне, так и в силу жизненных, уже послевоенных обстоятельств. Однако никому не пришлось изведать такой громкой славы уже по выходе дебютных вещей и потом оказаться забытым еще при жизни, как этому человеку. Биография его столь же необычна, как и его книги.
Отзывы о его произведениях были с самого начала превосходными. «Для моего поколения он был самым значительным романистом из тех, чей дебют пришелся на нашу молодость. Мы гордились его ранним и мгновенным успехом, как гордятся те, кто определил правильную лошадь», — писал Грэм Грин. «Пусть у меня есть талант, но у Вас есть нечто большее — гений», — пишет ему Ивлин Во. «Он — наш Гоголь. Мы все вышли из него», — вторит им Оливия Меннинг, автор великолепных «Превратностей войны». Им восхищались и признавали его влияние Ивлин Во, Герберт Уэллс, Олдос Хаксли, Исайя Берлин, Энтони Пауэлл, Кэтрин Мэнсфильд, Кингсли Эмис. Он и вправду был одним из самых ярких, самых выдающихся английских прозаиков 20—30-х годов.
Звали его Уильям Александр Герхарди. Сын английского промышленника, он родился 21 ноября 1895 года в Санкт-Петербурге, где его отец, Чарльз Альфред (на русский манер Карл Васильевич) Гергарди (1865–1925) владел ткацкой фабрикой — знаменитой «Российской бумагопрядильной мануфактурой К. В. Гергарди», основанной еще в 1880 году дедом писателя, Уильямом (Василием Андреевичем) Гергарди, выходцем из семьи немецких промышленников родом не то из Гамбурга, не то из Дюссельдорфа, в начале 19 века осевших в Англии. Предпринимателю Гергарди принадлежал огромный особняк на Выборгской набережной и катушечная фабрика в Смоленске. Здесь, в Петербурге, Уильям посещал славные Анненшуле и Реформирте-шуле. Родители хотели, чтобы он стал коммерсантом, и послали его учиться в Англию, — однако юный Герхарди ненавидел коммерцию и мечтал стать драматургом, чтобы взять штурмом лондонские театры. Он зачитывался Уайльдом и носил изящную трость, длинные локоны и томное выражение на лице, стремясь во всем походить на своего кумира.
События меж тем не стояли на месте. Грянула Первая мировая, и юный Герхарди вступил в Королевский шотландский грейский полк. Во время войны, в 1916 году, он был прикомандирован к британскому посольству в Петрограде. Уайльдовская трость сменилась длинной неуклюжей саблей (купленной у старьевщика на Черинг-кросс), с которой Герхарди прибыл в Петроград, отчего его сразу же записали в герои войны (эта сабля еще всплывет в «Полиглотах»). Революция разорила семью Герхарди. Английские биографы любят повторять, что старший Герхарди во время русской революции чуть было не поплатился жизнью, его уже волокли в мешке к Неве. — топить, как вдруг у самой воды спросили фамилию и неожиданно выпустили, приняв его, как оказалось, за британского социалиста по имени Кир Харди.
Русские революции — дело сложное, поневоле запутаешься. На самом деле этот примечательный факт имел место во время революции 1905 года: ведь английский парламентарий Харди громогласно требовал тогда поддержать эту революцию и получил известность в России. В 1917 году Кира Харди уже не было в живых (он умер в 1915 г.), и вряд ли его кто-либо помнил, так что, попадись «проклятый капиталист» Гергарди революционным матросам в октябре 1917 года, никакой британский социалист его бы уже не спас. Но человеком старший Герхарди был, судя по всему, упрямым: дело он не свернул и благополучно дождался Великой Октябрьской Социалистической Революции, которая окончательно положила конец его предпринимательской деятельности в России. Родители отправились в Англию, а Уильям Герхарди на правах героя войны — во Владивосток, в распоряжение британской военной миссии или, выражаясь языком революции, «стаи иностранных интервентов».
Это двухлетнее пребывание в Сибири в качестве иностранного интервента Герхарди описал в своем первом романе «Тщетность», посвященном, по собственным его словам, «комическим попыткам изничтожить русскую революцию». Роман появился в 1922 году, в один год с «Улиссом» Дж. Джойса и «Бесплодной землей» T. С. Элиота, когда Герхарди уже вернулся в Англию и заканчивал Оксфорд (в том же году он получил степень бакалавра русской филологии). Дебютанта сразу заметили. И не просто заметили.
Попытка приживления английской литературе чеховских мотивов (подробный их анализ — в помещенном здесь же блестящем эссе Омри Ронена) удалась — английский литературный мир был покорен. История любви Андрея Андреевича, русского с английскими корнями, к Нине, одной из трех дочерей неудачливого предпринимателя Николая Василевича, чьи сибирские золотые прииски «вот-вот начнут приносить прибыль», дается на фоне начинающихся революционных событий, которые уже в этом раннем произведении изображаются Герхарди с его фирменным комическим блеском. Книга вышла с предисловием писательницы Эдит Уортон. «Роман мистера Герхарди донельзя современен, — пишет она, — однако в нем есть масштаб и форма, есть узнаваемая орбита и то обещание большего, что всегда отличает первые шаги настоящего писателя». Большим почитателем молодого таланта стал и маститый Герберт Уэллс. «Почему вокруг “Тщетности” не поднялся крик, достигающий пригородов и окрестных деревень? — восклицал он. — Вещь правдивая, опустошительная. Изумительная книга». «Зрелая вещь», «начало большого таланта», «прирожденный романист» — таковы были единодушные отзывы. Критики не ошиблись — это было только начало. Три года спустя вышли «Полиглоты».
Это трагикомическое, с элементами автобиографии повествование об англо-бельгийской семье в Сибири в годы гражданской войны и союзнической интервенции — лучшее произведение у Герхарди, в котором отличительные особенности его стиля, смесь комедии и пафоса, меланхолии и фарса, сатиры и глубокого лиризма, видны особенно ярко. Рассказ ведется от лица молодого английского капитана по имени Жорж Гамлет Александр Дьяболох, который во время своей военной миссии на Дальний Восток сталкивается с родственным ему эксцентричным бельгийским семейством Вандерфлинтов. Вместе с ними судьба забрасывает капитана то в Иокогаму, то в Харбин, то во Владивосток времен союзнической оккупации, но повсюду события исторической важности и самые банальные и смешные происшествия намертво переплетены, создавая ни с чем не сравнимую атмосферу романа, картину всеобщей бессмыслицы, комического (и космического) абсурда, где благородство побуждений тонет в бездарности исполнения (взять хотя бы описание интервенции на Дальнем Востоке), а самая смерть, перед которой преклоняется все живое, предстает в неожиданно фарсовом, балаганном виде (знаменитая сцена самоубийства дяди Люси). Целый рой самых причудливых личностей проходит у нас перед глазами — депрессивные офицеры, одержимцы, сумасшедшие священники, полоумные сатиры, — мир Герхарди расшатан и дезориентирован, нелеп и смешон, мрачен — и полон самых светлых ожиданий. Это мир, в котором только что закончилась громадная бессмысленная бойня, но при этом каждый чувствует, что этим дело не кончится. Отсюда — трагифарсовая атмосфера романа, его едкая ирония и стоическая философия, сближающие его с произведениями других авторов «потерянного поколения».
До недавних времен такой взгляд на русскую революцию и гражданскую войну в России был немыслим. Дело здесь не в том, что автор изначально стоит на других позициях, не в том, что события в России больно ударили по его семье и довели до смерти отца (тот умер за два месяца до выхода романа). Дело в том, что Герхарди, прекрасно говоривший по-русски, очень точно и емко выразил самую суть происходившего тогда, описал с позиции двоякой — и аутсайдера, и инсайдера. Его отстраненный, но и сочувственный взгляд ценен сам по себе. Ни в коей мере не исторический роман, «Полиглоты» полны историзма и поэтому являются сразу и романом историческим, и психологическим, и комическим. Комическим шедевром назвал его современный английский писатель Уильям Бойд, заново открывший нам творчество Герхарди.
Большая часть «Полиглотов» была написана в Инсбруке. Герхарди заканчивал эту вещь в трагических обстоятельствах: умирал его отец, и мать писателя, чтобы скоротать время, зачитывала мужу отрывки из рукописи. Тот слушал молча, не делая никаких замечаний. И лишь однажды, когда она дошла до сцены смерти Наташи и заплакала, старик прервал молчание. «Не плачь, — произнес он. — Этого всего не было. Вилли все выдумал».
По правде сказать, автобиографических параллелей в романе больше, чем можно предположить. Здесь отразились не только впечатления автора от двух русских революций, от союзнической интервенции 1918–1920 годов, его взгляды на международное вмешательство в дела других народов — прототипами многих персонажей романа стали члены семьи Герхарди. Так, например, известно, что прототипом для одного из самых запоминающихся персонажей романа, тети Терезы, послужила Мэри Герхарди, тетя писателя. Возможно, списаны с живых людей и другие персонажи книги — капитан Негодяев и его дочь Наташа, доктор Мергатройд, генералы Пшемович-Пшевицкий и Похитонов. Достоверно известно, что описанное в финале романа долгое путешествие из Харбина обратно в Англию через Сингапур, Коломбо и Порт-Саид был проделано самим Герхарди после двух лет пребывания в Сибири, откуда будущий автор «Полиглотов» возвращался кавалером Ордена Британской империи 4 степени и двух иностранных орденов, в компании генералов, как и описано в романе.
После выхода последнего своего романа в 1938 году Герхарди еще при жизни оказался забыт, чему способствовала все усиливавшаяся склонность к затворничеству. Судьба его самых знаменитых книг оказалась под стать судьбе их автора: только в 1970-х усилиями писателей Майкла Холройда и Уильяма Бойда книги Герхарди стали вновь переиздаваться и даже завоевали в узких кругах статус «культовых». Но смерть Герхарди (который уже в старости прибавил к своей фамилии букву «е» и стал именоваться Джерхарди) в 1977 году прошла практически незамеченной. Почему же произведения, оказавшие в свое время такое впечатление на столь разных писателей, как Арнольд Беннет и Герберт Уэллс, Филип Тойнби и Эдит Уортон, Ивлин Во и Грэм Грин, до сих пор мало известны широкому англоязычному читателю?
Дело здесь, наверно, в том, что, по выражению одного критика, его повествования несколько размыты; в них нет ни остроумной иронии И. Во, ни смешных сравнений П. Дж. Вудхауса. Его горой обитают среди хаоса и нелепости и смотрят на мир с пессимистической усмешкой, с фаталистской убежденностью, что пусть это и не самый лучший из миров, после смерти дверь откроется в другой мир, и уж тот-то обязательно будет лучше (не зря Герхарди увлекался паранормальными явлениями и всю жизнь питал живейший интерес к теме жизни после смерти). Другими словами, в книгах писателя Уильяма Герхарди, английского петербуржца и первого в Англии серьезного исследователя творчества Чехова, столько русского, что английский читатель принимает это за отсутствие ясного стиля. Нет, совсем не напрасно в «Полиглотах» его alter ego, капитан Дьяболох, проговаривается: «Россия слишком глубоко проникла в меня». Само слово «полиглот», вынесенное в заголовок, приобретает в романе насмешливо-трагический смысл: мечущаяся по страницам романа разноязыкая толпа оторвана от родной почвы, от родного языка, не способна найти один-единственный дом (язык). Воспоминания главного героя о детстве в Петербурге, об отцовском доме, выходящем окнами на Неву, имеют под собой то же — неизбывное «полиглотство», горькую неприкаянность, острую тоску по утраченной родине, которой, по свидетельствам, Уильям Герхарди страдал до конца своих дней.
Кроме «Полиглотов», у Герхарди еще немало написанного. Тут и автобиографическая книга «Мемуары полиглота» (1931), и роман «О любви земной» (1936), по мнению критиков, самый честолюбивый его замысел. Успехом пользуется также другой роман Герхарди, «Погибель» (1928), сатирическая антиутопия, заканчивающаяся гибелью земного шара в огне атомного взрыва. Уже после смерти писателя в 1977 году вышла в свет книга «Господня пятая колонна. Биография века, 1890–1940» (1981). Всем этим вещам, в том числе литературоведческому исследованию о Чехове, еще предстоит быть открытыми в России. Но при всем богатстве тем Уильям Герхарди остается прежде всего автором «Полиглотов». Удивительно, но этот роман уже издавался в России — он был опубликован в 1925 году в ленинградском отделении Государственного издательства под названием «Нашествие варваров». По цензурным соображениям многие сцены в романе были пропущены, изменен даже порядок нумерации глав. Лишь теперь, спустя восемьдесят с лишним лет после публикации, полный текст романа приходит, наконец, к русскому читателю.
Писателям дана удивительная возможность возвратиться на родину уже после смерти — возвратиться книгами. Кто знает, возможно, Герхарди не оценен на исторической родине, в Англии, потому, что не оценен по достоинству там, где провел детство и юность? Все поправимо. Смерти, по Герхарди, нет. Все — лишь бесконечное возвращение на круги своя. В числе тех, кто навсегда покинул Россию и теперь возвращается своими книгами, вернулся и петербуржец Уильям Герхарди.
Тщетность[137]
Омри Ронен
Если расчислять живую жизнь читательских мыслей и чувств по календарю памятных дат, то все годы выходят юбилейные. В текущем 2010-м сошлись рождение Чехова и смерть Толстого, стопятидесятилетие и столетие. Хорошо в такие годы хронологических совмещений, разыскивая в библиотечном каталоге нечто нужное для текущей работы, находить по прихоти случая (что называется «серендип») старые, важно задуманные, но безнадежно забытые книги и выводить их, «как тень Аида, в белый свет» из компактного хранения на другом берегу реки Гурон, куда перевозят издания, которые больше десяти лет никто не брал с переполненных открытых полок главной библиотеки.
На этот раз — среди материалов о русском спиритизме (для «Плодов просвещения», «Страшной ночи» Чехова и толстовского эпизода в «Сестрах Вейн») — малоразборчивый компьютер выложил заглавие “The Soul of Russia”, которое было мне знакомо по очерку Дионео о графе Гобино. Я заказал и через день получил увесистый том на плотной бумаге с фронтисписом Бакста «Стрела союзников» (не совсем кстати пронзающая с виду совершенно вагнеровского дракона) и цветными картинками Рериха, Ларионова, Гончаровой и Стеллецкого. Издано в Лондоне в декабре 1916 рода «в помощь Фонду русских беженцев при Всероссийском союзе земств под председательством кн. Г. Е. Львова».
Забавная и поучительная книга! Русская поэзия представлена в ней Бальмонтом, Брюсовым, Щепкиной-Куперник, И. Гриневской и Зоей Бухаровой, художественная проза — Зинаидой Гиппиус, Сологубом, Потапенко и той же Щепкиной-Куперник. Стихи приложены и в русском подлиннике, и лучше бы составителям этого не делать.
Английская стихотворная продукция в сборнике тоже весьма банальна, но иные британские публицисты в своих торжественных приношениях на этот алтарь вскоре распавшегося согласия являют собой не описанный еще систематически тип «кающегося англичанина». Первый очерк в книге принадлежит перу Честертона, которому во время болезни в интуитивном озарении привиделся когда-то «кошмарный сон» о мистических двойных агентах — революции и полиции — «Человек, который был Четвергом» (в России он был издан «Универсальной библиотекой» в 1914 году и быстро прославился). Зато автор рассказа «Человек, который был» блистает отсутствием на парадном смотре союзников: вскоре он напишет стихотворение «Россия — пацифистам», первое свое сочувственное слово о России. Очерк Честертона следует сразу за вступительным сонетом Moриса Бэринга на знакомый голос из «Мертвых душ»: “What can the secret link between us be?” («Какая непостижимая связь таится между нами?» и т. д.) (Честертон и Бэринг были приятели, и по курьезному совпадению фамилия человека, который в "кошмаре" был Вторником, — Гоголь.
Называется эссе Честертона “The English Blunder About Russia”, «Английский промах насчет России». Неприязнь, которую либералы к ней питали, он объяснил их недоверием к сильному правительству и мыслью о Сибири, а неприязнь консерваторов — нелюбовью к сильным иноземцам и мыслью об Индии. Одни изображали русского вечно вышагивающим с кнутом по уральским каторжным рудникам, другие — вечно таящимся с винтовкой в засаде на подступах к Хиберскому перевалу. Эта иррациональная ненависть к России — плод логики, описанной «одним из великих русских романистов»: «дважды два — стеариновая свечка». Когда Честертон был молод, многие англичане считали, пишет он, что русские едят свечи, и спор о России был спор о том, хорошо это или дурно — питаться сальными свечками или пить к завтраку чай. «По частной случайности самыми популярными или самыми модными британскими политиками часто были люди, не способные ни оценить, ни даже вообразить набожность, поэтичность и мужественную терпеливость народа, подобного русскому. Такова была ограниченность язычника-аристократа, как Пальмерстон, экзотичного и роскошного чужеземца, как Дизраэли, или даже вполне честного циника, как покойный лорд Солсбери» (которые в Крымскую и в Балканскую кампании спасли Турцию от раздела и развеяли русскую мечту о Царьграде). После войны «на Западе идеальных коммунистов больше не будут учить злословию по адресу страны реальных коммун» (то есть крестьянских общин. Тут создатель патера Брауна как в воду смотрел: идеальные западные коммунисты научились любить страну реальных колхозов).
Концовка честертоновского фельетона — в моем вкусе, соль ее в опечатке. «И мы больше не увидим, что в Англии те, кто по своему исповеданию стоят за веру и власть, слепы к долгому героизму этого форпоста христианства в борьбе с азиатской анархией, который в течение последних дней повторил доблесть и славу Гераклита у Испагани (the valour and the glory of Heraclitus at Ispahan)». Историк недоумевает: какой воинский подвиг совершил Гераклит в Персии? Очевидно, Честертон или корректоры перепутали имена Гераклита Эфесского и византийского императора Гераклия, который — в союзе с хазарами — успешно воевал против персов и дошел в 624 году до Испагани, как утверждает Гиббон. В начале 1916 года, когда англичане терпели неудачи на месопотамском фронте, экспедиционный корпус генерала Баратова начал наступление в Персии и 20 марта занял Испагань (Исфахан), ликвидировав «очаг германской агитации» и выручив британского союзника. Это позволяет нам датировать эссе благодарного Честертона концом марта. До Брестского мира оставалось два года. «Нрав человеческий не имеет прозрения, — сказал Гераклит Темный. — Большинство людей не понимают того, с чем они сталкиваются».
Заключительную статью в сборнике, «Британия и славянский мир», сочинил историки политический пропагандист Роберт Сетон-Уотсон. Здесь найдем не только ритуальное осуждение «смертоносных ошибок Дизраэли», но и признание правоты генерала Фадеева, сказавшего в 1869 году: «Перед Польшей стоит выбор, стать младшим братом русской нации или всего-навсего германской провинцией».
Вся эта апологетика как бы просит англичан забыть, а русских простить страшный рассказ Киплинга “The Маn Who Was” («Человек, который был»), нынешнему читателю напоминающий, что не только в советское время военнопленные исчезали бесследно и «промыванием мозгов» низводились до уровня павловских собак.
Война — великий примиритель. Лев с агнцем вкупе, правда, не почиет, но с медведем отчего бы и нет.
Лев Шестов еще в 1906 году заметил: «Достоевский <…> постоянно предсказывал и постоянно ошибался. Константинополя мы не взяли, славян не объединили, и даже татары до сих пор живут в Крыму. Он пугал нас, что в Европе прольются реки крови из-за классовой борьбы, а у нас, благодаря нашей русской всечеловеческой идее, не только мирно разрешатся наши внутренние вопросы, но еще найдется новое, неслыханное доселе слово, которым мы спасем несчастную Европу».
Однако утверждение «парадоксалиста» из «Дневника писателя» «Война развивает братолюбие и соединяет народы» оказалось все-таки пророческим, хоть и не в том смысле, который вкладывал в него автор. Исконных врагов, Англию и Россию, война действительно на время соединила. В фарсе Бернарда Шоу «О’Флахерти, кавалер креста Виктории» ирландский мужичок, солдат в отпуску, объясняет своему помещику-генералу, что мать его, как хорошая ирландка, очень счастлива, она думает, что сын получил эту высшую награду за храбрость, сражаясь против англичан. «Как так? — Да она спросила, на чьей я стороне, я и ответил, что на стороне французов и русских. А ведь известно, что те всегда только и делали, что воевали с англичанами».
Самый смешной курьез с точки зрения нашей темы заметил в сборнике «Душа России» И. В. Шкловский (Дионео), автор помещенного в нем очерка, который составляет тайный диссонанс тону книги, — это чукотская легенда об истреблении «бородатыми завоевателями» полярного племени кангиенисов на Колыме. Речь у Дионео, в уже упомянутой статье «Граф Гобино», идет об эссе Хью Уолпола (однофамилец которого в 18 веке ввел словечко “serendipity”), в то время уже довольно известного писателя, служившего в России в «Красном Кресте» и удостоенного Георгиевской медали за спасение раненого под огнем. Таким образом, это не совершенно чужой России автор: в 1916 году он напечатал свой первый роман из русской жизни «Темный лес». Его эссе называется “Epikhodov”. Дионео прекрасно изложил его особенное содержание:
«Иногда комментаторы, отправившиеся в поиски за русской душой, делают изумительные открытия. Русская душа — это “almost royal impotence”, т. е. почти царственное бессилие, и символом его является… Епиходов в пьесе «Вишневый сад». Автор (Хью Уольполь) указывает, что в русских пьесах постоянно появляется один и тот же тип, изображенный с большим блеском и симпатией. Тип этот— Епиходов. С ним случаются беспрерывные несчастья. Дуняша отвергла его ради глупого лакея без одной мысли в голове. Варя попрекает его тем, что он только ходит с места на место, а делом не занимается. «Только ходит с места на место! — восклицает автор. — О небо! Неужели все окружающие не замечают великих мыслей, одолевающих Епиходова? Неужели они не могут ничего видеть, кроме его сапогов со скрипом, дурацкого пиджака и неуклюжих манер? Неужели они не могут разглядеть сущность его души? Дрожа от ярости и негодования, Епиходов кричит: “Работаю ли я, хожу ли, кушаю ли, играю ли на бильярде, про то могут рассуждать только люди старшие и понимающие!”» «Люди понимающие! — многозначительно повторяет Хью Уольполь. — Вся трагедия существования Епиходова заключается в этих двух словах. Он живет в чуждом для него мире. Быть может, где-нибудь есть мир, населенный esprits supérieurs, которые судят людей и предметы не по внешности».
Кажется, Уолпол сам смешон, как Епиходов, а между тем он высказал нечто такое о Чехове, что в его отечественном облике кажется небольшой подробностью, сценой на сцене, вроде постановки Треплева, а иноплеменному, особенно английскому, взору предстоит как тайное знание.
Чехов-мистик, Чехов — вещатель последней правды о человечестве: вот важная составляющая английского образа Чехова, даже когда пишет о нем свой брат трезвый скептик Бернард Шоу. «Cад Клингзора», «Дворец злых чар» — вот метафоры, которые он находит и для «Вишневого сада», и для своей «фантазии в русской манере на английские темы» — «Дом, где разбиваются сердца». «Те же самые милые люди, та же самая полная тщетность (futility)». Это слова из предисловия под названием “Heartbreak House and Horseback Hall” («Дом, где разбиваются сердца, и усадьба, где ездят верхом»). «Сердца и седла» — иначе не могу передать парономазию, с помощью которой Шоу противопоставляет тех, кто слушает Шумана, а не охотится на лис, и тех, кто содержит скаковые конюшни, а от Шумана зевает. В «Доме, где разбиваются сердца», как чеховский звук лопнувшей струны, звучит в небе и постепенно затихает великолепный барабанный гул («Это просто поезд», — говорит английский Лопахин); подспудно крепнет мистическое ожидание катастрофы, «предсознанное будущее», как называл это Гончаров; старый капитан Шотовер изобретает боевой «мысленный луч», и в конце концов взрывается склад динамита; а потом под занавес влюбленный неудачник играет на флейте простенький уютный мотив. Все тут чеховское — только другое время, другое место и другой, менее сдержанный подход.
Это очень английская мысль: «Чехов-мистик». За немногими исключениями (например, Н. И. Ульянов, большой оригинал, мой покойный сослуживец по Йельскому университету, автор статьи под таким названием), русское критическое чувство видит в Чехове чисто насмешливый подход к мистическим предметам в тех редких сюжетах или описаниях, когда он обращается к ним. «Жизнь твоя близится к закату, кайся!» — говорит у Чехова на сеансе то дух Спинозы, то дух Тургенева. Отечественный читатель смеется. Англичане же, сразу оценившие г-жу Блаватскую, а потом тех, кого Олдос Хаксли вывел под именем «Умбиликова», особым нюхом чуют мистическое в русском искусстве.
Чуял это и Чехов в англичанах. Недаром декадентское действо Треплева обязано не только Метерлинку, но и тому английскому источнику, на который указал проницательный Н. А. Коварский в статье «Герои “Чайки”», — поэме Эдвина Арнольда “The Light of Asia” («Свет Азии»; «Тайна смерти» — в русском переводе, напечатанном в том же номере «Северного вестника» за 1892 год, что рассказ Чехова «Жена»). «Вот текст из Светасваторы священной: / Кто он? Единый Безразличный Бог, / Причина вечная единства мира / И бесконечного разнообразья, / Начало и конец созданий всех, / Он, Брама, нам дающий свет познанья. / Незримый дух — он проницает все, / Все атомы; он светится для мира, /И в пламени. И в солнце, и в луне. / <…>/ Он есть мужчина, женщина, девица / И юноша, младенец и старик, / Он всё, что есть: пчела, и тигр, и рыба, / Он птица, дерево, цветок, трава…» Вот откуда пришли треплевские «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы…». Характерно, что статья Коварского не запомнилась. Покойный А. П. Чудаков, комментировавший пьесы Чехова для академического издания, был удивлен, когда я ему показал ее в сборнике к 80-летию Н. Ф. Бельчикова (1971).
У нас нет не только контрастной, но даже и сравнительной истории английской и русской словесности. В обозримом будущем ее и не предвидится: старое сравнительное литературоведение ушло, а новое не занято широкими сопоставлениями, образец которых я вижу в таких статьях С. С. Аверинцева, как «Греческая литература и ближневосточная «словесность»». Поэтому благодарная тема «Чехов в Англии» представлена в специальном томе «Литературного наследства» о Чехове и мировой литературе довольно бессистемным набором фактов и выводов; я нахожу, что «беглый взгляд» В. В. Хорольского на английскую рецепцию Чехова, опубликованный в «Вестнике Воронежского университета» за 2004 год, интереснее, во всяком случае там, где автор обращается к первоисточникам.
Между тем некоторые литературно-исторические параллели и контрасты сразу бросаются в глаза, если обратиться к концу 1910-х и началу 1920-х годов, когда Чехов триумфально вошел в круг английского чтения и стал учителем не только новичков в литературе, но и таких прославленных авторов, как Шоу. Вот одно сопоставление для примера. Как молодые «серапионы» ополчились против «бессюжетности» русского повествования — по сравнению с напряженным и неожиданным западным, особенно англо-американским сюжетом, — так англо-американские авторы в ту пору стали перенимать изысканную повествовательную вялость и неожиданную описательную наглядность туманных и медлительных русских художественных построений, видя в них желанную и неуловимую «живую жизнь». Как прежде нервное многоглаголание Достоевского, невозмутимая краткость Чехова потребовала не только переводчиков с языка на язык, но и с одной системы обычаев, ощущений и оборотов мысли на другую.
Неожиданным посредником стал молодой английский искатель приключений, дипломатический переводчик, офицер и начинающий автор, родившийся в России.
Статей о Чехове было в Англии к началу 1920-х годов уже много, но первую монографию “Anton Chekhov. A Critical Study” (Лондон, 1923) написал Вильям Гергарди (William Gerhardi, В. А., В. Litt., Охоп). В России он практически не известен, и когда его упоминают в обзорных работах о Чехове, то пишут «Джерхарди». Действительно, так обычно произносится его фамилия на английском языке, но родился он в России в 1895 году, учился в Анненшуле, по-английски всю жизнь говорил с неуловиморусскими интонациями, и принадлежавшая его семейству ткацкая фабрика на Выборгской набережной называлась «Российская бумагопрядильная мануфактура К. В. Гергарди». Так будем звать его и мы. Читатель не найдет ни Гергарди, ни Джерхарди в русских литературных энциклопедиях. Зато в «Оксфордском сопроводителе по английской литературе» (“The Oxford Companion to English Literature") он заслужил больше места (36 строчек), чем Конан Дойл (32). О его сюжетах говорится: «смесь комедии с трагедией, событий исторического значения — с полнейшей человеческой заурядностью»; о мире, в котором действуют его герои: “an oblique, lyrical, inconsequential world" («косвенный, лирический, непоследовательный»).
В начале 1920-х годов интерес к России, преходящим памятником которому был тот сборник военного времени, о котором уже говорилось, сильно возрос: требовалось объяснить, как и отчего «набожная и поэтическая русская душа» вдруг переменилась. Поэтому первый (и, как считает его биограф Дайдо Дэвис, лучший) роман Вильяма Гергарди «Тщетность» (“Futility”), пришелся ко двору. Содержание его вкратце таково.
Молодой англичанин, родившийся и выросший в Петербурге, встречает трех сестер Бурсановых, Соню, Нину и Веру. Им соответственно 16, 15 и 14 лет. Они живут в богато убранной квартире в собственном, но заложенном доме на Моховой, с отцом, концессионером золотых приисков в Сибири, и с бывшей опереточной дивой, трагикомической немкой Фанни Ивановной, на которой он когда-то обещал жениться. С героем он рассуждает о Чехове. Жена от него сбежала в Москву к еврею-дантисту (a Jew dentist) без практики, неудачливому биржевому игроку Эйзенштейну (несколько опереточному). У Бурсанова хорошенькая семнадцатилетняя возлюбленная Зина, читательница «Ключей счастья»; отец ее, бедный и больной врач, обитает с огромным семейством на Петербургской стороне. Старший брат врача, писатель Костя, из чеховских неудачников, ничего не пишет, не моется, а только размышляет. Есть еще друзья дома Бурсановых — балтийский барон и русский князь.
Молодой англичанин, прослужив три года в английском гвардейском полку, возвращается в Россию как переводчик при своем консульстве и сопровождает Бурсановых в их приключениях. Весь этот псевдочеховский симбиоз во время Гражданской войны через Сибирь Колчака, Гайды и красных пробирается во Владивосток. Автобиографический англичанин «Андрей» влюблен в Нину, но слишком занят другим романом, тем, который он пишет. Он морем возвращается в Англию, но не может высидеть в Оксфорде и бросает все, чтобы снова увидеть Нину. Нина говорит, что не любит его, и уплывает из Владивостока в Шанхай. Заключение книги — в ее первой главе: «Огромное море русской жизни, казалось, смыкается над моей головой».
Понятно, что Герберт Уэллс, автор недавнего репортажа «Россия во мгле» («Если народы западных стран хотят по-настоящему помочь русскому народу, они должны научиться понимать и уважать убеждения и принципы большевиков»), написал восторженное письмо автору, а известная (теперь скорее печально известная) переводчица русских классиков Констанс Гарнетт похвалила Гергарди за то, что он нарисовал «свежую и остроумную, нисколько не преувеличенную картину того класса, к которому принадлежат русские беженцы, наводнившие всю Европу». Чего жалеть таких паразитов, как Бурсанов и Эйзенштейн? Тем более что белые в Сибири зверствовали на глазах у своих союзников англичан, которые поэтому стали тайно сочувствовать красным, чьих зверств они не видели.
Англичане нуждались в нравственном оправдании своего бессердечия по отношению к бывшим героическим союзникам. Его в художественной, а позже и в публицистической форме стал поставлять Гергарди.
«Перевод с русского — не такое уж простое дело. Главная трудность в том, что, когда русское предложение переводят на английский, оказывается, что оно содержит лишний материал, который не добавляет к смыслу. Но, если его пропустить, текст не только будет сокращен на 30 процентов, но и не передаст понятия об эмоциональной разверстке предложения. То, что было бы избыточно на английском языке, на русском очень часто является источником яркой выразительности и красоты».
Так писал Гергарди в книге о Чехове, и это наблюдение свидетельствует о некоторой односторонности литератора, никогда не пробовавшего переводить на русский язык, скажем, Диккенса. Бывший переводчик при английской военной миссии и в своем романе и в воспоминаниях сократил события по крайней мере наполовину по сравнению с исторической действительностью, когда переводишь их на язык своих книг, считая в русской истории многое растянутым. Результатом такого редактирования стало преобладание темы тщетности в истории и в жизни, тщетности любви, тщетности героизма, тщетности гражданской войны и тщетности интервенции как «ряда опереточных попыток уничтожить русскую революцию». Интересно, что наименьшей симпатией автора в его более поздних воспоминаниях о революции пользуются русские люди действия, особенно такие верные союзникам герои, как Корнилов; и это при том, что к английскому переводу романа генерала Краснова «От двуглавого орла к красному знамени» Гергарди в 1926 году написал сочувственное, хоть и ироническое предисловие. Нужен был Чехов с его несколько сторонним взглядом на жизнь, писал Гергарди, а получили мы «лишенный всякой стыдливости, искренний, ребяческий, безыскусный отчет милейшего благонамеренного военного джентльмена». «Новый Толстой? Новый Достоевский? Нет, нет, увольте. <…> Какой блеск! Какие описания! Хорошая работа, генерал! Кроме того, тут и Распутин. Тут интриги, любовь святая и любовь земная… Это не хуже Золя; не хуже Дюма — отца, и сына, и всех их скопом». Это предисловие не фигурирует ни в автобиографиях, ни в биографии, и мы не знаем, что подумал Гергарди (очень не любивший Гитлера), когда, выданный англичанами, новый Золя был повешен в Москве. Романы его, впрочем, сейчас в России нарасхват, и критики сравнивают его с Буниным.
В особенности заметно у Гергарди «редактирование» русского опыта во всем, что касается царской семьи. В «Тщетности» он упоминает императора один раз, мельком, при описании Февральской революции. В сибирских главах о Екатеринбурге нет ни слова, хотя говорится и о Колчаке, и об уфимской директории, и о чехословаках. Соблазнительно считать, что этот прием умолчания заимствован у Чехова. Но функция его совсем другая, апологетическая. В «Мемуарах полиглота» (1931) Гергарди дает ложную версию известных событий 1917 года: «Как все теперь уже знают, король предложил императору и его семье убежище в Англии. Но последние долго думали, и, когда решили в пользу Дании, власть Временного правительства уже была сильно подорвана Советами рабочих и солдатских депутатов».
«Как все теперь знают», дело обстояло иначе. Король предложил было в 1917 году убежище родственникам, но Англия отказалась принять царское семейство из-за протестов рабочей партии и профсоюзов. Премьер Ллойд Джордж вел, конечно, двуличную политику, но главная вина лежит на короле Георге V, который мог пригрозить отречением. Однако была война, а кроме того, король не мог себе представить, чту будет. Когда он узнал о расстреле, то сказал: «Как — и детей? Россия сошла с ума».
У Йейтса было стихотворение из цикла «Безумная Джейн», к сожалению, не вошедшее в книгу Г. М. Кружкова: «У меня есть нечто хуже, о чем поразмыслить: / У одного короля были прекрасные двоюродные, / Но куда они делись? / Забиты насмерть в подвале, / А он держался за свой трон».
Сетон-Уотсон писал в 1915 году, что, если бы не королева Виктория и иностранец Дизраэли, которые не позволили России занять Константинополь в 1877-м, то не было бы войны 1914 года. Здесь можно возразить, что, если бы не бессмысленная политика Эдуарда VII, присоединившегося к Антанте, не погиб бы так страшно правнук Виктории. Лучше всего повел себя ее внук Вильгельм, потребовавший при Брестском мире, чтобы царской семье позволили уехать в Германию. Но тут отказался Николай II — он не хотел ни уехать из России к врагам, ни признать условия Брестского мира. Позже Гергарди, как бы компенсируя прежнюю молчаливость, много писал о гибели царской семьи — в монографии «Романовы» (1940) и в странном «историософском» труде «Пятая колонна Бога».
Одновременно с романом «Тщетность» была написана книжка Гергарди о Чехове, несложная для понимания, но трудная для перевода, потому что ключевое слово в ней — sensibility, а главное эстетическое понятие — expression of sensibility. Воспользуюсь поэтому русским словом, которому нет эквивалента по-английски: мироощущение. Четвертая глава монографии, к примеру, называется: «Средства, с помощью которых его мироощущению было дано выражение; техническое рассмотрение его стиля».
Анализ чеховской «техники» у Гергарди лучше давать в гомеопатических дозах. Вот он пишет о том, как рыбки лоцмана в восторге смотрят на акулу, играющую зашитым в парусину телом Гусева: «Другой писатель, видя, что ему надо представить сцену ужаса, выбирал бы превосходные прилагательные, отвечающие степени страха, которую он стремится выразить, в то время как Чехова не покидает художественный инстинкт сдержанности». Следуют цитаты из заключительных абзацев рассказа: железный колосник выпадает из мешка, разорванного зубами акулы, ударяет ее по боку, испугавши лоцманов, и быстро идет ко дну, а над всем этим нежное небо и океан. Вывод Гергарди — высокопарная студенческая смесь Кольриджа с Толстым: если Чехов, перечитывая самого себя, «испытывал те же чувства, которые побудили его к сочинению этого рассказа, то можно сказать, что его мироощущение сообщило нам себя в совершенном стиле».
В размышлениях Гергарди о нравственных типах и о системе ценностей Чехова «мироощущение» точно то же, что в романе «Тщетность». Оно обывательское, то есть культурно мелкое, но в нем разлита нервная тревога и тоска по «отзывчивости». В Наташе из «Трех сестер» Гергарди видит не жестокое зло пошлости, а лишь «легкую вульгарность провинциалки, подражающей дворянам», и главный конфликт низводит к неохоте Наташи и сестер «войти в положение» друг дружки. Так же и «Учитель словесности» — жертва не горшочков со сметаной и глупых женщин, а «слишком большой полноты счастья». В рассказе «Скрипка Ротшильда» Гергарди путает сюжет, машинально приписывая еврею озабоченность «убытками». Разбирая совсем по-мещански «Рассказ неизвестного человека», он полагает, что герой проявил слабость, переменив убеждения, и что судьба двухлетней девочки Орлова (которую отец отдает в частный приют) решена «удовлетворительно» (“is satisfactorily settled”). Вероятно, это следствие воспитания в не очень разборчивых культурных кругах России. В книгах Гергарди упоминаются Горький и Андреев, но не Блок и не Гумилев. Его любимейший поэт после Пушкина и Лермонтова — Апухтин. Но смеяться не надо: Гергарди один из немногих, кто оценил «Дневник Павлика Дольского», найдя в нем не только оригинальное искусство психологического описания и диалога, но и урок мистической тревоги. «Суета сует» проявляется в двух крайностях: в низкой «тщетности» и в высоком «томлении духа». Всю жизнь Гергарди занимался «паранормальным»; эти увлечения (как и рассказ Апухтина «Между жизнью и смертью») отложились в его романе «Воскресение».
Читая Гергарди, особенно позднего, испытываешь двойное чувство — интереса и разочарования. И как художник и как мистик он обещает больше, чем может дать его ограниченный талант и недостаточные знания. В этот юбилейный год он привлек мое внимание как апостол Чехова. Чехов всегда был для него мистическим пророком и учителем смысла истории и бытия. Уже в монографии 1923 года он сочувственно цитировал слова Чехова о богопознании: «Теперешняя культура — это начало работы во имя великого будущего, работы, которая будет продолжаться, быть может, еще десятки тысяч лет для того, чтобы хотя в далеком будущем человечество познало истину настоящего Бога, т. е. не угадывало бы, не искало бы в Достоевском, а познало ясно, как познало, что дважды два есть четыре».
Гергарди это «дважды два» попытался вычислить в книге, изданной посмертно в сокращении, — «Пятая колонна Бога. Биография эпохи: 1890–1940». В ней поражает смесь хитроумия и невежества. Это путанный труд историка-дилетанта, который содержит, однако, забавные частные наблюдения и сопоставления: Пруст и Ленин, Гертруда Стайн и Гитлер. Введенный в заблуждение псевдонимом «Н. Ленин», Гергарди думал, между прочим, что настоящее имя В. И. Ульянова было Николай, и на этом основании построил оккультный вывод о тезоименитстве вождя с императором.
Общественный идеал Гергарди — мировая федерация и минимальный гарантированный незаработанный доход для всех… Нетривиален путь к этому идеалу. За него борется «пятая колонна Бога», которая выражает божественное недовольство порядком вещей и подрывает человеческую самоудовлетворенность. В результате именно тщетность оказывается орудием провидения.
Смерть Чехова — агента Божьей пятой колонны, вредителя, подрывавшего своим юмором суть порядка вещей, — одно из лучших мест книги. Гергарди описывает со скорбным восторгом предсмертное шампанское в Баденвейлере и вагон с надписью «Устрицы», а в заключение сравнивает Чехова с героем рассказа «Злоумышленник», отвинчивавшим гайки. Самое главное у Чехова не замечали, пишет Гергарди. «Теперь заметят».
Бывает так: мгновенная известность, успеху читателей, уважение критиков, а потом быстрое или медленное угасание и, наконец, забвение. Роман «Ольга Орг» и сборник «Орда» были когда-то притчей во языцех и считались новым словом.
В 1920-е годы лондонский свет носил Гергарди на руках. Он был как бы полномочным литературным представителем России и Чехова. В1930-е, несмотря на похвалы Уэллса, Уо и Пристли, на огромную рекламу и покровительство самого Бивербрука, короля печати, Гергарди, в новых романах повторявший мотивы «Тщетности», потерял читателя. Он остался воспоминанием: «Все мы вышли из Гергарди, как из гоголевской «Шинели»» (Оливия Мэннинг); «Он был главным писателем нашей молодости» (Грэм Грин).
Мне имя Гергарди впервые встретилось в переписке Набокова. «Я никогда не читал г-на Гергарди и не слыхал о нем, пока его имя не упомянула однажды на коктейль-парти в конце 1950-х годов леди Сноу, и не понимаю, кому выгодно распространять полную ерунду, будто он на меня как-то «повлиял»». Это письмо к Бо Гуннарсон (впоследствии автору диссертации о романах Гергарди). С другой стороны, Дайдо Дэвис в своей биографии пишет, что успех других стал раздражать Гергарди и что приглашение (от Г. П. Струве в 1937 году) на вечер «блестящего молодого русского романиста Владимира Набокова-Сирина», а через два года — на встречу с «самым интересным русским автором наших дней» («два с половиной шиллинга за вход ввиду отчаянно бедственной ситуации писателя») нанесло ему болезненную рану. Он отказался прийти.
Многие верят в магию имен.
Фамилия Чеховых должна была бы произноситься «Чоховы», ведь в ней под ударением не ять, а е перед твердой согласной, и вряд ли происходит она от этнонима «чех». Двоюродные братья Чехова были «Чоховы», и в переписке с братом Александром он упоминает их так: «Ты не Чохов». Трудно представить себе Антона Чохова автором «Чайки».
Помнил ли об этом Гергарди? На склоне лет, в 72 года, отшельник, удрученный литературными неудачами, он решил прибавить к своей фамилии букву е, как подписывался его прапрадед, амстердамский печатник, и поместил полушутливое-полупечальное объявление в лондонской «Таймс», объясняя, зачем он хочет изменить имя, которое сделал знаменитым: «У Данте есть е, у Шекспира есть е, у Расина есть е, у Гёте есть е, а кто я такой, чтобы не иметь е?»
Он стал Gerhardie. Но и это была тщетность.
Примечания
1
Першинг, Джон Джозеф (1860–1949) — американский генерал, в годы Первой мировой войны командующий американскими экспедиционными силами (здесь и далее прим. пер.)
(обратно)2
Общепринятое неофициальное название флага Великобритании.
(обратно)3
Комендант, офицерский чин бельгийских военно-воздушных сил, по званию выше капитана и ниже майора.
(обратно)4
Княгиня (фр.)
(обратно)5
Делл, Этель (1881–1939) — английская писательница, автор популярных любовных романов, действие которых обычно происходит в британских заморских владениях.
(обратно)6
Не так ли, сударыня? (фр.)
(обратно)7
А, дружище! (фр.)
(обратно)8
Что поделаешь? (фр.)
(обратно)9
На Берлин! На Берлин! (фр.)
(обратно)10
Ну, вот вам и японец!.. Верно! (фр.)
(обратно)11
Мужайтесь! Мужайтесь (фр.)
(обратно)12
Эммануил, ты пойдешь… Эммануил, ты сделаешь… Хорошо, ангел мой (фр.)
(обратно)13
О Боже, нет! (фр.)
(обратно)14
Ну и имечко! (фр.)
(обратно)15
Здесь: О да! (фр.)
(обратно)16
Ну, разумеется, сударыня! (фр.)
(обратно)17
Бедняга (фр.)
(обратно)18
Да, мама… Нет, мама (фр.)
(обратно)19
Не угодно ли сударыне? (фр.)
(обратно)20
Имеется в виду Оксфордский союз — крупнейший дискуссионный клуб, основанный в 1823 году.
(обратно)21
Тетя (фр.)
(обратно)22
Тизана, настой из трав.
(обратно)23
Хорошенькие, правда? (фр.)
(обратно)24
В конце концов, это не Париж! (фр.)
(обратно)25
Милашки (фр.)
(обратно)26
Известный веселый квартал Токио.
(обратно)27
Возлюбленная смерть (нем.) — ария Изольды из оперы «Тристан и Изольда» Р. Вагнера.
(обратно)28
Здесь и далее перевод М. Абкина.
(обратно)29
Отрывок из поэмы английского поэта Ричарда Крэшо (1613–1649) «Избиение младенцев», вольного перевода одноименной поэмы Джамбаттиста Марино (1569–1625) (пер. С. Шорпша)
(обратно)30
У. Шекспир, «Буря», сцена 2 (пер. М. Донского).
(обратно)
31
Цитата из сочинения английского искусствоведа и историка Уолтера Горацио Патера (1839–1894) «Ренессанс. Очерки искусства и поэзии» (1873) (пер. В. Дажиной).
(обратно)32
Вздернутый (фр.)
(обратно)33
Хлам (фр.)
(обратно)34
Войдите! (фр.)
(обратно)35
— Но, сударыня, это же просто чудовищно, до чего холодно! — Ах, ну разумеется, Берта! (фр.)
(обратно)36
Ну что ж (фр.)
(обратно)37
Боже милостивый (фр.)
(обратно)
38
Ах, ну разумеется, сударыня! (фр.)
(обратно)39
Полноте, полноте! (фр.)
(обратно)40
Мужайся, дружочек! (фр.)
(обратно)41
Вельможу (фр.)
(обратно)42
Твой любящий брат Люси (фр.)
(обратно)43
Одну-единственную (фр.)
(обратно)44
Братский… преступный (фр.)
(обратно)45
Не преступный, а совершенно естественный (фр.)
(обратно)46
Мнимая больная (фр.)
(обратно)47
Благовоспитанности (фр.)
(обратно)48
Мое ирландское дитя! (нем.)
(обратно)49
Беннет, Арнольд (1867–1931) — английский писатель, многие годы проживший во Франции.
(обратно)50
Ужин на двоих (фр.)
(обратно)51
Двойной бульон (фр.)
(обратно)52
Яичница с сюрпризом (фр.)
(обратно)53
Мятный ликер (фр.)
(обратно)54
Это война! (фр.)
(обратно)55
Прощайте, сударыня… Прощайте, моя бедная Матильда (фр.)
(обратно)56
Теперь мое исчезло горе, час отрадный наступил, мое исчезло горе, час отрадный настал!
Ты опять со мною, и оковы не страшат теперь меня (фр.)
(обратно)57
«Расскажите вы ей, цветы мои…» (фр.) — начало арии Зибеля из оперы «Фауст» Ш. Гуно.
(обратно)58
Такое порой случается (фр.)
(обратно)59
Песнь Песней, viii, 6.
(обратно)60
Будьте любезные, передайте мне соль (фр.)
(обратно)61
Черт побери! (фр.)
(обратно)62
А толку? (фр.)
(обратно)63
Шурина (фр.)
(обратно)64
Ах, вот как! Восхитительно (фр.)
(обратно)65
Ах, вот как! Ну да (фр.)
(обратно)66
Мне очень жаль (фр.)
(обратно)67
Тирпиц, Альфред фон (1849–1930) — адмирал, создатель германского военно-морского флота.
(обратно)68
Хорват, Дмитрий Леонидович (1858–1937) — русский генерал, инженер-путеец, с 1902 г. — начальник строительства Китайско-Восточной железной дороги, а с 1908 г. вплоть до 1919 г. — управляющий КВЖД, с 1918 г. Верховный Уполномоченный Российского Правительства на Дальнем Востоке. С августа 1919 г. жил в Харбине. Умер в Пекине.
(обратно)69
Полусвета (фр.)
(обратно)70
«Во Францию два гренадера…» (нем.) — начало популярной песни на слова Г. Гейне.
(обратно)71
Молчание, друг мой! (фр.)
(обратно)72
Дома, в семье… Конечно… серьезны… глупости… Никогда в жизни! (фр.)
(обратно)73
Соус муслин (фр.)
(обратно)74
Сударыня, мы военные, отнюдь не доктора (фр.)
(обратно)75
Прошу прощения, сударыня (фр.)
(обратно)76
В Америку! Просто черт знает что! (фр.)
(обратно)77
Строчки из хрестоматийного духовного гимна, сочиненного английским поэтом и священником Чарльзом Уэсли (1707–1788).
(обратно)78
Подумать только! Еще одна! Настоящий потоп! (фр.)
(обратно)79
С сыном (фр.)
(обратно)80
Просто шик! (фр.)
(обратно)81
Я не сержусь (нем.) — песня Р. Шумана из цикла «Любовь поэта» на слова Г. Гейне (пер. И. Анненского).
(обратно)82
Дьявольская жара! (фр.)
(обратно)83
Ах, ну конечно, не может! (фр.)
(обратно)84
Это глупо, в конце концов! (фр.)
(обратно)85
Куэ, Эмиль (1857–1926) — французский психотерапевт, изобретатель метода сознательного самовнушения, основанного на вытеснении болезненных негативных представлений позитивными.
(обратно)86
Да здравствует Россия! (фр.)
(обратно)87
Такая трагедия! (фр.)
(обратно)88
Свояченица… чего же вы хотите?.. конечно… нашего брата военного (фр.)
(обратно)89
Дедушкину саблю (фр.)
(обратно)90
Иов, 19, 25.
(обратно)91
Цитируются почти дословно слова из финала «Смерти Ивана Ильича» Л.Н. Толстого.
(обратно)92
Мой бедный друг… моя дорогая (фр.)
(обратно)93
Дядя! (фр.)
(обратно)
94
Китченер, Гораций Герберт 1860–1916) — знаменитый британский военачальник, фельдмаршал, командующий британскими колониальными войсками в Судане, Индии, Египте, главнокомандующий британскими войсками в англо-бурской войне. В 1914–1916 гг. — военный министр в правительстве Г. Г. Асквита.
(обратно)95
Вечно-женственное (нем.)
(обратно)96
Мой бедный брат! (фр.)
(обратно)97
Цитата из пьесы Р. Б. Шеридана (1751–1816) «Критик, или репетиция одной трагедии» (1779) (пер. М. Богословской и С. Боброва).
(обратно)98
Стихотворение Р. Вагнера из оперы «Тристан и Изольда», использованное английским поэтом T. С. Элиотом в его поэме «Бесплодная земля» (пер. А. Сергеева).
(обратно)99
Здесь: высшая (лат.)
(обратно)100
Начальный стих книги «Песни песней Соломона».
(обратно)101
Карпентье, Жорж (1894–1975) — знаменитый французский боксер, чемпион мира.
(обратно)102
Она не пойдет (фр.)
(обратно)103
Она останется дома. Значит, до завтра! (фр.)
(обратно)
104
Götterdämmerung (нем.) — «Гибель богов», опера Р. Вагнера, четвертая часть цикла «Кольцо Нибелунга».
(обратно)105
Фрагмент из новеллы Г. де Мопассана «Волосы» (пер. В. Шишова).
(обратно)106
Имеется в виду роман А. Франса.
(обратно)107
Домашние тапочки (фр.)
(обратно)108
Приличиями (фр.)
(обратно)109
Мы очень спешим (фр.)
(обратно)110
Прощай, мой бедный Гюстав! (фр.)
(обратно)111
Экие, однако, мерзавцы эти чешские машинисты! (фр.)
(обратно)112
Это ужасно (фр.)
(обратно)113
Называются популярные в свое время английские романисты: Гильберт Франкау (1884–1952), Эдвард Монтегю Комптон Макензи (1883–1972), Стивен Мак-Кенна (1888–1967).
(обратно)114
На войне как на войне (фр.)
(обратно)
115
Представьте себе!.. Уроды!
(обратно)116
На родину (фр.)
(обратно)117
Роман французской писательницы графини де Cегюр (1799–1874), урожденной Софии Ростопчиной.
(обратно)
118
Ну что тут поделаешь! (фр.)
(обратно)119
Уида (псевдоним Марии Луизы де ла Раме, 1839–1908) — английская писательница, автор множества авантюрно — сентиментальных романов из великосветской жизни.
(обратно)120
Довольно! (фр.)
(обратно)121
В. Шекспир, «Гамлет», акт V, сиена 1 (пер. М. Лозинского).
(обратно)122
Керзон, Джордж Натаниэль (1859–1925) — английский политический деятель, министр иностранных дел в 1919–1924 гг.
(обратно)123
Фирменное название мясного экстракта для бульона.
(обратно)124
Вы не видали в саду бабушкиных панталон? (фр.)
(обратно)
125
Это человек? Нет, это стул (нем.)
(обратно)126
Ордену Леопольда I (фр.)
(обратно)127
Концовка романа «Отцы и дети».
(обратно)128
Эммануил, довольно! — Да, но это странно! (фр.)
(обратно)129
Прекратите! Ах! Ну, мы посмотрим! (фр.)
(обратно)130
Танец живота (фр.)
(обратно)131
В месяц (лат.)
(обратно)132
Первые строки известного церковного гимна на слова английского поэта и священника Генри Фрэнсиса Лайта (1793–1847).
(обратно)133
Фрагмент из стихотворения И. В. Гёте «К месяцу» (пер. В. Левика)
(обратно)134
«Плевать мне на всех!» (фр.)
(обратно)135
Ударом (фр.)
(обратно)136
Винегретом (фр.)
(обратно)137
Эссе впервые опубликовано: «Звезда», 2010, № 5, С. 215–223.
(обратно)(обратно)
