Дорогой мужества (fb2)
Дорогой мужества
Д. Хренков САПЕРЫ ПРЕГРАЖДАЮТ ПУТЬ
Маленькая заметка, перепечатанная районной газетой «Псковский колхозник» из «Военно-инженерного журнала», вызвала живейший отклик читателей. В заметке шла речь о героях, взорвавших в июле 1941 года мост через реку Великую. Взрыв моста задержал на некоторое время наступление фашистских войск на дальних подступах к Ленинграду, позволил советскому командованию выиграть время, столь дорогое в ту тяжелую пору.
Это был подвиг, и правительство высоко оценило его. Командиру саперов младшему лейтенанту Семену Григорьевичу Байкову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Остальные шестеро — Алексеев, Анашенков, Никитин, Панов, Хамляшов и Холявин — были награждены орденами Ленина.
Перепечатывая эту заметку, редакция рассчитывала найти людей, которые могли бы помочь воссоздать картину подвига или знавших кого-нибудь из числа погибших саперов. И вот в редакцию посыпались письма. Первым откликнулся пенсионер Федор Федорович Федоров из деревни Большие Жезлы. Он сообщил о своей встрече с братом Андрея Ивановича Анашенкова, который сказал ему, что не все саперы погибли. Еще более добрые вести были в письме Владимира Николаевича Носова из деревни Петрово. Он подтвердил, что некоторые герои, взрывавшие мост, живы.
Не ошиблись ли авторы писем? Как могло случиться, что люди, семнадцать лет считавшиеся погибшими, живут и работают чуть ли не по соседству с теми рубежами, на которых воевали, и не знают о том, как отметила страна их заслуги?
ВСТРЕЧА С ГЕРОЯМИ
И вот наша машина мчится по шоссе Ленинград — Псков. Слева и справа мелькают поля, перелески, сбегают с пригорков ладно срубленные дома. Дорогие сердцу места! В годы войны мне их пришлось исколесить вдоль и поперек дважды: сперва в 1941 году, потом в 1944-м.
Вон в том редком кустарнике стояли две машины со счетверенными пулеметными установками. Командовал ими молоденький лейтенант в новенькой гимнастерке, перетянутой хрустящими ремнями. Звали его Владимиром Масковым. Он сбил два фашистских самолета, летевших на Ленинград. Недолго воевал Масков: отражая очередной налет вражеской авиации, он погиб. Его похоронили под густой березкой.
И эта развилка памятна. В июле 1941 года здесь стоял танк Анатолия Ковалевского. Анатолий дрался на ближних подступах к Ленинграду и мечтал о наступательных боях. Ему довелось дожить до них: Ковалевский участвовал в разгроме немецко-фашистских захватчиков в 1944 году, уже командуя танковой бригадой. После форсирования реки Великой на его груди засверкала Золотая Звезда.
Сколько крови пролито на этой опаленной пожарами, истерзанной взрывами земле! Сколько похоронено в ней товарищей!..
А машина все мчится и мчится вперед. Вот и совхоз «Торошино». Если верить одному из авторов писем, здесь мы должны найти Никитина. Спрашиваем первого встречного:
— Вы не знаете, где живет Никитин?
— Который? Петр?
— Да, Петр Кузьмич.
— А вон он, собственной персоной. Плотничает.
Через минуту машина останавливается у выстроившихся словно для парада только что отремонтированных телег. Невысокий русоволосый плотник ловко обтесывает топором бревно.
— Здравствуйте, Петр Кузьмич.
Плотник не спеша откладывает в сторону топор, вытирает тыльной стороной ладони пот со лба и, прищурив глаз, отвечает:
— День добрый.
Мы взволнованы встречей и спешим узнать, тот ли это человек, которого разыскиваем.
— Да, это нам выпало взрывать мост, — просто, как о своей работе в совхозе, говорит Петр Кузьмич.
И это — не рисовка. Чувствуется, что боевой подвиг был для него тоже работой. А свою работу он не привык переоценивать. Постепенно воспоминания захватывают нашего собеседника. Речь его не становится торопливой, только глаза, пожалуй, светлеют, — может быть, потому, что лицо Петра Кузьмича разглаживается, а на впалых щеках появляется едва заметный румянец. Он называет уже известные нам имена товарищей. Но нам не терпится. Мы перебиваем, справляемся, живы ли они.
— Живы, что им сделалось? — улыбается Никитин. — Двое — Холявин и Алексеев — тут недалече, в колхозе «Согласие» живут. Можем сходить к ним.
Не прошло и часу, как в деревне Подборовье в просторной избе Ивана Ивановича Холявина собралось трое из семи героев-саперов: Петр Кузьмич Никитин, Павел Иванович Алексеев и сам хозяин.
Все трое — бывалые солдаты. Боевую закалку и первые ранения они получили еще в войну с белофиннами. Незадолго до начала Великой Отечественной войны были призваны на очередной сбор переменного состава. Учебу проходили в 50-м отдельном моторизованном инженерном батальоне. Этот батальон в июле 1941 года участвовал в обороне Пскова.
О многом вспомнили ветераны в тот вечер. Не одна закрутка махорки успела вспыхнуть и догореть, прежде чем мы узнали волнующие подробности.
Никто из них до этого дня не знал о награде. И нам стало ясно, почему. Чтобы ясно было и читателю, нужно вес рассказать по порядку.
КАК ЭТО БЫЛО
В первых числах июля 1941 года на дальних подступах к Ленинграду обстановка для наших войск была крайне тяжелой. Группа фашистских армий «Север» настойчиво рвалась к городу. Ее ударную силу составляла 4-я танковая группа.
Измотанные в беспрерывных оборонительных боях, советские дивизии отошли к Пскову. Устали не только люди: моторы машин ревели натужно, стволы пушек не успевали остывать.
Любой ценой нужно было приостановить наступление врага. Советское командование решило взорвать все мосты через Великую. Это было поручено бойцам 50-го инженерного батальона.
— Нашему взводу достался железнодорожный мост, — вспоминает Иван Иванович Холявин. — Псковичи называют его Рижским. Младший лейтенант Байков привел нас в узенькие, успевшие кое где уже обвалиться окопы, вырытые на берегу. Большой души был человек наш командир. Всякое солдатское дело спорилось в его руках. Бывало, у тебя что-то не ладится. Он подойдет, покажет, и все сразу станет на место. Сам худо ничего делать не мог и никому спуску не давал.
Саперы подвезли к мосту около тонны взрывчатки и заложили в шести местах на фермах. К зарядам был подведен провод. Машинку для взрыва младший лейтенант установил в блиндаже. В ожидании команды солдаты расположились в неглубоком ходе сообщения.
С утра 8 июля на берегах Великой непрерывно рвались немецкие бомбы. Последние части Советской Армии спешили переправиться через реку…
Байков и его друзья услышали, как справа от них что-то тяжко ухнуло, земля вздрогнула. Это соседи взорвали свой мост. К полудню все мосты, кроме Рижского, были взорваны.
— А сидеть нам в своих окопчиках становилось невмоготу, — рассказывает Никитин. — Фашистские самолеты беспрерывно сыпали на нас бомбы, было трудно дышать от гари, на зубах скрипел песок.
— Жарко пришлось, — вмешивается Алексеев. — Да еще не евши весь день. Старшина не мог к нам пробраться. Может, и связной где-нибудь полег…
Наконец пробил час и Рижского моста. Саперы получили приказ о взрыве. Младший лейтенант Байков отдал последние распоряжения. Но именно в это время на противоположном берегу началась частая ружейно- пулеметная перестрелка. Потом показались люди, одетые в зеленые гимнастерки. Байков послал на тот берег разведку. Одним духом бойцы проскочили по гулкому настилу на противоположный берег. Оказалось, что к мосту с боем пробивается наш артиллерийский дивизион. Он шел с пушками, повозками.
Никто бы не осудил командира саперов, если бы он повернул рукоятку машинки. Больше того, сейчас Байков по всем писаным законам действовал неосмотрительно.
Но сапер понимал, что именно в эту минуту, не предусмотренную никакими приказами и распоряжениями, нужно поступить иначе. Он первым выдернул из лежавшего штабеля длинную доску и помчался с ней на мост. Его без слов поняли солдаты. Досками, бревнами, всем, что попадалось под руки, они устилали пролеты железнодорожного моста, чтобы по нему смогли пройти артиллеристы. Потом саперы залегли в своих окопчиках.
Едва прогрохотала последняя повозка, к мосту вышел тупорылый приземистый танк. Из башни его вырвался короткий желтый язык пламени. Звук выстрела потонул в грохоте. Неподалеку от Никитина вздыбился фонтанчик земли.
Пора!
Младший лейтенант повернул ручку электрической машинки. Взрыва не последовало. Еще раз — тот же результат.
Стало ясно: осколками перебит провод. Теперь оставался один выход — поджечь заряды. Но для этого нужно было бежать под огнем на мост.
Байков вытащил из сумки бикфордов шнур.
— Разрешите мне, — вызвался Никитин. — Рисковать — так одному.
— Нет, нельзя рисковать, — сказал командир. — Пойдем вшестером. Остальные — огонь, да не жалеть патронов!
Байков роздал солдатам отрезки бикфордова шнура. Самый длинный взял себе, другой дал Панову. Им предстояло бежать к дальним от берега зарядам.
— Пошли!
Командир знал, что не все вернутся назад. А ведь у каждого дома осталась семья. Он, отвечающий за судьбы солдат, не мог не подумать о них. Байков хотел сказать товарищам что-то необычное, окрыляющее, но не мог найти нужных слов и только настойчиво повторил:
— Пошли!
Выскочив из окопчика наверх, он побежал так стремительно, что широкая гимнастерка на его спине наполнилась ветром, как парус. Командир ни разу не оглянулся, — он чувствовал за спиной горячее дыхание бегущих.
Секунду назад над берегом бушевала гроза: метались, перепутываясь, красные и голубые метлы трассирующих пуль, звонко лопались мины, тяжко вздыхали пушки. Но когда саперы выскочили на мост, все вдруг смолкло. Видно, этот неожиданный бросок горстки людей вызвал у гитлеровцев удивление, и они прекратили огонь. Смельчакам удалось добежать до зарядов… И вот уже вспыхнули на мосту красные точечки горящего шнура.
«Бегом назад!» — услышал Никитин голос командира.
И, словно подхлестнутые этой командой, заговорили все виды оружия на обоих берегах. Надвое раскалывали воздух орудия нашего бронепоезда. Стоя почти у самого берега, он в упор расстреливал немецкие танки, пытавшиеся выскочить на мост.
Никитин оглянулся. За ним бежал Байков. Как капитан судна, обреченного на гибель, последним покидает борт корабля, так и младший лейтенант Байков последним оставлял мост. Никитин подумал, что командир промедлил, желая убедиться, все ли сделано так, как он любил, — надежно, основательно. Командир улыбнулся. Эту улыбку хорошо запомнил Никитин. Она не исчезла с лица Байкова и тогда, когда вражеский танк метнулся на мост.
В это мгновенье, сотрясая всю округу, грянул взрыв. Огненные языки лизнули край низко плывших облаков. За ними потянулись в небо клубы дыма… Когда смолкло эхо и рассеялся дым, не было ни тупорылого танка, ни бежавших за ним фигурок в мундирах мышиного цвета. Над берегом повисла тишина. Лишь река кипела и пенилась у рухнувших ферм моста.
ПОСЛЕ ВЗРЫВА
У всех, кто наблюдал взрыв, не оставалось никакого сомнения в том, какая участь постигла героев. В тот же день 50-й батальон ушел в сторону Ленинграда. Пока писари писали похоронные, а в штабе оформлялись наградные листы, на берегу Великой происходило удивительное. Вот что рассказал нам Иван Иванович Холявин:
— Я очнулся, но долго не мог открыть глаза, а когда открыл, то увидел, что лежу наполовину зарытый в землю. Попытался подняться. Руки и ноги не слушались. Терял сознание. Снова приходил в себя. Сил не было, и я продолжал лежать, будто скованный по рукам и ногам. Сколько так пролежал, не знаю. Помню, что только глубокой ночью сумел выбраться. Потом долго сидел, не понимая, что произошло. Наконец встал и пошел через горящий город. Улицы были безлюдны. Никто меня не остановил, никого я не видел. Решил пробираться к дому. В Подборовье было пусто. Неподалеку гремел бой. Тропка вывела меня через лесок к своим. Какое-то подразделение занимало оборону чуть в стороне от шоссе. Мне дали винтовку и семнадцать патронов. Потом воевал под Новгородом. Однажды, когда мы были в разведке, среди нас нашелся предатель, мы угодили в плен…
В плену оказался и Павел Иванович Алексеев. Но ему вскоре посчастливилось бежать, а потом связаться с ленинградскими партизанами. Он воевал в составе 7-й партизанской бригады, а весной 1944 года стал бойцом 201-й стрелковой дивизии.
Остался в живых после взрыва и Андрей Иванович Анашенков. Отлежавшись на берегу, он сумел доковылять до дому. Жену и ребятишек не застал, они прятались в лесу. Анашенков на клочке бумажки нацарапал записку: «Был дома, ушел на Ленинград».
У околицы повстречал старика соседа.
«В лес пойдем, Андрюша. Теперь у нас один удел — хорониться».
«Нет, дед, мой удел другой. Кто же будет гнать фашистов назад!»
Как сложилась дальнейшая судьба этого солдата, пока установить не удалось.
— Я приходил в себя после взрыва, почитай, полный месяц, — говорит Петр Кузьмич Никитин. — Добрался до дому и как упал на пороге избы, так и не встал. В августе стал учиться ходить. Тут и подоспел ко мне полицай. Привел к военному коменданту, а тот на выбор предлагает: либо в полицию, либо в лагерь военнопленных. «Нет, говорю, никто у нас в роду полицаями не был, и мне не с руки подаваться на эту должность». Так оказался в лагере… Что перенес, про то говорить нечего. Стал тогда ловчить, прикидывать, и в один прекрасный день дал дёру. Убежал. А в таком разе перед русским человеком один путь оставался — в партизаны. Как саперу, знакомому с подрывным делом, мне в отряде особый почет был. Дважды пускал под откос немецкие эшелоны… В январе тысяча девятьсот сорок четвертого года наш отряд влился в ряды армии.
Летом в одном из боев на Карельском перешейке меня ранило. После госпиталя попал уже на Первый Украинский фронт, в стрелковый полк. Сперва воевал простым стрелком, а вернувшись в строй после очередного ранения, получил от командира погоны с нашивками младшего сержанта и принял отделение. Вскоре вышли мы к Одеру. Оттуда, с того берега, прямая дорожка до Берлина открывалась. Лодка попалась нам добрая. Двадцать три солдата взяла. Только не всем нам довелось до противоположного берега добраться. Уж очень сильный огонь был. Но все-таки мы пробились, оседлали развилку дорог и держались почти сутки, до тех пор, пока не подоспели на плацдарм наши основные силы. Тут снова все пошли вперед. А я остался: еще раз задержала меня в пути немецкая пуля…
В тысяча девятьсот пятьдесят третьем году пришла в военкомат на мое имя медаль «За отвагу». А теперь узнал, что награжден еще орденом Ленина и орденом Отечественной войны второй степени. Вот и выходит, что ни одно доброе дело в нашей стране не остается незамеченным…
Попытались мы найти и Николая Ивановича Панова. Его фамилия названа в приказе № 164 войскам Северо-Западного фронта от 15 февраля 1942 года о награждении отважных саперов. В Псковском городском военкомате проверили по книгам учета, кто из Пановых призывался в армию в 1941 году. Но тут нас ждало разочарование. Оказалось, что Пановы — одна из очень распространенных на Псковщине фамилий. Есть целые села, где чуть ли не каждый второй — Панов. Нам попадались Пановы артиллеристы, летчики, танкисты, но ни одного сапера. В это время подоспел ответ на запрос в архив Министерства обороны СССР. Оттуда сообщили, что в списках личного состава 50-го инженерного батальона числился Панов Павел Васильевич и жил он в деревне Заходцы Псковской области.
Казалось бы, поиски подходят к благополучному завершению. Надо было лишь убедиться, что именно этот Панов служил в 50-м батальоне. Снова отправляемся в военкомат, поднимаем карточки бывших военнослужащих, снятых с учета по возрасту. Наконец, перед нами карточка Павла Васильевича Панова. Он действительно служил в 50-м батальоне, сейчас проживает в Заходцах. Значит, он? Но почему же в приказе названы иные имя и отчество? Неужели при составлении наградных документов вкралась ошибка?
Едем в Заходцы. Павел Васильевич работает лесником на отдаленном участке. В лесу его не найти. Пришлось набраться терпения и ждать, пока он явится сам.
— Вы служили в пятидесятом батальоне?
— Служил.
— Мост в Пскове подрывали?
— А как же!
Мы готовы были обнять Павла Васильевича, поздравить его с наградой, как мы уже это делали с его товарищами. Но рассказ Павла Васильевича настораживает нас. Он совсем расходится с тем, что нам уже хорошо известно.
И тут осенила догадка:
— А вы какой мост подрывали?
— Как какой? Ольгинский.
— Значит, не Рижский?
— Нет, его подрывала специальная команда. Она последней в городе оставалась.
— А что вам известно о ней?
— Мало. Знаю только, что подрывники погибли геройской смертью. Может быть, вы в Торошино проедете? Там как-то я встретил плотника. Он из того взвода.
— Никитина?
— Его.
Поиски продолжались. И вот наконец в архиве мы узнали довоенный адрес Панова Николая Ивановича: «Ленинград, 1-й круг, дом 5, квартира 4».
Едем в Невский район и находим старые домовые книги дома № 5. В них записано несколько Пановых, в том числе Николай Иванович и его мать Александра Ивановна. В 1942 году Пановы переехали на Загородный проспект. Едем по новому адресу. Там нас ждала неудача: по этому адресу Пановы больше не проживают — Александра Ивановна умерла от голода. Тонкая нить следа вот-вот должна была порваться. Но жильцы первой квартиры дома № 15, узнав цель наших поисков, связывают нас с другими старожилами. Те вспоминают, что у Александры Ивановны была дочь Валя.
Нет нужды подробно рассказывать, как мы нашли Валентину Ивановну — сестру Николая Панова. Важен ее рассказ:
— Еще в тысяча девятьсот сорок первом году мы получили извещение о том, что Николай погиб смертью храбрых. С берегов реки Великой пришли к нам и его последние письма.
Валентина Ивановна достает маленькую фотографию. Открытое волевое лицо. На верхней губе — едва заметный шрам.
— Наверное, за эту отметку все звали Николая боксером, — продолжает сестра героя. — Он и впрямь был сильным, смелым…
* * *
Стояла ранняя весна, когда мы с героями саперами отправились к Рижскому мосту. На Великой еще держался лед, но высоко в небе плыли уже по-весеннему легкие облака. Мы идем по берегу.
— Тут я лежал! Видите, старый окопчик, — говорит Никитин.
Он показывает на едва заметную щель.
— А мой вот здесь, — ведет нас чуть в сторону Холявин.
Сохранился и крошечный блиндаж младшего лейтенанта Байкова.
Бывшие саперы несколько минут стоят молча, обнажив головы.
А недалеко от блиндажа, как памятник погибшим героям, возвышается мост, красивый, надежный. По нему паровоз тащит тяжелогруженый состав.
На рубежах войны торжествует жизнь.
Н. Масолов ОРЛИНОЕ ПЛЕМЯ — МАТРОСЫ
МОЛЧАНИЕ — ТОЖЕ ОРУЖИЕ
В один из августовских дней по улицам древнего Таллина в направлении к живописной горе Маарьямаа протянулись людские колонны. Гордо реяли боевые знамена и военно-морские флаги. Вместе с балтийскими моряками и воинами Советской Армии шли ветераны труда, пионеры. К ним присоединялись все новые и новые группы жителей эстонской столицы. Почти у каждого были в руках цветы.
На углу центральной улицы стояла небольшая группа иностранных туристов. Один из них обратился к проходившему мимо рабочему-эстонцу:
— Скажите, пожалуйста, почему такая масса людей? Что происходит?
— Переносятся останки Евгения Никонова, — ответил рабочий.
— А кто такой господин Никонов? Министр? Академик? — послышались новые вопросы.
— Нет, — последовал ответ, — Никонов — матрос, простой русский матрос.
Евгений Никонов! Его именем названа одна из улиц Таллина, в парке Кадриорг стоит памятник матросу- балтийцу. Зорко всматривается он вдаль. В правой руке моряк держит бинокль, а в левой крепко сжимает автомат. В штормовую погоду балтийские ветры доносят сюда мощное дыхание моря.
Чем же прославил свое имя матрос Никонов? Чем заслужил любовь народа?
Заканчивался второй месяц войны. Таллин был окружен с трех сторон. Фланги наступавших дивизий гитлеровцев уперлись в море.
Мужественно отстаивали каждую пядь земли красноармейцы, краснофлотцы и дружины эстонских рабочих. И днем и ночью озарялся вспышками выстрелов Таллинский рейд. Это вели огонь по врагу балтийские корабли.
В числе их был и лидер «Минск», на котором служил Евгений Никонов. Экипаж лидера часто читал семафор с флагманского корабля — крейсера «Киров»: «Командование сухопутных сил благодарит за эффективную стрельбу».
Во флот Евгений пришел по путевке комсомола. У него была нелегкая юность: рано остался сиротой, не окончив среднюю школу, пошел работать на завод. В школьные годы он не зачитывался книжками про плавания фрегатов и бригантин, не мечтал об океанских походах, но, ступив на палубу боевого корабля и совершив первый поход, понял: море требует — будь умелым и мужественным. И юноша принял этот вызов. Ревностное отношение к делу и высокая дисциплинированность помогли ему быстро освоиться с морской службой.
…На берегу вблизи Маарьямаа построены отряды моряков. Смолкла мелодия «Интернационала». К балтийцам, отправляющимся в бой, от имени политуправления флота обращается писатель Всеволод Вишневский:
— Помните, други, за вашей спиной не только Таллин, но и город великого Ленина. Туда, к священным невским берегам, рвутся фашистские гады. Стойте насмерть! Деритесь по-балтийски!
С таким напутствием ушел с отрядом моряков, возглавляемых политруком Шевченко, и Евгений Никонов.
Подавая командиру рапорт с просьбой послать его на помощь армейцам, он обещал: «Буду бить врага, как повелевает воинский долг и присяга. Экипажу за меня стыдно не будет».
Отряд Шевченко начал боевые действия спустя два часа после митинга, и с той поры не выходил из боя вплоть до ухода наших войск из Таллина. В стычках с врагом Никонов действовал отважно. В районе поселка Кейла он несколько раз ходил в разведку, приносил командованию ценные сведения о противнике. Однажды, возвращаясь из разведки, Евгений был ранен, но в госпиталь идти отказался.
18 августа 1941 года поредевший отряд Шевченко и несколько десятков таллинских рабочих закрепились в лесу на холмах близ хутора Харку. Окровавленные, с воспаленными от усталости глазами, моряки и рабочие отбили за день несколько атак моторизованной пехоты противника.
Когда на землю спустились сумерки, хутор Харку заметно оживился, там послышался гул моторов. Что замышляет враг? Решено было послать разведчиков. Пошли добровольцы Ермаченков, Антохин, Никонов… Потянулось томительное ожидание. Вдруг в кустарнике около хутора раздался одиночный выстрел, затем заговорили автоматы, ухнул гранатный взрыв. Разведчики не вернулись.
Миновала полночь. На хуторе стояла гнетущая тишина. Но вот там запылал огонь и раздался крик. Через несколько секунд он повторился. Бойцы услышали слова:
— Товарищи, отомстите!
Словно ветром подняло людей. Бесшумно и быстро матросы и рабочие приблизились к Харку. Еще минута, и вспыхнул бой — короткий, жестокий. Натиск был стремителен и смел. Гитлеровцы бежали.
Жуткая картина представилась глазам балтийцев: горел костер, над ним к дереву был привязан Никонов. Глаза у разведчика были выколоты, все тело в ножевых и штыковых ранах.
Пленные фашисты рассказали, что Никонов попал в их руки, потеряв сознание в бою с дозором. Ермаченков и Антохин погибли. Когда Евгений очнулся, перед ним стоял эсэсовский офицер. Его интересовало, какие части расположены у морского побережья, сколько матросов сошло с кораблей на берег, чем вооружен лидер «Минск». Никонов молчал. Его начали бить, прижигать тело сигаретами, колоть ножами. Ни слова. И лишь когда пламя забушевало у ног, Евгений крикнул товарищам, чтобы они отомстили за его мученическую смерть.
ПОДВИГ В КЕРСТОВЕ
Магистральная дорога Таллин — Ленинград. К ней примыкает шоссейный тракт, берущий начало из поселка Котлы. Справа и слева вдоль шоссе шумят на легком ветру хлеба, голубеют озерца северного шелка — льна.
В погожий летний день 1941 года по этому шоссе ползли фашистские танки. Близко, очень близко подобрался враг к Ленинграду!
Время приближалось к полудню, когда в село Керстово, расположенное на шоссе, вошли шестеро моряков. Опустевшее село казалось вымершим, и балтийцы были удивлены, когда в одном из окон мелькнуло лицо девочки-подростка.
Беженка Надя Румянцева в то утро оказалась единственным человеком, не покинувшим Керстова. Она принесла балтийцам ключевой воды. Напившись и перевязав раны, моряки попрощались со своей помощницей и заняли оборону за выступами здания каменной церкви. Старая кирпичная кладка, толстые стены и узкие, похожие на амбразуры, зарешеченные окна могли послужить смельчакам надежным укрытием.
С холма, на котором высилась старая церковь, хорошо просматривалась дорога на Ленинград. В полдень на ней показались фашисты. Было их много. Шли они уверенно, наглые, беспощадные. И тут заговорили пулеметы моряков…
Начался бой. Шестеро советских патриотов дрались против батальона. Гитлеровцы и раз, и другой пытались ворваться в центр села, но меткие пулеметные очереди преграждали им путь. Сатанели враги. Теперь уже более десяти пулеметов вели огонь по позициям моряков, в ход пошли и минометы.
Наконец иссякли патроны у балтийцев. Фашисты окружили холм. И тогда герои выбежали из-за укрытий, в окровавленных тельняшках, во весь рост. С криком: «Полундра! Круши гадов!» — они бросились в штыковую атаку…
Ночью жители Керстова Ксения Ивановна Тимошева и Андрей Федорович Жбанков похоронили растерзанные тела моряков. У двух из погибших под тельняшками в специальных карманах они нашли красные книжечки. Тимошева зарыла партийные билеты в кустах…
* * *
В последние годы удалось установить, что командиром, пославшим несколько небольших групп краснофлотцев в засаду на Ленинградское шоссе, был комендант морского аэродрома Сергей Илларионович Говорков. Коммунист-капитан почти до самого прихода фашистов оставался в районе аэродрома, организуя сопротивление оккупантам, ушел в леса последним, пробился к Ленинграду, сражался с фашистами на Ладоге и под Тихвином, где и погиб смертью храбрых в 1942 году.

Сергей Говорков
Старожилы Керстова рассказывают, что якобы один из погибших моряков бывал в селе до войны. Фамилия его Болотин. С ним приходил товарищ, тоже балтиец, родом из Гатчины.
Но фамилию одного из участников легендарного боя все же удалось установить. Однажды к учительнице Людмиле Ивановой, не сумевшей эвакуироваться, зашел пожилой немец, очевидно, антифашист. Он передал девушке письмо, найденное в кармане одного из убитых в районе Керстова моряков, и попросил переслать его родным героя после… войны.
Иванова выполнила эту просьбу летом 1944 года. У нее сохранился адрес. На посланное по этому адресу письмо ответила племянница погибшего. Лиля Ходакова прислала фотографию своего дяди Василия Дмитриевича Ходакова.
…У дороги, вблизи полуразрушенного здания церкви, стоит обелиск. Под ним спят вечным сном русские богатыри. На обелиске пока не указаны фамилии участников легендарного боя… Кто знал их, отзовитесь!

Василий Ходаков
ХРАБРЕЙШИЙ ИЗ ХРАБРЫХ
Уже грохотали корабельные пушки с Невы, уже шли бои под Ораниенбаумом, но бой за Ленинград не прекращался и за сотни миль от его застав — на островах Саарема (Эзель) и Хиума (Даго).
«Воротами в Балтику» называют этот архипелаг. Здесь выход в море из Финского и Рижского заливов
Осенью 1941 года Балтика заштормила рано. Малые корабли не смогли подойти к Эзелю и снять всех его защитников. Крупные суда ежедневно вели стрельбы с гаваней и рейдов Кронштадта. Редели ряды бойцов островных гарнизонов. Когда их осталось немного, они взорвали свои орудия и пробились к полуострову Сырве.
В те дни Москва получила последнюю весточку с Эзеля — радиограмму, данную открытым текстом. В ней была всего лишь одна фраза: «Радиовахту закрываю, иду в бой, в последний бой». На запрос: «Что делается на острове?» — радист успел передать только два слова: «Прощайте, прощайте…»
Душою последних боев на Эзеле были командиры-коммунисты. Храбрейшим из храбрых называли товарищи комбрига Гаврилова. Петр Михайлович и его солдаты не были моряками, но они по праву разделяют бессмертную славу защитников Балтики.
…Горстка матросов прижата к дюнам. Трехдневный бой измотал людей до крайности. Окопавшись в прибрежном ивняке, балтийцы отстреливаются редко — берегут патроны для последней схватки. И вдруг справа, из-за дюн, раздается громкое «ура!». Через мгновение в тылу фашистов показывается цепь атакующих красноармейцев. Впереди Гаврилов.
— Ребята, не отставай от комбрига! — несется по цепи.
Помощь подоспела вовремя.
Где появлялся в те страшные дни человек с седыми висками и орденом Красного Знамени на гимнастерке, там исчезала растерянность, лица утомленных бойцов озаряла улыбка. Из уст в уста передавались слова, сказанные Гавриловым матросам, прижатым к самому морю: «Хлопцы, неудобно, что море нам пятки лижет. А ну, пошли — потесним фрицев!»
И хлопцы пошли. В строй встали даже тяжелораненые. Моряки отбросили врага, прорвались к своим.

Петр Михайлович Гаврилов
В конце сентября 1941 года жена Гаврилова и его дочурка Юля чудом получили последнее письмо от Петра Михайловича. Подвергаясь ежеминутно смертельной опасности, Гаврилов писал семье: «Я жив и здоров, живу хорошо…»
Сохранилось еще одно письмо комбрига, письмо о… кукле. За несколько дней до начала войны жена и дочь Петра Михайловича уехали в Ленинград. Зная привязанность дочери к кукле — последнему его подарку, Гаврилов в разгар оборонных работ писал Юле: «Куклу твою я каждую ночь качаю, так как она плачет и вспоминает тебя. Я ее успокаиваю и говорю, что Юля на днях приедет, тогда она успокаивается и спит. Мне с ней прямо мучение, каждый раз ухожу, как следует не поспавши. Юлечка, я думаю, что вы с мамой скоро приедете…»
Святая ложь… Опытный командир (Гаврилов был участником советско-финской войны), Петр Михайлович прекрасно понимал, что вряд ли состоится желанная встреча. Но чтобы встретились другие отцы со своими детьми, он сделал все, что мог.
Последний раз отважного комбрига видели у пристани. Стоя в осенней воде, он хладнокровно руководил посадкой раненых на единственный катер, бывший тогда в распоряжении защитников Эзеля.
"ТОВАРИЩ ТЕНДЕР"
Кому довелось воевать на Ладоге, участвовать в десантах на левый берег Невы, тот помнит небольшие кораблики-скорлупки с несколько странным названием — тендера. Это был новый, совершенно незнакомый до Великой Отечественной войны, тип судов. Создали его золотые руки ленинградских корабельных дел мастеров. Мелкосидящие, умевшие хорошо маневрировать, тендера доставляли осажденному Ленинграду грузы, а в дни наступления были незаменимы в десантных операциях.
На Балтике эти суда уважительно называли «товарищ тендер». Политуправление флота даже листовку выпустило под таким названием.
Гитлеровцы при всяком удобном случае стремились расправиться с бесстрашными тружениками моря. Так было и в один из осенних дней 1941 года. В порт Осиновец шел небольшой караван. Его атаковала группа фашистских самолетов. В это же время поблизости находился тендер Малофеевского. На вооружении старшины и его подчиненных Гребешкова, Веселова и Слабожанина был один автомат и три винтовки. Казалось, вступить в бой с таким оружием против самолетов бессмысленно. Но экипаж тендера рассудил иначе. Драгоценный груз — хлеб для Ленинграда — находился в опасности, нужно было выручать караван. И тендер отважно начал бой. С его крохотной палубы к головному фашистскому самолету протянулась огненная трасса.
Удивленные такой отвагой, воздушные пираты решили разделаться со смельчаками. Два «мессершмитта» с ревом устремились к тендеру. Малофеевский, искусно маневрируя, стал отвлекать врага от каравана. Удивление сменилось злостью, когда гитлеровцы вновь увидели на тендере вспышки винтовочных выстрелов. Фашисты засыпали тендер снарядами и пулями. Был ранен Слабожанин. Пуля пронзила грудь Гребешкова. Но моряки продолжали вести огонь. Дважды раненный, Малофеевскнй вел тендер вперед.
Летчики сделали еще несколько заходов и… израсходовали весь боезапас. Караван был спасен. У истекающего кровью героя старшины хватило еще сил заделать пробоины и перевязать раненых товарищей…
Громкая, заслуженная слава окружала тендеристов. Хорошо сказал о них однажды летчик истребитель, барражировавший и зоне высадки десанта с тендеров:
— Я видел в бою мужество моих товарищей. Сами понимаете, профессия истребителя требует и крепких нервов, и умения не зажмуриваясь смотреть в глаза смерти. Но наивысшее напряжение у нас длится секунды, самое большое минуты. А у экипажей тендеров оно исчисляется часами. Я часто летал над ними, видел, как бьют по ним, а они хоть бы что, знай себе идут вперед, в самое пекло.
Отважные, бесстрашные люди воевали на тендерах. Во время одной операции тендер комсомольца Александра Коровина совершил к берегу, занятому неприятелем, 73 рейса. Три дня и три ночи без перерыва доставлял он к месту высадки десанта бойцов, снаряды, пулеметы и минометы. И все это делал под огнем. «Бронированным» прозвали своего старшину после этого боя тендеристы.
В дневнике тендериста Федора Светлова, погибшего смертью храбрых на Чудском озере в дни боев за Ленинград, была сделана такая запись:
«Я комсомолец. Родина доверила мне оружие. Всем тем, что у меня есть дорогого, я обязан своей Советской власти. Мой отец, до революции безземельный крестьянин, мечтал о таком дне, когда он сможет работать не на кулаков, а для себя. В нашей деревне сейчас богатый, хороший колхоз.
Я мечтал пойти на агрономические курсы, мечтал учиться, но началась война, и я стал бойцом. Я поклялся не жалея собственной жизни сражаться с врагами моей страны, сражаться до полной победы, и слово свое я сдержу. У меня небольшой корабль — тендер. Его сделали ленинградские рабочие. Когда они вручали нам этот тендер, то один из рабочих сказал: «Мал золотник, да дорог. Наш тендер не подведет вас в бою».
И действительно, сколько раз мне приходилось встречать на своем корабле опасность. Много раз немецкие самолеты сбрасывали бомбы. Мы заделывали пробоины и снова уходили в бой. Однажды командир сказал мне:
«Светлов, ты только что вернулся из боевого похода. У тебя на тендере есть повреждения. Сможешь ли все-таки через полчаса снова выйти на задание?»
«Так точно», — ответил я. И в моем ответе не было ни похвальбы, ни желания показать — вот какой молодец Светлов. Просто я знал: так нужно для дела».
НАДПИСЬ НА СКАЛЕ
Шел 1942 год. В Эстонии, на побережье, у группы скал, где берег круто поворачивает к югу, гитлеровцы затеяли какое-то секретное строительство. Враги очень сильно оберегали этот район. Подступы к нему охраняло специальное эсэсовское подразделение. Объект был обнесен колючей проволокой, через которую проходил ток высокого напряжения. Население с прибрежных хуторов выселили.
И вот однажды ночью за мысом на территории строительства раздался огромной силы взрыв. За ним последовал второй, еще более мощный. Через несколько минут огненный смерч бушевал на всем пространстве, обнесенном колючей проволокой.
Совершив подрыв секретного объекта, горстка советских патриотов, высадившихся у скал, отошла за мыс. Спуститься по отвесному ходу к катерам и уйти на них было возможно только в том случае, если бы кто-нибудь остался на скалах для прикрытия. Остались трое. Враги не замешкались. Поливая свинцом вершину утеса, они бросились в атаку.
Но тщетно!
Забрезжил рассвет, а гитлеровцы все еще не могли пробиться к утесу. Они обстреливали его из пулеметов, засыпали минами, но как только поднимались в атаку, их встречали меткие автоматные очереди. И тогда офицер-гитлеровец на ломаном русском языке обратился к балтийцам с предложением сдаться. Ответа не последовало. Взбешенный фашист начал угрожать пытками и ругаться. В ответ он услышал с утеса громкий насмешливый голос:
— Спокойно! Спокойно!
Этот голос, повторявший всего лишь одно слово, теперь звучал со скал каждый раз, когда гитлеровцы бросались к утесу. Затем следовал точный огонь.
Прошло несколько часов, а утес по-прежнему оставался неприступным. Лишь к полудню стих огонь и смолк насмешливый голос. Враги ползком забрались на скалу. На вершине ее они думали найти десятки трупов, но обнаружили, что сражались несколько часов с тремя десантниками.
Ночью разыгрался шторм. Воспользовавшись непогодой, эстонские рыбаки пробрались на вершину и похоронили балтийцев.
Бьются волны у базальтовых скал. На вершине мыса, названного народом Спокойным, вот уже много лет стоит огромный камень. На его стороне, обращенной к морю, неведомо кем высечено:
Павел Мурашкин.
Камил Мухамеджанов.
Оле Метсаар.
1942 год.
В. Пашкин АТАКУЮТ ЮНГИ
РОМАНТИКИ МОРЯ
Летом 1940 года в Ленинграде от пристани у Большого Охтинского моста отошел пароход «Володарский». Пароход шел вверх по Неве. Миновав Шлиссельбург, он взял курс на север, к острову Валаам, где на вершине горы, покрытой шапкой вековых сосен, высился пятиглавый собор, а выросшие среди крутых гранитных скал рябины склонили пурпурные гроздья над водами седой Ладоги.
Всю дорогу на пароходе не смолкал веселый гомон. Пассажиры «Володарского» — пятнадцатилетние и шестнадцатилетние подростки — толпились на верхней палубе, спорили, шутили, пели. То и дело звучали слова — кабельтов, миля, на траверзе, на румбе… Совсем недавно эти мальчишки гоняли голубей, играли в «казаки-разбойники», а на уроках дергали девчонок за косички. Теперь они — юнги, точнее еще не юнги, но едут учиться в школу боцманов. Как же не чувствовать себя «морскими волками»!
Валаам на будущих моряков произвел огромное впечатление. Тенистые сады, дивные леса, живописные скалы, заброшенные отшельнические скиты. Седой стариной веяло от домика, в котором но преданию останавливался Петр Первый, от уникальных солнечных часов на площади перед зданием школы, да и от самих метровой толщины стен здания, где раньше была монастырская гостиница.
Юнги вместе с курсантами боцманами готовили помещении для занятий. Ломали стены в узких кельях, чтобы оборудовать светлые и просторные классы и кубрики. Романтикам моря пришлось изучить множество профессий и специальностей. Они были каменщиками и плотниками, штукатурами и малярами, столярами и слесарями.
Морскую практику юнги проходили под руководством капитан-лейтенанта Е. Л. Костюченко. Бывший боцман с линейного корабля «Андрей Первозванный», участник штурма Зимнего дворца, человек, отдавший всю свою жизнь флоту, Емельян Лаврентьевич горячо привязался к своим воспитанникам. Много интересных историй поведал он им о военных моряках времен гражданской войны. Затаив дыхание, слушали юнги рассказы о том, как моряки линкора «Андрей Первозванный» участвовали в подавлении мятежа белогвардейцев на фортах Красная Горка и Серая Лошадь; о походе вокруг Скандинавского полуострова крейсера «Аврора» и учебного корабля «Комсомолец»; о том, как ходил в Англию линкор «Марат», как мастерски становился он на фертоинг на глазах у изумленных англичан. И хотя о себе Костюченко не любил говорить, ребята от старших курсантов узнали, что часы, на которые частенько поглядывает Емельян Лаврентьевич, были подарены ему командиром линкора Галлером за отвагу в боях с белогвардейцами.
Частыми гостями в кубриках юнг были комиссар школы Зеленков и политрук роты Лапин. Политрук участвовал в войне с белофиннами. Он часто говорил юнгам, как важно на войне уметь хорошо маскироваться, окапываться. Некоторые из его фронтовых товарищей считали, что строевая подготовка, штыковой бой, окапывание не нужны морякам, и это было их большой ошибкой.
Незаметно пролетел год учебы. Окрепли, возмужали юнги… Они научились рыть окопы, метко бросали гранаты, хорошо стреляли, лихо кололи штыком.
В субботу 21 июня 1941 года курсанты-боцманы и юнги ушли в шлюпочный поход вокруг острова. Утром следующего дня, когда длинная кильватерная колонна шлюпок, одетых в белоснежные паруса, подошла к Монастырской бухте, к шлюпке, на которой находился начальник школы капитан 3-го ранга Воспанков, подлетел быстроходный катер.
— Война! — крикнул в мегафон матрос.
ОТЧИЗНА ЗОВЕТ
Валаам стал маневренной базой Ладожской военной флотилии. Сюда прибыла 4-я морская бригада под командованием генерал-майора Ненашева.
10 сентября Ненашев и военком бригады полковой комиссар Вайда подписали приказ о создании роты юнг. Командиром роты был назначен преподаватель тактики пехоты лейтенант Василий Павловский, политруком — Даниил Лапин. Части морской бригады в это время уже втягивались в битву на берегах Невы. Во второй половине сентября батальон под командованием капитана Роева, поддержанный артиллерийским огнем 115-й стрелковой дивизии, стремительным броском форсировал Неву вблизи поселка Московская Дубровка. Морские пехотинцы зацепились за берег и с упорными боями стали закрепляться на простреливаемом со всех сторон клочке земли.
Днем и ночью гремела теперь канонада над Невой. Огонь вражеских пулеметов и минометов мешал продвижению балтийцев.
Нужно было уничтожить огневые точки противника. Выполнение этой трудной задачи командование бригады решило возложить на батальон капитана Пономарева, в состав которого входила рота юнг. Начальник штаба бригады полковник Ярыгин вызвал на командный пункт Пономарева и Зеленкова, ставшего комиссаром третьего батальона. Выслушав их рапорт, генерал сказал:
— Необходимо на рассвете форсировать Неву. Точка высадки — излучина реки, в полутора километрах южнее батальона Роева. Крайне важно уничтожить огневые точки фашистов у противотанкового рва, а затем развить наступление в направлении деревни Арбузово. Следует учесть, что ширина Невы в месте высадки около шестисот метров. Десантники должны быть хорошими гребцами. Не исключена возможность, что операция будет проходить под сильным артиллерийским и минометным огнем противника, у него большое преимущество в боевой технике. И от того, как поведут себя бойцы, зависит исход всей операции. Задача очень ответственная, и выполнить ее смогут только люди беззаветной храбрости. Есть у вас такие люди?
— Есть, — ответил Зеленков. — На боевое задание пойдет первая рота. Это — юнги и курсанты-боцманы.
— Юнги? — спросил генерал. — А справятся ли они?
— Справятся, товарищ генерал, — ответил Пономарев. — Командует ими опытный командир лейтенант Павловский.
— А политрук роты Лапин — участник финской войны, разведчик, много раз ходил в тыл к белофиннам, — добавил полковник Ярыгин.
— Ну что ж, — после минутного раздумья решил генерал. — В добрый час!
…Наступила последняя ночь перед боем. Первую роту разместили на отдых в помещении школы. Не спится. Молодые моряки беспокойно ворочаются с боку на бок, прислушиваясь к монотонному шуму дождя.
У классной доски низко склонились над столом два друга: комсорг роты Николай Ивашкевич и поэт школы — боцман Алексей Белоголовцев. При свете чадящей коптилки они выпускают боевой листок «Полундра». Ночную тишину нарушает вдруг звонкий голос юнги Козлова:
— Не хочу спать и не буду. Комсорг, — обращается он к Николаю, — разреши, пожалуйста, Лёне Перелечу сыграть что-нибудь!
— «Раскинулось море…», «Железняка»! — раздаются голоса.
— Тихо, хлопцы! — строго говорит Ивашкевич. — Приказано отдыхать, значит нужно отдыхать. Через четыре часа подъем. Ясно?
Долговязый Перепеч, уже потянувшийся к баяну, неохотно ложится на топчан.
— Ребята, а ребята, — громко шепчет неугомонный Шура Блохин. — А здорово сегодня Кондратьев воевал с телегой.
Юнги громко смеются, вспомнив, как днем во время воздушного налета Борис Кондратьев вместо того, чтобы укрыться в щель, залез под телегу и зацепился хлястиком шинели за гвоздь в ее днище. Старшина Тарасов приказывает: «Прыгай в щель», а Борис не может отцепиться. Он вперед, и телега за ним, он назад, и телега туда же. Наконец, вырвав вместе с хлястиком добрый кусок сукна, Борис освободился от телеги и юркнул в щель.
— Ладно, хватит вам, — просит друзей Кондратьев. — Под телегу больше не полезу, это уж точно. Досталось мне от старшины за порванную шинель. Это похуже бомбежки.
В другом конце класса вполголоса разговаривают двое.
— Слушай, Гошка, — тихо шепчет, обращаясь к Дубову, Николай Милосердов. — К нам в роту прислали двух девушек, медички. Хорошенькие. Одну зовут Дора, фамилия Беликова. Она из Ленинграда, а со второй поговорить не удалось, вызвали их к лейтенанту.
— Успел познакомиться? Ну и ловок же ты. Колька. Давай спать, донжуан, утром нам не до девушек будет.
В углу у печки тихо говорят между собой Николай Зайцев и Василий Кодин.
— Коля, давай обменяемся адресами. Хорошо?
— Зачем?
— А вдруг… Если что случится, напишешь матери…
— Добро, Вася. И ты напиши, если что…
Забрезжил рассвет. Наступил день 23 сентября 1941 года. Моросил мелкий и частый дождик. Над полуразрушенным поселком, над широкой гладью Невы повис густой, серый туман. Пахло дымом и гарью. Фашисты, боясь ночных атак, каждую ночь сбрасывали осветительные бомбы и стреляли по домам поселка зажигательными снарядами.
Прозвучал сигнал подъема. Юнги окружили комиссара Зеленкова. В полинявшей от солнца гимнастерке, крепкий, загорелый, стоял он перед ними с зажатой в руке фуражкой. Внимательно осмотрел молодых балтийцев, притихших и серьезных, взволнованно заговорил:
— Друзья мои, сегодня у нас боевой экзамен. Сдавать его пойдем вместе. Это будет бой за наш родной и любимый Ленинград. Дадим же клятву отстоять его!
— Клянемся!
— Не дрогнем!
ДРАЛИСЬ ПО-ФЛОТСКИ
Под прикрытием тумана рота спустилась в глубокий овраг, по дну которого текла маленькая речушка Дубровка. Ноги по щиколотку вязли в сыпучем песке: на плечах лежал тяжелый груз — лодки, доставленные из парков Ленинграда. Над Невой рвалась шрапнель, где-то поблизости неумолчно ухали шестиствольные минометы, бешено строчили пулеметы.
Вот и берег. Осколки снарядов, шипя, бороздили мокрый песок. На реке вздымались огромные белоснежные фонтаны. Юнги спокойно, как на учениях, спустили баркасы и лодки в воду. Хотя и замирали сердца, и щемящий холодок пробегал по спинам, без суеты, быстро отошли от берега.
Минута, другая, и вот уже лодки, шурша о песчаное дно, уткнулись носом в пологий грунт у высокого и крутого берега. Высадились без потерь.
— Молодцы, хлопцы. Неву форсировали хорошо, — говорил Зеленков, обходя бойцов. — Верю, что смело пойдете в бой.
— Не подкачаем! Дадим фрицам по мозгам! — ответил за всех Алексей Белоголовцев. Высокий, широкоплечий волжанин стоял опоясанный пулеметными лентами, с гранатами за поясом.
— Силен, боцман! — с восхищением сказал Виктор Шишкин. — Ему не пулемет носить, а пушку. Донесет!
До атаки оставались считанные минуты. И вот наконец прозвучал голос комиссара:
— За Родину! За Ленинград!
— Ура-а-а!.. — взметнулось над берегом.
Юнги ринулись вперед. Перемахнули капустное поле. Вот и шоссейная дорога. И тут фашисты обрушили на смельчаков шквал огня.
Залегли балтийцы, начали отстреливаться. Особенно сильным был огонь из подбитого немецкого танка.
— Выбить гадов! — приказал Павловский.
Юнги Бар, Милосердов и Поляков по-пластунски подползли к танку и забросали пулеметчиков гранатами. Появились первые раненые — Костя Перцев, Василий Кодин. Широко разбросав руки, как бы обнимая землю, лег навечно Борис Воробьев. К тяжело раненному в живот Володе Кучаренко подползли Борис Долгополов и Николай Бабенко. Володя, прижимая руками живот, тихо стонал. Увидев товарищей, он глазами показал на черневший справа полуобгоревший сарай.
«Стреляют оттуда», — решил Долгополов и вынул из-за пояса гранату.
— Погоди-ка, — остановил друга Бабенко.
Он отполз в сторону, снял каску и приподнял ее на винтовке. Раздался выстрел. Пуля пробила каску.
— Стреляют бронебойными, — вполголоса сказал Николай.
Заметив фашистского снайпера, Бабенко долго лежал. затаясь. Наконец гитлеровец на какой-то миг показался в окошке у самой крыши. Этого и дожидался балтиец. Раздался выстрел, и, взмахнув руками, немец упал на землю.
Смело действовали юнги. Захватив противотанковое орудие. Петр Шевцов, Александр Костыренко и Алексей Белоконь повернули его в сторону врага и открыли беглый огонь по перешедшим в контратаку немцам. В это время рядом с Павловским разорвалась мина. Командир упал. Петр Шевцов метнулся к нему:
— Товарищ лейтенант!
Павловский открыл глаза, чуть слышно прошептал:
— Передайте жене…
И замолчал.
Что-то оборвалось в груди Петра. Жгучая злоба охватила юношу. Он поднялся во весь рост и бросился навстречу фашистам. Над полем боя раздался его громкий призыв:
— За командира! Бей фашистскую сволочь!
Это была тяжелая, кровопролитная схватка. Ловкость и смелость победили силу и опыт. Фашисты были выбиты из окопов у узкоколейки и шоссейной дороги. Моряки вплотную подошли к противотанковому рву, проходившему вдоль опушки леса, за которым лежала деревня Арбузово.
Тяжело далась юнгам эта победа. Погиб лейтенант Павловский, тяжело ранен политрук Лапин. Убиты Миша Ворох, Николай Крючков, Борис Носков, Володя Ивашкевич, младший брат комсорга. Ранены командиры взводов Федчун и Лешуков. Контужен комиссар Зеленков. Погиб Шевцов, защищая в рукопашной схватке раненого старшину Тарасова.
Командование ротой принял Николай Ивашкевич, голубоглазый старшина, уроженец города Горького. Он быстро и правильно оценил обстановку. Юнги находились буквально в двадцати — тридцати метрах от позиций врага. Фашисты временно прекратили стрельбу из минометов и орудий, зная, что морякам путь назад всегда можно отрезать стеной огня. Накопив силы, враги думали уничтожить их. Связь с командованием батальона прервалась, — связной Александр Сухов погиб. А доложить обстановку командованию нужно во что бы то ни стало. «Кого послать с донесением? Ведь это почти на верную гибель!» — мучительно думал Ивашкевич. К нему подошел мичман Черненко, заменивший Зеленкова.
— Комиссар передал мне карту. Здесь, за узкоколейкой, течет ручей Мойка. По нему можно выйти к Неве, а там свои. Кого решили послать?
— Товарищ старшина, разрешите я заменю Сухова.
Это сказал Ивашкевичу Поляков, услышавший последние слова Черненко.
— Иди, Саша, но будь осторожен, не рискуй зря. Ползи вдоль узкоколейки до ручья, а затем по его правому берегу к Неве. Так дальше и дольше, но зато вернее.
Отважный юноша выполнил задание, пробрался на командный пункт батальона. Начальник штаба бригады полковник Ярыгин передал Ивашкевичу приказ: «Держаться до последнего. С наступлением темноты подойдет пятый батальон под командованием капитана Карельского».
Получив приказ, Ивашкевич принял отчаянно смелое решение: наступать своими силами, захватить позиции врага за противотанковым рвом и там закрепиться.
— Немцы с наступлением темноты собираются атаковать нас, а мы упредим их, — говорил он командирам взводов — старшинам Колбасе, Терещенко, Спиридонову. — Неожиданный удар даст нам преимущество.
На том и порешили.
— Приготовить гранаты. Бросать только по команде! — передал по цепи Ивашкевич.
Юнги приготовились к новому броску.
— Гранаты!
Десятки взрывов раздались одновременно в окопах, занятых фашистами. Еще рвались гранаты, когда Ивашкевич вскочил на кромку рва. За ним поднялись остальные моряки. В ход пошли штыки и ножи. Боцман Белоголовцев схватился с четырьмя гитлеровцами. Троих заколол штыком, а на голову четвертого с силой обрушил приклад винтовки. Забросал гранатами пулеметный расчет врага Виктор Шишкин. Семенов и Дубов подорвали дзот. Рослый немец в упор выстрелил в Ильина. Пуля ожгла плечо. Юнга упал. Немец хотел добить его, но подоспел Юрий Корчагин и заколол гитлеровца штыком.
Плечом к плечу с молодыми балтийцами шли в атаку ленинградские девушки: семнадцатилетняя Дора Беликова и сестры Ира и Зоя Аверины — медицинские работники бригады. Их мужество и умелые нежные руки спасли жизнь многим раненым морякам.
В разгар боя, когда силы юнг начали ослабевать, подошло подкрепление. Усталые и голодные, прокопченные в пороховом дыму, с наспех перевязанными ранами, юнги снова бросились в атаку.
Под покровом ночи группа моряков во главе с Белоголовцевым, проделав проход в проволочном заграждении, вплотную подобралась к деревне Арбузово. Дружный и внезапный удар ошеломил гитлеровцев. Они выскакивали из домов, но их настигал меткий огонь станкового пулемета Алексея Белоголовцева. Шинель отважного боцмана была продырявлена во многих местах, каска пробита. Вражеские пули изрешетили щит «Максима», но руки моряка не отрывались от гашетки до тех пор, пока гитлеровцы не были выбиты из деревни.
Бой был выигран. Балтийцы закрепились на околице деревни, захватили несколько пулеметов и минометов, десятки автоматов, сотни гранат с длинными деревянными ручками и набрали вещевой мешок «железных крестов», снятых с убитых фашистов.
На рассвете роту юнг отвели на отдых. У переправы их встретил полковник Ярыгин. Он горячо приветствовал победителей:
— Хорошо дрались, по-флотски. Военный Совет Балтфлота благодарит вас за доблесть…
Д. Хренков НА НЕВСКОМ ПЯТАЧКЕ
— Нет, сейчас никак не могу!
Старший лейтенант Клин решительно рубанул ладонью воздух. Пламя в коптилке, сделанной из сплюснутого стакана противотанкового снаряда, встрепенулось, как желтая бабочка. В неярком свете мы увидели часть стены землянки, жердевые нары, столик на двух ножках, на котором стоял светильник.
— Жизнь на нашей переправе начинается ночью, — словно оправдываясь за резкость отказа, снова заговорил Клин. — Переправа насквозь простреливается. Так что пока отдыхайте. На том берегу часы для сна короче воробьиного носа.
Старший лейтенант вышел. Почти тотчас затрепетало пламя коптилки. Показалось, что на переправе заработали мощные паровые молоты. Земля под ногами задрожала. Дверь, тщательно прикрытая начальником переправы, распахнулась, и светильник погас. Теперь мы сидели в темноте, следя за тем, как, чадя бензином, тухли красные искорки на фитиле коптилки. Потом, заглушая бензиновый запах, в землянку ворвались запахи иные, более острые. Это были запахи тротила, обожженной земли.
Сплошной грохот продолжался минут десять. Наша землянка качалась, как зыбка. Пожалуй, только сейчас мы окончательно поверили в цифру, которую недавно под диктовку старшего лейтенанта Клина записали в свои блокноты: за две последние недели октября 1941 года фашисты обрушили на переправу более 27 тысяч снарядов и мин.
Мой спутник, фотокорреспондент нашей армейской газеты Женя Цапко, любил язык цифр. Вот и сейчас, как только в землянку вошел солдат и зажег коптилку, он вытащил из своей полевой сумки блокнот, карандаш и что-то стал подсчитывать, шевеля чуть припухшими губами.
— А пожалуй, там порция снарядов и мин раза в три больше. — Женя взглянул на солдата. Тот не удостоил его ответом, но повернулся ко мне и сказал:
— Там на каждом квадратном метре уже разорвалась либо бомба, либо мина или снаряд.
«Там» — это на Невском пятачке — крохотном клочке земли на левом берегу Невы. Туда мы держали путь.
Много раз в этот день еще гасла коптилка в нашей землянке. Мы немало натерпелись страху, прежде чем стало смеркаться и нам удалось забыться на нарах коротким, но освежающим, как глоток воды в походе, сном.
Землянку мы покинули в то неопределенное время суток, когда ноябрьская ночь, казалось, окончилась, а утро застряло где-то на пути к нам, то ли в Колтушах, то ли в Манушкино, а может быть, и в небольшой деревеньке со странным названием Черная Голова, тоже лежащей на дороге к Неве. Небо было темным, будто его задрапировали плотной маскировочной тканью. Первые шаги пришлось делать ощупью. Лишь через некоторое время я стал различать впереди себя спину старшего лейтенанта Клина. Он вел нас по лабиринту фундаментов сожженных домов, воронок, траншей, штабелей досок.
— Где же вы, товарищ политрук? Вас, часом, не зацепило? — связной тронул меня за рукав шинели.
Мы побежали и вскоре увидели узкую полоску воды. В свете непрерывно вспыхивающих и гаснущих ракет она сверкала, как лезвие ножа. У берега покачивалась лодка с тремя гребцами, а недалеко от нее стояли Женя Цапко и старший лейтенант Клин.
— Ваша, — почему-то шепотом сказал Клин и уже громче: — Теперь поторапливайтесь.
Мы сели.
— Шевелись! — крикнул один из гребцов. С берега полетели в лодку мешки, потом кто-то поставил мне в ноги два термоса, прыгнул в лодку сам. Я догадался: старшина.
— Ни пуха ни пера! — махнул нам Клин.
Сильные руки столкнули лодку с песчаной отмели,
и, подхваченная рекой, она сразу развернулась носом вперед. Солдаты опустили весла на воду. Почти тотчас впереди завел длинную скороговорку пулемет. Когда догорела ближайшая к нам ракета, справа отчетливо стала видна трасса пуль. Гребцы взяли левее. Но красное жало пулеметной очереди, описав короткую дугу, появилось слева от нас. Потом заработал еще один пулемет.
А тут по всей глади реки начали рваться мины. Они лопались на воде звонко, оглушительно, с такой яркой вспышкой, что, казалось, вот-вот загорится вода.
Вдруг лодку стало разворачивать.
— Почему табанишь? — закричал рулевой.
Но тот, к кому он обращался, не слышал. Гребец сполз с банки.
— Старшина, за весло, — скомандовал хозяину мешков и термосов рулевой.
Старшина взял из рук убитого весло. Лодка снова пошла быстрее. Скоро она уткнулась в левый берег.
До береговой кручи было не более десяти — пятнадцати метров. Но мы не успели проскочить их, как раздался душераздирающий скрип, будто наверху начали быстро вращать давно заржавленный ворот. Это заговорил немецкий шестиствольный миномет. На пятачке его презрительно называли ишаком. Но в эти минуты нам было не до сравнений. По береговой круче над нами заметался огонь… Старшина первым упал в предусмотрительно вырытый на берегу окопчик.
Узкую, похожую на траншею землянку командира 86-й дивизии, до которой мы, наконец, добрались, почти всю занимал стол, покрытый картой. С потолка на нее сбегал ручеек мелкого песка. Когда на зеленом поле вырастал небольшой холмик, полковник Андреев привычным движением ладони смахивал его и снова подпирал рукой подбородок.
Хлопнула дверь. Полковник оторвал глаза от карты:
— Ну?
— Наскребли все, что могли, — доложил вошедший. — Пришлось взять писарей, даже часть поваров.
— Рота?
— Роты, пожалуй, не получится. Добрый взвод.
— Не густо.
— Зато ленинградцев прислали.
— Ленинградцев? — обрадовался полковник. — Я думал, они успеют только к следующей ночи.
— Переправляются следом за мной.
— Пошли встречать.
Полковник накинул на стеганый ватник плащ-палатку. Потом остановился, сбросил хрусткую, всю в подпалинах, накидку на нары и надел шинель. Она была мятая, в буроватых пятнах засохшей глины, но с петлицами. На них отчетливо виднелись «шпалы».
Следом за командиром дивизии и мы вышли в ход сообщения. Чуть брезжил рассвет. С кручи хорошо была видна Нева, утюжки лодочек, спешивших убраться восвояси на правый берег. Река чуть курилась, и поэтому разрывы мин и снарядов напоминали огоньки бикфордова шнура, опутавшего всю правобережную сторону.
Солдаты пополнения уже были под защитой береговых круч. Они растянулись цепочкой и поднимались по ходу сообщения к нам, втягивая головы в плечи.
Полковник стал так, чтобы видеть всех проходящих мимо. Вот уже первые поравнялись с ним. Они не знали, кто этот человек, но видели, что он стоит прямо, спокойно, и сами невольно подтягивались, расправляли плечи. Полковник заметил это, улыбнулся и вдруг протянул руку оказавшемуся рядом с ним солдату.
— Командир дивизии полковник Андреев, — в нарушение порядка, установленного в армии, представился он.
Солдат опешил, сверкнул зубами, по приложил руку к новенькой ушанке и, широко улыбаясь, совсем не по-военному ответил:
— Очень приятно.
Тут снова вздрогнули земля. Начался очередной обстрел.
— Это по нашему адресу, спокойно заметил полковник. Ложись.
Снова над нами забушевало пламя. Полковник посмотрел, все ли солдаты укрылись, и, не пригибаясь, зашагал к себе в землянку.
…Перед тем, как переправиться на левый берег, я зашел в оперативный отдел штаба армии. Мой старый знакомый майор Архипов раскинул передо мной карту. Невский пятачок производил на ней довольно внушительное впечатление. Вдоль и поперек на карте были нанесены линии траншей, отсечных позиций, дзотов, там и здесь пестрели плотно пригнанные одна к другой минометные и артиллерийские батареи. Разной формы флажки обозначали командные пункты.
Я вспомнил эту карту, когда вместо с пополнением отправился в расположение рот. Трудно было поверить, что карта и земля, по которой я, задыхаясь от дыма, мокрый от пота, бежал трусцой, это — оригинал и копия. Первое, что поражало на пятачке, — безлюдье. Мы слышали выстрелы, но не видели стрелявших. Пятачок был крохотный: тысячу метров в длину и в ширину не более восьмисот метров. Не раз и не два его уже перекопали немецкие снаряды и бомбы, но люди, врывшись в землю, вцепились в нее так, что до сих пор гитлеровцы, несмотря на следовавшие один за другим штурмы, не могли сбросить наши подразделения в Неву.
Траншея привела нас на самый левый фланг дивизии. В землянке, куда вслед за солдатами ввалились мы с Женей, уже не было ни электричества, ни даже коптилки. Под низким сводом ее горел зажженный провод. Света он давал мало, копоти много, и нам пришлось долго привыкать к полутьме.
— Располагайтесь, товарищи, — пригласил нас простуженный голос. — Как раз к чаю поспели. А в тесноте — не в обиде. Вот сухарики, держите.
— Песочные, — бросил кто-то из угла. В реплике звучал тот особый, дорогой сердцу, хотя и не замысловатый юмор, который не могла вытравить в нашем человеке даже такая страшная война, как эта. Песочные. — повторил солдат. — Потому что с песочком, невским. Угощайтесь.
— Завел Чухнов! — не то одобрительно, не то укоризненно отозвался его товарищ.
— Холодновато у вас.
— А ты на чаек нажимай. С рассветом отопительный сезон у нас кончается. Пожарная инспекция запрещает. Она ведь на немецкой стороне, снова заговорил тот, кого назвали Чухновым.
— Помолчи, — сказал простуженный голос. — О деле надо говорить.
А дело предстояло ответственное. Наша 8-я армия собрала все, что могла, по тылам, и бросила на пятачок. Армия отвлекала на себя силы фашистов, вышедших непосредственно к стенам Ленинграда. Пятачок не просто мешал противнику. Эту узкую полоску земли нельзя было не рассматривать как трамплин, оттолкнувшись с которого, наши части могли совершить бросок навстречу войскам, спешившим на помощь Ленинграду.
Пока же, отражая яростные атаки противника, защитники пятачка время от времени сами предпринимали попытки расширить плацдарм.
Примерно это сказал прибывшим а землянку новым товарищам обладатель простуженного голоса. Я не успел познакомиться с ним, как все вышли в траншею и, снова пригнувшись, слушали, как трясет землю лихорадка. Заговорила наша артиллерия с правого берега. Снаряды пролетали над нами, шелестя и подвывая, и падали далеко впереди. Земля отзывалась на их удары натруженно и тяжко, будто ей невмоготу было терпеть эту боль.
Женя Цапко прилег на бруствер и колдовал с «лейкой». Через него перескочил голенастый Чухнов, потом другие солдаты и побежали вперед, туда, где курился сизый дым разрывов. Несколько метров наша жиденькая цепь пробежала быстро и без потерь. Затем в разных концах ее вздыбилась земля, и, прежде чем мы услышали грохот разрыва, кто-то закричал пронзительно истошно.
Опережал цепь, из прибрежного оврага выскочил танк и на ходу повел по тусклому небу длинным стволом своей пушки. Появление танка воодушевило бойцов. Залегшая было цепь поднялась и снова побежала вперед. Застрекотали пулеметы. Еще громче захлопали мины. Но я услышал долетевшее откуда то издалека торжествующее:
— Ура-а-а!
Кто то рядом со мной сказал:
— Четвертая рота ворвалась в немецкую траншею. Первыми достигли вражеской траншеи Чухнов и Шевелев, сержант с простуженным голосом. Они спрыгнули вниз, побежали, но у развилки нерешительно остановились. В сумятице боя зрительная связь с товарищами была потеряна. Рядом хлопали выстрелы, разрывы ручных гранат. Одна из таких гранат с длинной деревянной ручкой упала к ногам Шевелева. Видно, бросивший ее впопыхах забыл выдернуть чеку. Шевелев поднял гранату, а когда выпрямился, увидел, что прямо на него бегут восемь немцев. Шевелев переложил трофейную гранату в другую руку и сдернул с пояса свою.
— Вот я вам!
Граната разорвалась, но Шевелев был достаточно опытным бойцом, чтобы понимать: одной гранатой восемь врагов в траншейном бою не сразишь. Но то, что фашисты залегли в траншее, давало ему и Чухнову мгновенное преимущество. Прежде чем они поднялись, Чухнов сумел подобрать еще несколько валявшихся вокруг немецких гранат, свинтить с них крышки и одну за другой подать товарищу. Узкая щель наполнилась дымом. Чухнов побежал по траншее, а Шевелев выскочил на бруствер и за ним — поверху.
В траншее были убитые, раненые, но оставшийся в живых огромнейший детина вскинул автомат на Чухнова. Шевелев спрыгнул ему на плечи. Автоматная очередь захлебнулась, что-то обожгло Шевелеву ногу. Это привело его в ярость. Он с силой ударил гитлеровца прикладом по каске. Тут подоспел Чухнов. Вдвоем они скрутили верзилу. Это был первый пленный, взятый нашими подразделениями на пятачке за много дней.
Через полчаса мы присутствовали на его допросе. Старший ефрейтор 3-й роты 1-го батальона 2-го парашютного полка Вольфганг Пройль воевал в Голландии, высаживался на остров Крит, заслужил два железных креста. Он говорил медленно, глотая слова, заикаясь, все еще не в силах поверить, что оказался в плену:
— До вашей артподготовки во взводе у нас было двадцать пять солдат. Я начал отход в тыл с восемью. Что стало с остальными, не знаю…
Полковник Андреев, слушая пленного, хмурился. Он то и дело выходил из землянки, прислушивался к шуму боя. Хотя из подразделений поступали сообщения о продвижении вперед, полковник угадывал: атака начинает захлебываться. Слишком мало сил принимало в ней участие. Цепочка наших подразделений, и без того редкая, теперь еще больше растянулась, а где тонко, там всегда рвется.
Как и утром, полковник во весь рост стоял в траншее. Снова перед ним шли солдаты, только теперь в обратном направлении. Иным из них санитары успели сделать перевязки, большинство же шло, поддерживая кровоточащие руки, прихрамывая, других несли на плащ-палатках. Раненых было много. Полковник провожал их задумчивым взглядом и громко говорил:
— Спасибо, товарищи! Спасибо!
— Товарищ полковник, — выскочил из землянки сияющий связист. — Только что передали: овладели восьмой ГЭС.
Полковник ушел в землянку, а мы с Женей снова побежали по траншее. Чем дальше мы уходили от берега, тем быстрее гасла только что затеплившаяся радость. Встречные раненые уклончиво говорили о взятии 8-й ГЭС.
— Взять-то ее, кажись, взяли, но не наша рота — соседняя.
Командир второго батальона переместился в ту землянку, где утром мы пили чай. Собственно, в землянке расположились два его связиста. Сам комбат стоял в траншее. Он сказал, что не передавал сообщения о взятии ГЭС. Ему, как и всем, приходилось то и дело укрываться на дне траншеи: противник не прекращал яростных огневых налетов. Когда же можно было поднять голову, командиру важно было увидеть собственными глазами, что происходит впереди. Связи с ротами не было. Нарушилась и связь с артиллерией. Тонкая жилка провода, бежавшая на КП полка, рвалась непрерывно.
К нам подошел младший политрук в черном ребристом шлеме.
— Плохо дело, — сказал он. — Танк остановился. Пробовал добраться к нему, да вот видите…
Рука танкиста висела плетью, а из рукава капала на песок кровь.
— Вам бы на перевязку.
— Успеется. Машину лишь бы выручить. Вы знаете, что это за машина!
Мы не знали. Оказалось, эту машину уже трижды списывали в лом. Но она в числе немногих составляла «бронетанковые силы» на плацдарме, и танкисты делали все возможное и невозможное, чтобы сохранить ее.
— Последняя ведомость была написана на трех листах, рассказывал танкист. — В общем это была похоронная, а не дефектная ведомость. Командир дал приказ экипажу перебраться на правый берег. А тут на пятачок прибыли на подмогу нашим ремонтникам рабочие Кировского завода. «Покажите танк», — просят. — «Нельзя, — отвечаем, — на передовой». — «Подумаешь, испугал!» В общем повел я их. Правда, ползти пришлось, но к танку доставил. Непривычно на них было даже смотреть: в гимнастерках да в кепочках. Вел их на часок, показать только. Остались они на две недели. И что вы думаете! Выходили танк. Логинов его в атаку сегодня повел.
Поговорив с танкистом, мы отправились на медицинский пункт. Расположился он в траншее, где утром дежурили наши пулеметчики. Несколько часов назад траншея была глубокой. Теперь она была полуразрушена. Раненые в ожидании перевязки сидели на земле. Одна из санитарок склонилась над пожилым красноармейцем, раненным в руку. Между колен у того винтовка, за спиной — немецкий автомат.
— Убыстри, дочка, — просит раненый.
— Кончаю.
— Убыстри, говорю. Товарищи меня ждут.
— У вас теперь одни товарищи — по медсанбату.
— Чего плетешь! — вскипает солдат. — Там каждый на вес золота.
Он кивает в сторону выстрелов.
— Вам никак нельзя. А если заражение?
Солдат шевелит пальцами забинтованной руки, удовлетворенно хмыкает и выразительно проводит рукой по шее.
— Нет ли у тебя горло пополоскать? Все-таки ранение…
— Нету! И не спешите. Мне записать нужно.
— Это можно. Пиши. Тарасов Павел Васильевич.
— А дивизия, полк — наши?
— Наши, наши, — успокаивает солдат, — ленинградские.
И пока девушка что-то царапает карандашом в тетрадке, Тарасов перемахивает через окоп и бежит в сторону ГЭС…
Мы следуем за ним.
— Догнал-таки, — уже в немецкой траншее встречает его политрук Амелин, встречает, как старого друга, хотя познакомились они только вчера у политотдельской землянки, когда пришли туда встать на партийный учет. Оба — коренные ленинградцы. В бою они держались рядом.
— А нам туговато приходится, — рассказывает Амелин Тарасову. — Боеприпасы на исходе. Не шлют почему-то. Пришлось вооружиться трофеями. Два пулемета есть. Как обращаться с ними?
— Поглядим.
Тарасов долго копается у пулемета. Потом удовлетворенно крякает.
— Пальнуть что ли в воздух?
— Туда, — Амелин показывает на снова появившуюся цепочку гитлеровцев.
Пулемет жадно глотает железную ленту, дрожит. Из-под марлевой повязки на руке Тарасова проступает кровь. Амелин стреляет из винтовки, но пулемет притягивает его к себе.
— Позвольте мне. Как нажать, я знаю.
Тарасов освобождает ему место, а сам бросается ко второму пулемету. Через минуту они отражают новую контратаку. На их окоп обрушивается шквал огня — пулеметного, артиллерийского, минометного. С неба сваливаются с включенными сиренами «мессеры». Над окопом повисает и долго не падает туча гари и земли. Временами оба пулемета замолкают, а потом мы снова слышим их дробь и радуемся: Амелин и Тарасов держатся.
…Третий час танк стоит безмолвным и кажется уже безопасным. Несколько раз гитлеровцы пытались подойти к нему, но наши стрелки, окопавшиеся по гребню небольшой лощины, не подпускали. Тогда фашисты начали обстрел из тяжелых минометов. Вокруг машины и на ее броне разорвалось несколько мин. Судя но всему, экипаж был мертв. Так думали наши стрелки. Так думали, очевидно, и враги. И те и другие ошибались.
После того как под гусеницей взорвалась мина, в машине наступила долгая тишина. Уже рассеялся едкий дым, а Федор Логинов все еще держал в руках рычаги. Он очнулся от боли: судорога свела занемевшие от напряжения пальцы. Почти тут же услышал стон.
— Что с тобой, Иван?
— Нога.
Пришел в себя и Чепурко, подал голос:
— И я, кажись, жив.
— Ваня, а ты потерпеть можешь? — снова спросил Логинов раненного в ногу водителя.
— Попробую, — прошептал Белкин и потерял сознание.
Логинов попытался открыть десантный люк, но безуспешно: его заклинило при взрыве. Подсунул ломик. Ничего не получилось.
Из-за тесноты Чепурко ему помочь не мог. Пришлось действовать одному. Логинов подсовывал лом под крышку и наваливался всем телом на рычаг. Крышка поддавалась, как говорится, в час по чайной ложке. И все-таки поддавалась!
Лишь глубокой ночью Логинову удалось открыть люк. Он вылез наружу и оцепенел. В двух шагах разговаривали немцы. Неужели идут к танку? Нет, мимо. Это еще больше встревожило Федора. Раз гитлеровцы ходят вблизи, значит на гребне уже нет наших. Теперь машину некому защитить, кроме как ему самому да Чепурко.
Федор не скрыл от друзей того, что узнал.
— Ну что ж, пришла пора помирать, — чужим голосом сказал Чепурко.
— Умереть не фокус.
В танке стало холодно. Иван стучал зубами так сильно, что Федор даже испугался, как бы не услышали немцы. Несколько раз Федор выползал из танка и на ощупь пытался определить размеры постигшей их беды. По первому впечатлению она была не очень велика: взрывом сорвало гусеницу. Можно было бросить машину и уйти. Но этот вариант был отвергнут всеми. Тогда Логинов распорол валенок и, отрезав от голенища большой кусок войлока, обложил им выколотку, чтобы не шуметь при работе. До утра он успел кое-что сделать. Когда же совсем рассвело, пришлось залезть в танк: опять забарабанили по броне пули.
Потянулся бесконечный день. Друзья изнывали от холода. Сухой паек был съеден еще ночью. Иван требовал пить, просил собрать снега. Снег выпал недавно, но за день боя от него не осталось и следа. Вечером Логинов и Чепурко принялись за работу сообща. Трудились спорко, по починить «ногу» за ночь им все же не удалось. Только к концу третьей ночи ходовая часть была в порядке. Проверили мотор. Утром решили завести… С рассветом Логинов намотал тряпку на лом, окунул ее в газойль. Чепурко снял внутреннюю перегородку, отделявшую мотор от водителя. Чиркнул спичкой и поднес зажженный факел к застывшим агрегатам.
В это время очнулся Белкин.
— Горим, — прохрипел он.
Чепурко зажал ему рот ладонью. Взревел мотор, и танк медленно, будто ощупывая прочность земли, тронулся с места. Враз заговорили немецкие пулеметы, автоматы, потом завыли мины. Танк тяжело шел по лощине, отмахиваясь от фашистов длинной плетью трассирующих пуль из чепурковского пулемета. С трудом Логинов вывел машину на гребень. Наверху стало полегче, хотя тут же танк попал под артиллерийский огонь. Несколько снарядов срикошетило, остальные пролетали мимо. С каждой минутой к Логинову приходила уверенность, что все обойдется, что семьдесят два часа, проведенные ими в поврежденном танке, прошли не напрасно.
— Что ты прилип к пулемету? — весело крикнул он Чепурко. — Дай из орудия!
Чепурко развернул башню. В это время впереди машины, у самых гусениц Логинов увидел двух наших бойцов, полузаваленных землей.
Танкист остановил машину.
— А ну, братва, сигай на броню.
Амелин, оглохший за эти три дня от грохота, улыбнулся показавшемуся из люка танкисту, а Тарасов не утерпел, вскочил на ноги и, почти распластавшись на броне, крикнул в люк:
— Вот бы садануть вон в то осиное гнездо!
Чепурко не заставил просить себя вторично, пять оставшихся снарядов он послал точно в цель.
…Поздней ночью мы возвращались на правый берег. По-прежнему над плацдармом висели, не угасая, осветительные ракеты, вздрагивала под ногами земля от беспрерывных разрывов, скрещивались в небе пики трассирующих пуль, ревели шестиствольные минометы. По всем расчетам все здесь должно было быть переворошено, перекопано, живое — уничтожено. Но навстречу нам спешили подносчики пищи, связисты. Старшины доставляли в роты оружие и боеприпасы.
Неподалеку от штаба дивизии мы увидели танк Логинова. Подошли к его темной громаде. Несколько солдат в черных шлемах сосредоточенно работали. Я окликнул Логинова:
— Как Белкин?
— Порядок в танковых войсках! Уже из госпиталя привет успел передать со старшиной. Ногу ему починят.
Танкисты готовили машину к бою, который должен был начаться утром. Мы спустились к воде.
На том берегу нас встретил старший лейтенант Клин.
— А у нас тут за ваше отсутствие дела! Танков столько пришло. Будем переправлять их на понтонах. Повеселело на душе.
На берегу, действительно, чувствовалось оживление. Ночь скрадывала от нас то, что происходило вокруг. Но берег уже жил другой жизнью, чем три дня назад, наполненной особым напряжением, как всегда бывало на фронте, когда готовились новые операции.
А. Зиначев ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ
ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ
На Пулковских высотах шли ожесточенные бои. Красноармейцы и краснофлотцы отбивали одну за другой атаки фашистов. Сходились врукопашную. Отступали и снова занимали свои позиции. Окопы и блиндажи петляли по склонам высот. От непрерывного огня здесь все сгорело до последней травинки. В клубах черно-бурого дыма мелькали зеленые шинели гитлеровцев. Их становилось все больше и больше.
Ранним утром эсэсовцы пошли на высоты в психическую атаку. В этот критический момент на поле боя появился член Военного Совета фронта Кузнецов.
— Ни шагу назад! — сказал он негромко. Но даже те, кто стоял вдалеке от него, поняли, что сказал секретарь горкома партии.
— Приказ Ленинграда: ни шагу назад! — полетело из окопа в окоп.
— Вперед! — раздалось где-то слева, и, словно подхваченные какой-то неведомой силой, бойцы ринулись в контратаку.
Вместе со всеми бросился навстречу эсэсовцам балтийский моряк Василий Веселовский…
Фашисты захватили Веселовского, когда он лежал без сознания на своей винтовке.
Сознание вернулось к Веселовскому только через несколько часов. Пришел он в себя в крестьянском погребе, босой, со связанными руками. Голова была такой тяжелой, словно в нее налили расплавленного свинца.
— Пить…
Никто не отозвался. Корчась от боли, моряк попытался подняться, но упал еще более обессиленным. Сознание с трудом улавливало обрывки последних событий: бой, танки, психическая атака фашистов, появление в окопах Кузнецова.
В голове сверлило: «Жить! Жить! Ведь не только не воевал еще как следует, но и не жил как следует. Жить!..»
Он ползал по подвалу, надеясь найти острый предмет, чтобы перетереть веревки, пытался еще раз встать. Не удалось. Уткнувшись разбитым лицом в холодную землю, хотел заплакать, но слез не было. От отчаяния стал разговаривать сам с собой, подбадривать себя вслух: «Держись, брат! Ты комсомолец. Ты же парень с Фонтанки. Помнишь, так звали тебя твои товарищи? Это было в Ленинграде, где ты рос. И совсем недавно…» И снова он бредил. И снова думал о себе и друзьях…
Утром за ним пришли. С порога один из гитлеровцев крикнул:
— А ну выходи!
Но Веселовский не мог встать. Не было никаких сил подняться с земли. Тогда эсэсовец медленно сошел по ступенькам вниз, шагнул к пленнику, с минуту смотрел на него тупым взглядом, потом приложил холодную сталь автомата к его виску и выстрелил у самого уха.
— Встать! Выходи!
— Кончайте… Скорее… Гады фашистские! Убивайте! Стреляйте! — кричал оглушенный Веселовский. — Боитесь? Одного полуживого боитесь? Так знайте же, мы вас всех уничтожим. Всех! Всех!..
Его допрашивали долго. Щеголеватый офицер, коверкая русские слова, сулил ему жизнь, угощал сигаретой, предлагал воды.
— Курите! Замечательный сигарет. Ах, да! Русска сигарет не курит.
— Курю. Но свои.
— Надеюсь, ви скажете, кто ви?
— Нет! Ничего я вам не скажу.
— А мы будем вас немножко вешать. Вот так: ф-и-ить! — ребро ладони следователя коснулось горла Веселовского.
— Да уж вы на это мастаки, — усмехнулся пленник.
— Зря упрямитесь. Ленинграду капут! Наш фюрер парад будет принимать там.
— Врешь ты, собачья морда. Все врешь!
У офицера лопнуло терпение. Он сильно, наотмашь ударил Веселовского по лицу. Брызнула кровь. Набросились втроем, били долго, до собственного изнеможения. В тот день полуживого Веселовского в товарном вагоне отправили в Псков.
…Колючая проволока. Овчарки. Солдаты на вышках. И бараки, холодные, набитые до отказа узниками. Это — концлагерь на берегу Великой.
Веселовского первые дни на допросы не водили, сносно кормили. Промыли и перевязали раны. Даже ватную куртку дали. «Купить хотят, подлецы. Как же, держи карман шире…» — догадался он, как только увидел на своем крохотном столике стакан водки и ломоть хлеба.
— Ты уж сам выпей этот шнапс, — сказал Василий охраннику, на помин своей души. Или фюреру своему преподноси — ему тоже капут скоро будет.
На пятый день Веселовского привели на допрос к генералу. К этому времени пленник уже немного пришел в себя. Только по-прежнему ныло все тело и в ушах стоял непрерывный звон. За эти дни Василий все обдумал. И твердо решил: бороться! «Лишь бы не забили до смерти. Только бы в живых остаться. А там я не пропаду…»
Генерал был худой, с бегающими мутными глазами, со стриженой, в седых пятнах головой. Он хмуро оглядел Веселовского и, раскачиваясь на тонких ногах, с ледяной вежливостью пригласил его сесть.
— Я солдат. Могу и постоять, — угрюмо ответил Веселовский и остался стоять. Допрос был коротким. Веселовский не ответил ни на один вопрос. Только когда генерал стал угрожать казнью, он с ненавистью бросил в лицо мучителю:
— За Родину не страшно и погибнуть! Можете пытать, убивать — предателем все равно не стану!
— Щенок! — скрипнул зубами генерал и, ударив Веселовского по лицу плеткой, приказал увести пленного.

Василий Веселовский.
Его не расстреляли. Больше не держали в одиночке. Но и не кормили, как прежде. Его перевели в общий барак, где сотни людей умирали голодной и медленной смертью.
«Бежать! Бежать!» Это решение укреплялось с каждым днем. Василий прислушивался к разговорам узпиков, наблюдал за их отношением друг к другу. Ему был нужен верный товарищ для побега, и вскоре он его нашел. То был солдат-танкист, сухой и высокий. Зябко кутаясь в шинель без хлястика, он сидел на нарах и выискивал в лохмотьях насекомых. Заметив на себе пристальный взгляд Веселовского, танкист сперва надрывно, до слез покашлял, потом сказал, жалуясь:
— Совсем заели, сволочи. Каждый день бью.
— Бей вшей, как фашистов, а фашистов — как вшей! — громко сказал Веселовский и сел рядом. — Давай знакомиться: Веселовский Вася. А ты?
— Черный я.
— Кличка такая?
— Какая тут кличка, фамилия моя такая. Семен я. Черный Семен… Из окруженцев. Под Вязьмой схватили. С тех пор и гнию тут…
В тот же вечер Веселовский предложил Черному план побега. Тот молча выслушал и неуверенно проговорил:
— Схватят. Кругом охрана. Загрызут овчарки. Но попробовать можно. Все равно это не жизнь… — затем замолчал и наконец уже более решительно сказал: — Лучше там смерть. Согласен я.
…Шли дни. За колючей проволокой ежедневно умирали десятки людей. Ранним утром пленных гоняли на тяжелые работы. Черный теперь был всегда рядом с Веселовским.
Вскоре к ним присоединился третий — Андрей Петров, стрелок-радист со сбитого самолета.
— Приземлился я неудачно. Прямо в руки к фрицам, — рассказывал он о себе. — Ветром отнесло. А так бы я никогда сюда не угодил. А бежать — бежим! Я и сам давно готовлюсь к этому. Делал уже попытку, да выдала какая-то стерва. Наказали плетьми, а все равно убегу. Хочешь план свой расскажу?
Веселовский с большим вниманием выслушал его план и сказал:
— Твой лучше. Драпать будем так, как ты надумал.
Петров предложил побег совершить в следующее воскресенье, когда пленных погонят на работу в каменоломни. Там Петров подготовил уже место, укрывшись в котором они должны были сидеть до тех пор, пока пленных не уведут обратно в лагерь. А потом… На каменоломнях постоянно патрулировали всего двое гитлеровцев, справиться с ними было не так уж трудно.
Воскресенья ждали с нетерпением и тревогой. Друзья запасались махоркой, экономили каждый ломтик хлеба. Достать оружие было невозможно. Решили бежать без него. Казалось, все было готово. Но случилось непредвиденное. Рано утром в субботу всех заключенных построили у бараков. С правого фланга отсчитали пятьдесят человек. Под усиленной охраной их отвели в сторону. Восьмым, девятым и десятым в этой полусотне оказались Веселовский, Черный и Петров. Друзья приуныли, решив, что их поведут на расстрел. Ходили слухи, будто фашисты хотят расстрелять каждого десятого за поражение на каком-то участке фронта. Стоявший десятым Петров обнял Веселовского и немного дрогнувшим голосом сказал:
— Мне, видать, не жить. Десятый я. Давай поцелуемся. А вы не тужите. Авось и вывезет кривая. Друзья поцеловались и, взявшись за руки, запели:
Набросились солдаты. Стали бить поющих прикладами. Но гимн уже пела вся полусотня. Потом его подхватили другие узники. Их загнали в бараки. Отобранную полусотню гитлеровцы больше десяти раз прогнали по плацу бегом. Несколько человек упало. Их тут же пристрелили, а остальных стали отводить по одному в сторону, надевая каждому на руки кандалы. Затем военнопленных построили по два и под звон кандалов погнали по скованной гололедицей дороге. Через час погрузили в товарные вагоны. После нескольких толчков состав тронулся в путь.
ПОЕЗД ИДЕТ НА ЗАПАД
Пятый день на стыках рельсов стучат колеса. На остановках до военнопленных доносятся обрывки чужой речи. Часто в вагон врываются пьяные эсэсовцы, избивают подряд всех плетками. Четырех узников они выбросили на ходу поезда, так и не сняв с них кандалов.
Сквозь забитое досками окно вагона то появляется, то исчезает луч солнца. Он на какой-то миг ободряет узников, ласкает их бледные липа. За эти дни они уже обо всем переговорили и сейчас молча лежат на вонючей соломе.
— Эй, Василь! Запел бы, что ли, — говорит сухонький человек с реденькой черной бородкой. — Спой, Вася!
Гремя кандалами, Веселовский поднялся с соломы и тихо начал:
Пел Веселовский, а мысли его были далеко — вспомнились невские берега, взморье, Стрелка Васильевского острова в голубоватой дымке белых ночей.
Стихла песня. Каждый думал о своем. И опять стучали на стыках колеса. И опять звучало в вагоне задушевное:
— Хорошо ты читаешь, Вася, — вздохнул Черный, задумчиво разламывая сухую травину. — Эх, Вася, Вася… И кто расскажет твою повесть, друг? Один ты, как оторванная от стаи птица…
— Почему один? А вы? А все? — упрямо возразил Веселовский. — Ну, мы им так не дадимся! Кандалы бы долой…
А колеса все стучат и стучат. Путь долог и неизвестен. Гремит эсэсовец прикладом в стенку вагона, страшно ругаясь.
На шестые сутки поезд остановился в Мюнхене.
— Ого, куда притащили! — воскликнул Веселовский, растирая одеревеневшие от кандалов руки. — А что, ребята, может и в самом деле жить будем? Расстрелять бы и там могли…
По перрону ходил патруль. Холодный порывистый ветер как бешеный носился по полотну, кружил снег, пригоршнями кидал его в решетку вагонного окошка.
Веселовский стоял около решетки с оголенной грудью и жадно глотал морозный воздух.
Снова скрипнула вагонная дверь. Снова эсэсовцы наставили автоматы. На этот раз они не стреляли, только за ноги выволокли мертвецов, швырнув их на шпалы запасного пути.
— Сволочи! — не разжимая зубов, проговорил Веселовский. — А еще людьми называются.
— Называться человеком легко, быть им труднее, — отозвался с нар Петров.
В это время протяжно загудел паровоз. Состав тронулся в путь, в новую для узников неизвестность.
— Завезут к черту на кулички. Чтоб бежать было некуда, — первым заговорил Черный, не выдержав мучительного молчания. — Так ведь все равно же убегу! Подлец буду, если не убегу!
— Куда? Нет нам отсюда выхода… — сказал кто-то упавшим голосом.
— Есть! Выход есть, — вмешался Веселовский. — И на чужбине можно за Родину бороться. Я так понимаю…
В углу кто-то тихо заплакал.
— Кто нюни распустил? — резко спросил Веселовский. — Думаешь врага слезами удивишь? Крепись, браток! Выше голову, или нам крышка! — Он склонился над плачущим и уже примирительно добавил: — Ты же пойми, чудак-человек, им, гадам, только и нужно, чтобы мы скотинкой были и боялись их, как господ-повелителей.
Веселовского горячо поддержал Петров:
— Дружно будем действовать — авось и спасется кто, а главное, вред им, проклятым, нанесем. Ведь мы бойцы Красной Армии, присягу давали. Предлагаю командира избрать. Лично я за Веселовского.
Раздались голоса:
— Согласны. Пусть Василий командует.
Наступила ночь. Многие задремали. Кто-то из пленников бредил во сне, звал жену, детей, мать.
Поезд остановился внезапно. Петров уткнулся в щель окошка. Слева, в предутренней дымке февральского мороза, тускло мерцали фонари.
— Милан, — прочитал станционную вывеску Петров. — И поверь, Вася, мне, как учителю, конечно бывшему, что это есть не что иное, как Италия. Буди ребят!
ВОССТАНИЕ
На окрик: «Выходи!» — Веселовский выскочил из вагона первым. За ним вывалился Петров. Обессилевшего Семена Черного они приняли на руки.
— Держись, Сема, — сказал Петров, — Убьют, сволочи.
Первыми их и поставили в строй. Веселовский был этим доволен. Только сейчас он увидел, как много пленных. Их вытаскивали из трех вагонов. Веселовский улыбнулся Петрову:
— Не так-то и мало нас, Андрей. Смотри!
Раздалась команда, и пленные, вытянувшись длинной колонной, двинулись вдоль полотна железной дороги. Веселовский все время поддерживал вконец изнемогшего Семена. Идти было тяжело. Рядом шагавший гитлеровец, довольно сносно говоривший по-русски, смеялся:
— Как у вас говорят: битый небитого везет.
— У нас еще говорят: не говори гоп, пока не перепрыгнешь! — съязвил Веселовский.
Вступив на первую же улицу, пленные, словно по команде, приободрились, подравнялись в шеренгах. Высоко подняв голову, они смотрели на притихших горожан. Миланцы толпились на тротуарах. Одни злобно косились в сторону пленных и что-то кричали. Другие скорбно молчали или украдкой дарили улыбку.
— Ребята, песню! — скомандовал Веселовский. И первым начал:
Поддержали все. Песня-набат неслась над чужим городом, как клятва на верность Родине: живы мы, твои сыны! Живы! Мы не сдались, Россия!
В это время пленные поравнялись с черной статуей Муссолини, воздвигнутой напротив кафе «Эспланада». Веселовский обернулся к колонне:
— Смотри, ребята, чертов дуче мрачное тучи!
Эсэсовец ударил Василия в лицо. Брызнула кровь, Веселовский сжал зубы, взметнул над соловой кандалы и всей их тяжестью хватил эсэсовца но голове. Лопнули цепи наручников. Эсэсовец упал на мостовую, выронив автомат. Веселовский схватил его, полоснул очередью по охране.
Так начался беспримерный в истории бой закованных советских солдат с вооруженными до зубов эсэсовцами.
Василий в первую же минуту помог освободиться от кандалов нескольким узникам. Другие разбили цепи сами. Теперь уже у многих были свободны руки. Бились все, кто чем мог: кандалами, камнями, выломанными из мостовой. Улица наполнилась криками людей, звоном разбитых окон, треском автоматных очередей.
Эсэсовский конвой был полностью перебит. Веселовский хотел было уже дать команду отступать к станции, чтоб оттуда двинуться в горы, когда у места страшного побоища появился грузовик, битком набитый полицейскими. Словно овчарки, полицейские набросились на пленных. Веселовский успел крикнуть:
— Товарищи, не сдаваться!
И пленные снова вступили в борьбу.
Полицейским хотелось захватить русских живыми. Иначе зачем их везли в такую даль? И поэтому они старались меньше пускать в ход оружие, а больше дубинки. Оглушенный, вскоре упал и Веселовский.
…Очнулся Василии в низкой, с узкими оконцами казарме, у дверей которой стоял часовой. Рядом сидели, поджав до самых подбородков колени, оставшиеся в живых Петров, Черный и еще несколько военнопленных, большей частью раненых или избитых до неузнаваемости. Веселовский посмотрел на них печальными глазами и ничего не сказал. Молчали и его друзья. Веселовского тошнило, изо рта шла кровь. Подполз
Петров. Ласково тронул за плечо:
— Держись, Вася. Все равно наша взяла — будут знать миланцы, что русские, и на тот свет отправляясь, фашистов с собой прихватывают.
Веселовский молча обнял друга.
Вечером следующего дня оставшихся в живых узников выстроили во дворе. Полицейские молча всунули им в руки лопаты и так же молча повели глухими улицами. На небе ни звездочки. Милан погрузился во мрак. Боясь налета английских самолетов, которые теперь наведывались сюда все чаще и чаще, город погасил свои огни. Пленные шли медленно, держась друг за друга, и угрюмо молчали.
— Приуныл, командир? — вдруг послышался за спиной Веселовского сдавленный голос. — Держись, старшой. До конца уж давай свою песню петь. — И он слабо запел:
Веселовский оглянулся. Пел незнакомый человек с багровым шрамом через все лицо.
— Кто вы? — спросил Веселовский, пристраиваясь рядом. — Что-то я вас не видел.
— Гаврилов! — ответил незнакомец. — А что не видел, так не мудрено. Меня везли в другом собачнике…
В уличном бою Гаврилов задушил руками двух эсэсовцев. Из автомата стрелял до тех пор, пока его не подстрелили самого. До плена Степан Гаврилов был разведчиком. В псковский концлагерь попал после побега из такого же лагеря, но только находившегося в Прибалтике.
— Вот и вся моя боевая биография, Вася-командир, — закончил он рассказ о себе. — Если что, надейся на меня. Мое решение такое: пока живы — драться! А твое?
— До конца будем свою песню петь…
На широкой аллее городского парка полицейские приказали остановиться. Двое из них шагами отмерили квадрат земли. Рукояткой плети старший очертил его на снегу и коротко бросил:
— Копать!
Никакого желания копать себе могилу у пленных не было. Они мешкали, топтались на месте, с тоской смотрели, как на ветру качаются деревья да дрожит синим светом скрытая под колпаком единственная на всей аллее лампочка.
И тут случилось непредвиденное. Тугой, нарастающий гул с неба вдруг пронесся над парком. А еще через минуту на затемненные квадраты города посыпались бомбы. Полицейские бросились на землю. Пленные прижались к деревьям. Бомбы сперва падали где-то в отдалении, потом начали разрываться и в парке. Кто-то из пленных попытался бежать, но полицейские, лежа на земле, открыли стрельбу.
В это время рядом захлопали резкие выстрелы зенитных орудий. И почти сразу же в районе батареи разорвалась бомба. Словно ветром сдуло полицейских. Бросив пленных, они ринулись к траншее.
Веселовский теперь знал, как поступить.
— Огонь на себя, ребята! Снимай тряпье!
И пока товарищи сбрасывали с себя рваные фуфайки и халаты, Василий бежал уже от разбитого бомбой орудия с банкой горючего в руках. Тряпье, облитое маслом, запылало ярко и озарило парк.
Два других орудия продолжали стрелять. Но бомбы теперь сыпались только на парк. Струсив, зенитчики, как и полицейские, укрылись в траншее. Заметив это, Веселовский скомандовал:
— За мно-ой! Бей прицелы! Круши орудия!
Лопатами и ломами узники попортили одну зенитную установку и бросились к другой. Треснул пистолетный выстрел. Черный упал замертво. Потом слева прострочила автоматная очередь. Веселовский, Петров и Гаврилов скользнули за деревья.
— Бежим! — шепнул Веселовский.
Но было уже поздно. Самолеты ушли, и выбравшиеся из траншеи зенитчики и полицейские схватили друзей. Их привели на то самое место, где они копали яму, поставили рядом. Потом сюда пригнали еще пятерых. За ними приволокли убитых. Из груды тел вдруг подал голос оказавшийся живым Семен Черный:
— Вася… Товарищи…
Один из палачей наклонился над Черным и выстрелил ему в ухо из пистолета. Потом подошел к стоявшим в ряд пленникам, картинно прошелся вдоль строя и спросил по-итальянски:
— Кто бил прицелы и разжигал костер, выходи!
Переводчик, подслеповатый пожилой полицейский в очках, переводил медленно и боязливо.
Пленные все как один сделали шаг вперед.
Полицейские молча переглянулись, вскинули автоматы и дали долгую очередь. Упали все, кроме Веселовского. Палачи вновь вскинули автоматы. Смертельно раненные Петров и Гаврилов поднялись одновременно. Обнявшись, они заслонили собой Веселовского, почти в один голос крикнули:
— Да здравствует Родина!
Рухнули на землю два побратима, упали у ног своего друга. Собрав последние силы, Веселовский бросил палачам:
— Смерть фашистам!
Его расстреляли одного, из всех автоматов сразу.
…Утром следующего дня на шее заиндевелой статуи Муссолини у кафе «Эсплапада», где Веселовский поднял своих товарищей на восстание, горожане увидели толстую веревочную петлю. До самого пьедестала этой коричневой глыбы спускался конец веревки, на которой болталась дощечка с надписью: «Это за русских!» Полицейские орудовали дубинками, разгоняя толпившийся у надписи парод.
Ночью неизвестные выкрали из парка окоченевшие трупы Веселовского и его товарищей, перенесли их на кладбище Мисокко и опустили в наскоро вырытые могилы. Когда над прахом павших выросли небольшие холмики, они, по рот-фронтовски сжав кулаки, запели:

Могила Веселовского в Милане.
* * *
Много безвестных могил советских воинов разбросано вдали от Родины. Есть они и в цветущем Милане. Если вам придется побывать в этом городе Северной Италии, пойдите на кладбище Мисокко. Там на участке № 16 среди стройных кипарисов вы найдете могилы, где вечным сном спят герои событий, о которых рассказано в этом очерке. На скромных гранитных обелисках выбиты фамилии.
Василий Веселовский.
Андрей Петров.
Степан Гаврилов.
Семен Черный.
Добрые люди Милана берегут эти могилы, как святыню. И как символ вечной памяти о легендарном подвиге русских, на них цветут незабудки.
К. Грищинский ДОБЛЕСТЬ РАЗВЕДЧИКА
Это произошло там, где в обороне стояли части морской пехоты. Балтийцы, сражавшиеся на Ораниенбаумском пятачке, вынудили 217-ю пехотную дивизию фашистов зарыться и землю на подступах к селу Усть-Рудицы. Ни на метр дальше, в сторону форта Красная Горка, врагу продвинуться не удалось.
Наступление фашистских войск под Ленинградом захлебнулось. Это обстоятельство встревожило стратегов молниеносной войны из ставки фюрера. Посланные из Берлина инспекторы должны были на месте ознакомиться с состоянием дел и доложить в ставку, почему «остатки русских не сброшены в Финский залив».
В один из хмурых октябрьских дней, окруженный штабными офицерами, в сопровождении автоматчиков, немецкий генерал-инспектор шествовал по Петергофскому шоссе. Моросил мелкий осенний дождь. Генерал, засунув руки в карманы кожаного пальто, обходил лужи на дороге, стараясь не запачкать начищенные до блеска сапоги.
И вдруг случилось, казалось бы, невероятное. На шоссе, словно из-под земли, появился человек в черном бушлате с расстегнутым воротом, с гранатой в занесенной над головой руке…
Русский матрос! Фашисты опешили.
— Попались, гады! — крикнул краснофлотец и метнул «лимонку».
Из придорожного кювета плеснули свинцом автоматы. Лишь двум гитлеровцам удалось бежать. Краснофлотский штык пригвоздил к земле и незадачливого инспектора. Советские разведчики исчезли так же быстро и бесшумно, как и появились.
В штабе ПОГа — так сокращенно называлась Приморская оперативная группа войск Ленфронта — к поступившему от разведчиков донесению отнеслись вначале недоверчиво: не показалось ли балтийцам, что в группе гитлеровцев действительно был генерал? Не так уж часто высокие фашистские чины совершают пешеходные экскурсии по прифронтовым дорогам. Но дня через два вблизи деревни Порошки был взят в плен немецкий ефрейтор. На допросе в штабе он сказал, что среди начальства 217-й дивизии царит переполох: советскими разведчиками убит генерал-майор, прибывший из Берлина с особыми поручениями.
С отважным разведчиком, бросившим гранату в фашистского генерала, мне довелось повстречаться тогда же, в ту тревожную осень сорок первого года…
К ноябрю положение в районе Усть-Рудицы стабилизировалось. Враг отказался от попыток прорвать нашу оборону и решил зимовать на рубежах, недосягаемых для огня орудий форта Красная Горка. В населенных пунктах вдоль Петергофского шоссе гитлеровцы соорудили мощные доты, заминировали подходы к ним, устроили лесные завалы. Чувствовалось, что происходит перегруппировка немецко-фашистских войск. Изменения в составе сил и намерения врага очень интересовали наше командование, но случилось так, что в течение двух-трех недель в руки фронтовых частей не попадали пленные, от которых можно было бы получить нужные сведения. После инцидента с убитым генералом гитлеровцы стали осторожнее, проникать в их тыл с каждым днем становилось все труднее.
В середине ноября мне было приказано выехать в район Усть-Рудицы и, взяв с собой группу бывалых разведчиков, организовать поиск. В штабе полка балтийцев нас встретил начальник разведки, служивший и до войны в этих же местах. Участок фронта, где предполагался поиск, был ему хорошо знаком. Самым удобным местом для действий по захвату «языка» считалась большая болотистая лощина в районе деревень Десятское, Стародворье и Лопухинка. Расстояние между вражескими и нашими позициями тут измерялось чуть ли не шестью километрами «ничейной земли», поросшей мелким густым сосняком. Летом в лощине повсюду была вода, а зимой почва подмерзала, и разведчики пробирались по этому лесу в тыл противника.
Двадцать первого ноября 1941 года наша группа вышла на рассвете за линию боевого охранения и по чуть заметной тропке, припорошенной свежим снегом, направилась к занятой немцами деревне Новая Буря. На войне — как на войне. Попробуй предугадай, как неожиданно может осложниться боевая обстановка. В то раннее утро мы собирались скрытно приблизиться к переднему краю обороны врага, устроить у заброшенного лесопильного завода засаду и подкараулить какого-нибудь неосторожного гитлеровца. Вышло, однако, иначе.
В те же часы и в том же лесу чем-то занималась и немецкая разведка, силой до полувзвода. Фашисты заметили наши следы и, сообразив, в чем дело, решили нас окружить и уничтожить. Крадучись, гитлеровцы пробирались между деревьями. Еще минута — и замысел их, возможно, удался бы. Но один из разведчиков заметил опасность. Показав рукой на мышиного цвета мундиры, мелькнувшие среди стволов деревьев, он крикнул:
— Немцы!
Прошла какая-то доля секунды, а я и мои товарищи уже лежали на снегу и стреляли из автоматов. Лесную чащу взбудоражило гулкое эхо частых выстрелов, — это заработал наш ручной пулемет. Теперь уже не мы, а гитлеровцы, не имевшие маскировочных халатов и пулемета, оказались в явной беде. Их прижал к земле наш огонь. Вести бой долго мы не могли: было мало боезапаса, а позади нас, метрах в трехстах, находился передний край обороны врага; оттуда, того и гляди, фашистским разведчикам подоспела бы подмога. Прикрывая друг друга огнем, где ползком, а где перебежками, нам удалось отойти в глубь леса. Мы знали, что можем нарваться на мины, но другого выхода не было. К счастью, все окончилось благополучно. Разведчики вернулись невредимыми в боевое охранение, стоявшее на берегу реки Черной. Возбужденные боем, уставшие и вспотевшие от быстрой ходьбы, разместились в блиндаже на короткий отдых.
— Если б не Евсеев, — сказал один из бойцов, свертывавший рядом со мной самокрутку, — была бы нам крышка…
— Заметил фрицев вовремя. Факт!
А сам разведчик, о котором шла речь, казалось, не обратил на эти слова ни малейшего внимания. Он снял телогрейку и, сидя у печурки, деловито сушил ее перед огнем.
Евсеев? Фамилия показалась мне знакомой. Не он ли отправил на тот свет фашистского генерала? Я вполголоса спросил об этом одного из бойцов. Моряк улыбнулся и с оттенком гордости за товарища ответил:
— Он самый. Много фрицев ухлопал; счет им зарубками на прикладе ведет.
Нужно было спешить в штаб полка, и мне не пришлось поговорить с лихим разведчиком.
Отгремели сражения Великой Отечественной войны. Казалось бы, пора и забыть боевые эпизоды грозных военных лет. Но нет, такое не забывается. Не забыл я и о разведчике Евсееве, с которым судьба свела меня в лесу у деревни Новая Буря.
В 1959 году написал о нем в газету «Советская Россия». Редакция получила несколько откликов читателей и переслала их мне. Интересным было письмо из города Кизил-Юрт. Участник Великой Отечественной войны Алексей Иванович Лебедев сообщил о том, что в тяжелых боях под Харьковом ротой, в которой он служил, командовал бывший балтийский моряк по фамилии Евсеев. Лебедев писал:
«Весь полк наш знал его как бесстрашного командира, воодушевлявшего своим примером других. Бойцы говорили, что Евсеев служил раньше в Балтийском флоте и там в начале войны был дважды ранен… Высокого роста, с красивым лицом, на редкость подтянутый, аккуратный — вот какой это был командир! Он слыл у нас самым опытным разведчиком и часто ходил в ночной поиск».
Далее бывший солдат рассказывал о том, как отличился офицер Евсеев в бою под городом Валки. Фашистам удалось прорвать оборону стрелкового полка. Один из его батальонов попал в окружение. Тогда на выручку товарищам пошел во главе небольшого отряда командир роты Евсеев. Он сумел проскользнуть незамеченным в тыл фашистов, занял удобную для стрельбы из пулемета высоту и открыл по немцам губительный огонь. Враг, не ожидавший удара с тыла, понес большие потери. Батальон вновь занял прежние позиции. В этом жарком бою моряк был смертельно ранен и скончался в госпитале в Дергачах.
Но мне почему-то не верилось, что командир роты — тот самый Евсеев, который в 1941 и 1942 годах воевал на подступах к Красной Горке. Мог ли он после этого оказаться под Харьковом, да еще в армейской части? Вероятнее всего, что Лебедев сообщал об однофамильце, тоже отважном моряке.
Я разыскал в Ленинграде бывшего начальника полковой разведки. Быть может, ему известно что-либо о друзьях и знакомых разведчика, убившего немецкого генерала? Да. офицер знал Евсеева, но имя его назвать не мог. Однако он припомнил другое. Это была довольно важная деталь: на одном из фортов во время Великой Отечественной войны служила телефонисткой Вера Ивановна Блинова. Эта девушка хорошо знала Евсеева. Но попытки найти ее не увенчались успехом. Личный состав форта уже не один раз сменился, и никто не мог сказать, где живет и чем занимается бывшая телефонистки. Возможно, Блинова вышла замуж и теперь у нее другая фамилия.
На посланные запросы об офицере Евсееве, умершем от ран в Дергачах, Военно-медицинский музей и архив Министерства обороны СССР сообщили, что по учетным документам сведений о нем не найдено.
Прошло около года. Однажды ко мне пришла студентка полиграфического института Светлана Шапиро. Выяснилось, что статью о разведчике Евсееве, напечанную в «Советской России», прочла мать Светланы Надежда Федоровна, до замужества — Евсеева. Она уверенно сказала, что речь идет о ее брате, погибшем в годы войны на Ленинградском фронте. Я попросил Светлану написать о нем. Вот что она написала:
«Во время блокады я вместе с мамой находилась в эвакуации, в Башкирии. Мать часто рассказывала о том. что ее брат, а мой дядя — балтийский моряк, разведчик — воюет под Ленинградом. В 1942 году дядя прислал свою фотокарточку. Мать хранит этот снимок и фронтовой конверт с обратным адресом. В том же году связь с дядей Юрой прекратилась, писем больше не приходило. А через два года мама и бабушка узнали, что мой дядя погиб и похоронен у деревни Вяреполь, вблизи Усть-Рудицы. Это в Ломоносовском районе Ленинградской области…»
Светлана обещала принести и показать мне то немногое, что было связало с именем дяди Юры. На следующий день она принесла любительскую фотокарточку, конверт и крошечный листок бумаги с карандашной записью. На конверте значился адрес отправителя: полевая почтовая станция № 753, подразделение 52, литер А. Эти сведения пока ни о чем не говорили.
А что скажет вот этот листочек, наспех вырванный из записной книжки? Прочел — и не поверил своим глазам: на листочке чернилами было написано:
«Для Юры. Надежда Ив. Блинова 1917 г. рож. Ее сестра Вера Ивановна Блинова, с. Лебяжье».
На обратной стороне фотографии была сделана надпись:
«На память родным от сына и его боевых товарищей. Г. Ф. Евсеев. 21/XII-42 г. Ленфронт».
Чтобы убедиться в том, что Георгий Федорович Евсеев был разведчиком, уничтожившим фашистского генерала, я снова запросил архив Министерства обороны. Ломоносовский исполком депутатов трудящихся я просил сообщить о том, кто похоронен у деревни Вяреполь.
Полученные ответы ничего не подтвердили. По дороге от Усть-Рудицы на Лопухинку, за мостом через реку Черная, действительно существует могила неизвестного бойца. Фамилия на обелиске стерлась, прочтению поддаются лишь одно слово и цифры: «Отряд 15 110». В архиве данных о Г. Ф. Евсееве не оказалось. И тут на ум пришла самая простая вещь: а не поискать ли сведений об Евсееве во фронтовых газетах 1941 года? В номере газеты «Красный Балтийский флот» за 16 октября я обнаружил заметку «Как был убит немецкий генерал». В заметке называлось воинское звание Евсеева — младший сержант, перечислялись фамилии его боевых товарищей — Вожика, Шульги, Бугаенко и Кириллова.
Вскоре в Центральном архиве Военно-Морского флота был найден наградной лист на младшего сержанта Евсеева, командира отделения разведчиков сухопутной обороны Ижорского укрепрайона КБФ. Но это был Евсеев Тимофей Петрович — не тот разведчик, о котором сообщила мне Светлана Шапиро. Совпадение, и в которое трудно было поверить, существовало!
Приказом командующего Краснознаменным Балтийским флотом моряк, совершивший дерзкую вылазку во вражеский тыл, был в ноябре 1941 года награжден медалью «За отвагу». Наградной лист позволил узнать о том, кто был Тимофей Петрович. Вот эти скупые данные: по социальному происхождению — рабочий, призван во флот в 1938 году, последнее место жительства — станция Бескудниково, поселок Слободка, дом 59. Сейчас это территория Дзержинского района Большой Москвы. Нападение разведчиков на фашистов произошло 13 сентября 1941 года на дороге Копорье — Петергоф, западнее деревни Закорново. Известно также, что скромная награда за подвиг была вручена герою 5 января 1942 года в селе Лебяжье. Номер медали «За отвагу» — 26 723.
* * *
Очерк «Доблесть разведчика» был уже подготовлен к печати, когда из Горького пришло письмо от Василия Николаевича Кириллова. Он писал:
«В отделении, которым командовал Евсеев, я был парторгом. Кроме командира, вступившего в кандидаты партии, все остальные — комсомольцы. Жили мы очень дружно, как одна семья. Хорошие были ребята, настоящие балтийские матросы!
Хотелось бы дополнить ваш рассказ. Когда Евсеев бросил гранату и подбежал к упавшему генералу, чтобы выхватить у него планшет, я тоже выскочил из кювета и прикончил фашиста штыком винтовки. Генерал лежал на планшете и вцепился в него обеими руками. Нам, к сожалению, не удалось захватить этот трофей: гитлеровские автоматчики открыли яростный огонь. Пришлось отходить…
Мы долго отсиживались в лесу у озера, пока не стихла тревога. Вернувшись с двухсуточным опозданием в часть, Евсеев и я получили от командования по пять суток гауптвахты в наказание за самовольство. Однако, когда факт уничтожения генерала подтвердился, взыскание было отменено, всем нам объявили благодарность. Младшего сержанта Евсеева за смелые и инициативные действия представили к награде.
Образ этого человека на всю жизнь запал мне в память. Как жаль, что до сих пор неизвестна его дальнейшая судьба…»
Кто знает, возможно, не сегодня, так завтра откликнется еще кто-нибудь из боевых друзей Евсеева, и рассказ его поможет, наконец, узнать, жив ли доблестный разведчик.
И. Пономарев В НОЧЬ И В ПУРГУ
Отшумели весенние ветры. Ледовая трасса на Ладоге — главная артерия, связывающая блокированный Ленинград с Большой землей, — прекратила свое существование. Теперь подвоз грузов для жителей города и его защитников должна была обеспечить Ладожская флотилия.
Но напряжение на дороге с началом первой военной весны не уменьшилось. Зимой было проще. Скованные морозом болота не представляли серьезной опасности. Дорожники очищали трассу от снега, заделывали выбоины. Иное дело весной. Распутица, частые дожди сделали дороги ладожской низменности непроходимыми. Приходилось осушать участки, прокладывать лежневые и бревенчатые пути, вместе со строителями сооружать складские помещения, без которых можно было обойтись зимой, по никак не обойдешься летом. Но и это не все. Те же дорожники должны были работать на разгрузке и погрузке.
В один из весенних дней на станцию Кобона прибыл эшелон с пополнением. Над домами низко висели черные тучи, лил холодный косой дождь. Порывистый ветер с Ладоги валил с ног. До местечка Бор приехавшие девушки добирались на машине по грязной дороге. Поселили их в палатках, выдали гимнастерки, брюки, остригли под мальчишек. И служба началась.
Пятый день строит Маша Трисанова с подругами дорогу к пирсу. И участок-то пустяковый — всего семь километров, но кажется, что ему не будет конца. С утра до позднего вечера роют девчата глубокие канавы, чтобы осушить это проклятое болото, с утра до вечера рубят хворост и укладывают его на дорогу. Ноет спина, болят натруженные руки. Но хуже всего, что почти каждый день монотонно, назойливо льет дождь. Одежда прилипла к телу, в канаве не видно, куда вонзать лопату, — все дно покрыто грязной водой.
Подошел командир взвода лейтенант Егоров. На подбородке кусок засохшей земли, руки, сапоги и даже гимнастерка измазаны грязью. Сказал тихо, словно бы между прочим:
— Второй взвод сегодня процентов сто двадцать даст.
Девчата молчат. Молчит и лейтенант. Чтобы прервать гнетущее молчание, Маруся Морозова спрашивает:
— Когда же нас на посты будут ставить? Служим в роте регулировщиков, а занимаемся бог знает чем.
Лейтенант затягивается папиросой и говорит:
— На постах вы еще постоите. Важнее сейчас дороги привести в порядок. По ним ведь все снабжение Ленинграда идет. А сто двадцать процентов по нынешним нормам — это много, очень много.
И опять замолчал. Когда уходил, Маша Трисанова сказала:
— Не волнуйтесь, товарищ лейтенант, не отстанем от второго взвода.
В этот день она выполнила норму на 150 процентов. Правда, работала дотемна, но зато была первой.
— Девица с характером, — заметил командир роты, обращаясь к лейтенанту, рассказавшему ему об итогах дня.
Когда ремонт участка был закончен, девушек-красноармейцев направили на погрузку барж. Нелегкое это дело — по шаткому трапу пронести мешок с картошкой пли с крупой. Трап качается, мешок давит с такой силой, что, кажется, еще немного — и упадешь. Не для восемнадцатилетней девушки такая работа, да что поделаешь. Успех навигации в те дни зависел не столько от экипажей судов, сколько от работы на портовых пирсах. Маша Трисанова не жалела себя. Отдыхать садилась последней, поднималась по трапу первой.
Так прошли лето и осень 1942 года.
Наконец, Трисанова приступила к исполнению своих прямых обязанностей. В ее руках надолго появился «всемогущий» жезл регулировщика. Маша стояла на одном из бойких постов.
Осень в тот год выдалась на Ладоге штормовой. Только к середине декабря покрылось капризное озеро льдом, но он был настолько тонким и непрочным, что потребовалась еще неделя томительного ожидания. 22 декабря на лед спустились роты дорожников и регулировщиков. За плечами винтовки, в руках кирки и ломы. Весь день и всю ночь они прокладывали трассу — убирали торосы, устанавливали вешки с фонарями.
На следующий день Маша Трисанова, работавшая с киркой на первых десяти километрах трассы, увидела, как по очищенной ими дороге пошли первые пять полуторок. Как она им тогда обрадовалась!
Вечером Машу вызвал командир роты.
— Собирайтесь, Трисанова. Поведете колонну.
— Одна?
— Может быть, взвод охраны выделить?
Странный он, право! Разве речь идет о страхе. Разве хоть раз оставила она пост на дороге, когда появлялись фашистские самолеты, пряталась, когда начинался обстрел? Просто не верилось, что такое ответственное дело поручают ей одной.
Трисанова взяла винтовку, лыжи, фонарь и отправилась на берег. Колонна была уже готова в путь. Маша сошла на лед, надела лыжи и сказала:
— Идти за мной, в сторону не сходить.
Пятнадцать километров туда, пятнадцать обратно — путь не маленький. Но Маша не чувствовала усталости. Ей было радостно сознавать, что вот она, рыжая Марийка, хрупкая девчонка, ведет темной ночью в осажденный Ленинград целую колонну воинов, которые через несколько дней пойдут в бой и будут громить врага. За ней идут, на нее смотрят, в нее верят сотни людей.
В роту вернулась перед утром. А днем вновь ходила по трассе, показывала путь машинам, повозкам. И так почти каждый день. Походы в ночь и в пургу стали делом обычным, будничным.
Самоотверженно работала девушка. В одном из приказов Военного Совета Ленинградского фронта среди других отличившихся воинов было названо имя Трисановой Марии — проводника воинских колонн. Тогда же ей присвоили звание сержанта и поставили на участке Кобона — остров Зеленец. Это был один из самых трудных участков. Он постоянно находился под обстрелом немецких батарей, расположенных в Шлиссельбурге, над ним день и ночь кружили фашистские самолеты. Частые оттепели делали лед рыхлым, крайне ненадежным. Здесь смотри да смотри в оба. Бывало, пройдет одна колонна по участку — и уже надо переносить трассу. Иногда это приходилось делать по пять-шесть раз в сутки, и все же не всегда удавалось избежать несчастья.
Как-то Маша возвращалась с обхода. Навстречу ей шла машина, на крыле которой стояла регулировщица Шура Красильникова. Вдруг машина остановилась. Шура соскочила с подножки и стала что-то кричать работавшим неподалеку дорожникам. «Беда случилась», — подумала Мария и бегом бросилась на помощь.
Лед медленно опускался. Подбежавшие дорожники и девушки — регулировщицы оттащили в сторону прицеп, сбросили на снег продукты, но спасти машину не удалось — она ушла под лед.
Однажды и сама Трисанова чуть не стала жертвой сурового озера. Домик, в котором размещалась ее команда, стоял на больших санях у самой трассы. Утром, когда девчата, а с ними и Маша крепко спали после утомительного ночного дежурства, в окно домика кто-то сильно постучал.
— Утонете, черти, — раздался с улицы голос шофера Кузьмина.
Кинулись к двери, но она не открывалась.
— В окно! — крикнула Маша.
Всем удалось выскочить. А домик, вместе с постелями, инструментом, маскхалатами дорожников, которые, чтобы не таскать их каждый раз домой, оставляли у девчат, — все ушло на дно озера.
Был у регулировщиц коварный враг — промоины, которые то там, то здесь образовывало непонятное ладожское течение. Движение на таком участке трассы временно прекращалось. У промоин скапливались десятки машин. А это-то и нужно было фашистским летчикам.
Однажды к одной из таких промоин подошла колонна машин. И не успела еще первая из них пройти через мостик, как показались вражеские самолеты. Видит Маша, как один из шоферов, рослый детина с небритыми щеками, выскочил из кабины и юркнул под кузов. Из-за струсившего водителя остановились и другие машины. Маша бегом бросилась к грузовику.
— За руль, сукин сын! — крикнула она. — Не поедешь — убью на месте.
И наставила на шофера автомат. Тот испуганно посмотрел на девушку, торопливо залез в кабину, завел машину и повел через мостик.
Самолеты сбросили бомбы, по они не причинили большого вреда. Рассредоточенная колонна продолжала путь, а повторить удар фашисты не смогли. Наперерез им уже шли наши истребители.
Небритый здоровяк, так испугавшийся вражеских самолетов, запомнил Машу крепко-накрепко. Он не был трусом, и то, что с ним случилось, произошло, видимо, потому, что человек впервые попал на ледовую дорогу. А здесь лучшее средство спасения — быстрое продвижение вперед. Теперь, проезжая по трассе, он бросал на Машу виноватый взгляд, а однажды не выдержал, остановился.
— Здравствуй, сержант.
Обычные слова, но произнесены они были как благодарность за большую услугу.
* * *
После Ладоги Трисанова прошла по многим дорогам Ленинградского фронта. Она управляла движением в Шлиссельбурге, под Лугой, в городах Прибалтики. Но ни одна из них не запала так в сердце и память, как «Дорога жизни». В других местах тоже было трудно и опасно, но там под ногами была родная земля, там было где укрыться от пурги и мороза.
Только переправа у Долгой Мельницы, что пересекала дорогу на Гдов, может сравниться с трудностями на ледовой трассе. Сюда Маша Трисанова попала уже в 1944 году, когда блокада была снята полностью и наступление советских войск развернулось по всему фронту. К переправе у Долгой Мельницы шли две наши армии. Шли днем и ночью, мощными колоннами, с тяжелой техникой. За пятеро суток Маша спала не более десяти часов и ела, наверное, не более пяти раз, да и то одну картошку. Даже за сапогами в батальон никому не удалось съездить. Так и ходила по лужам в валенках…
И. Ворожейкин, С. Кугаевский ГЕРОИ НОВОРЖЕВСКОГО ПОДПОЛЬЯ
ГОЛОС РОДНОЙ МОСКВЫ
Резкий ветер горстями бросал колючий снег в лицо. Он обжигал щеки, пробирался за воротник. Метель неистовствовала. Опасаясь встреч с полицаями, Толя Острогорский шел полем, утопая по пояс в сугробах. Заметив темные очертания деревни Трохачево, облегченно вздохнул:
— Наконец-то. Только бы застать дома…
Вот и знакомая изба, где живет Саша Хлебодаров.
Оглянувшись, юноша осторожно постучал в дверь.
— Кто там?
Толе показалось, что мужской голос дрогнул.
— Откройте, Роман Егорович.
— Носит тебя нелегкая, — вместо приветствия проговорил отец Саши, плотно закрывая дверь.
Саша перебирал книги. На одной из них Толя прочитал: «История СССР».
— Не забываешь про школу?
— А ты? — вместо ответа спросил Саша.
На минуту ребята замолчали. Затем заговорил Толя, горячо, убежденно:
— Саша, дружище, нельзя нам больше бездействовать. Вот мы хотели через линию фронта перебраться. А разве нельзя быть полезным Родине здесь, на оккупированной земле, в нашем Новоржеве? Нужно только быстрее решиться. Если ты согласен, то нам, как комсомольцам, надо потолковать с другими ребятами.
На другой день Толя Острогорский и Саша Хлебодаров побывали у Васи Барихновского, Володи Баркова, Игоря Соколова, Кима Петрова. Через несколько дней все, с кем говорили Толя и Саша, пришли на квартиру Игоря. Собралось больше десяти юношей и девушек, бывших учеников Новоржевской средней школы.
— Интересная штука получается, — сказал Барихновский, показывая ребятам приказ коменданта Новоржева. — Хлеб отдай, скот отдай, сам работай на немцев, а теперь еще и радиоприемники отбирают. Только приемничек-то я им не сдам, хотя он и не работает.
— Приемник! Вот здорово! — радостно воскликнул Петров. — Что же ты молчал, чертушка!
Две ночи возились друзья со старым приемником, но он упорно молчал.
— Ничего, ничего, заговорит, — подбадривал себя и друзей Вася, поворачивая, наверное, в сотый раз выключатель.
И вдруг раздался перезвон кремлевских курантов. Подпольщики на какой-то миг замерли, затем схватили карандаши. Диктор читал приказ Верховного Главнокомандующего о разгроме фашистских войск под Москвой.
И еще одна ночь была бессонной: ребята писали листовки. Утром Барихновский отправился в Новоржев. На окраине города его задержал патруль.
— Куда? — один из гитлеровцев ткнул дулом автомата в Васину грудь.
— В комендатуру, — ответил Барихновский.
— А-а, — протянул фашист и повернулся спиной.
Вася зашагал дальше. У доски объявлений военной комендатуры он остановился, осторожно вытащил из-за пазухи листовку и прикрепил ее поверх распоряжения гитлеровских властей. Затем юноша неторопливо прошел к афишной тумбе…
Вскоре всюду, где отважный подпольщик наклеил листовки, толпились люди.
— Вот это новость! — восхищенно говорил старик в дубленом полушубке. — Выходит, капут немцам под Москвой. А они-то брехали…
О разгроме гитлеровцев под Москвой в тот день узнали не только в Новоржеве, но и во многих окрестных деревнях.
БОРЬБА РАЗГОРАЕТСЯ
В городе регулярно стали появляться листовки. Гитлеровцы усилили репрессии. Малейшее неповиновение влекло теперь за собой угон в Германию или расстрел. Но и это не помогло. Борьба против оккупантов разгоралась.
Вскоре включилась в нее и Зоя Брелауск — учительница Крекшинской семилетки. На бирже труда, куда пришла Зоя просить работу, ей был устроен настоящий допрос: «Кто, откуда, не комсомолка ли?». Отвечала коротко: Зоя Яковлевна Брелауск, год рождения 1914-й, окончила Опочецкое педагогическое училище, работала учительницей, была комсомолкой.
Немецкий офицер взглянул на посетительницу. Перед ним стояла высокая девушка. Аккуратно завитые волосы обрамляли симпатичное лицо, голубые глаза смотрели открыто и прямо. Гитлеровец отвернулся и что-то отрывисто произнес.
— Будете шить мешки, — сказал переводчик.
Когда Брелауск уходила с биржи, ей показалось, что мимо прошла знакомая. Зоя оглянулась: сомнений быть не могло. Тихо окликнула:
— Зина?
Та остановилась:
— Зоя!
Оказалось, что Зина Евдокимова, владевшая немецким языком, работала на бирже труда, в отделе, в котором выдавали местному населению документы. Девушки вышли на улицу. По дороге рассказали друг другу о своих мытарствах после начала войны.
Зина внимательно слушала подругу. И тогда Зоя решилась:
— Знаешь, Зинок, а все-таки жутко жить так, как мы живем. Вчера я проходила мимо одного дома. Двое фашистов за руки вели девушку, она не хотела идти, наконец вырвалась и плюнула в лицо одному из гитлеровцев. Тот вытащил пистолет и застрелил ее. Застрелил спокойно, будто стрелял не в человека… Так продолжаться больше не может. Не должны мы сидеть сложа руки.
— Об этом я часто думаю, Зоя. Но что делать?
— А ты помоги нашим людям. Ты же сама сказала, что выдаешь документы. — Зоя на минуту задумалась. — сейчас часто отправляют молодежь в Германию. Но фашисты отбирают здоровых людей. А им надо выдавать такие документы, по которым они бы значились больными. Понимаешь?
— Понимаю, понимаю и постараюсь так делать.

Зоя Брелауск
…Как-то в воскресный день Зина пришла к Зое домой.
— А я с хорошей вестью. Тебе, Зоя, можно устроиться на маслозавод. Освободилась должность счетовода. С кем надо я уже поговорила. Работа там несложная: нужно выдавать квитанции сдатчикам молока и масла, всегда с народом будешь.
Засиделись до позднего вечера. Провожая подругу, Зоя предупредила:
— Действуй осторожнее, Зина. Неровен час скажешь лишнее — злой язык найдется.
Едва только Брелауск вернулась домой, как раздался негромкий стук.
— Войдите!
Две женщины, закутанные в теплые шали, переступили порог.
— Зойка, не узнаешь, что ли? — радостно воскликнула одна из них.
Брелауск растерянно посмотрела в сторону говорившей. Та скинула заиндевевшую шаль.
— Шура! Смирнова Шура! — ахнула Зоя.
Учительнице русского языка и литературы Крекшинской семилетней школы Александре Ефимовне Смирновой не удалось в свое время получить высшее образование. А учиться хотелось. Девушка поступила на заочное отделение Калининского педагогического института. Нелегко было совмещать работу с учением, но комсомолке Смирновой настойчивости и трудолюбия было не занимать. Война застала Шуру в Калинине — сдавала экзамены за третий курс литературного факультета. Однако вскоре книги пришлось на время отложить — студенты, в том числе и заочники, были отправлены на сооружение оборонительных рубежей. Смирнова рыла окопы, устанавливала противотанковые надолбы. Когда работы были закончены, Шура добралась до Торопца. Там жили родственники. Врагу вначале удалось занять Торопец, но в январе 1942 года советские войска освободили город.
Однажды Шуру вызвали в районный комитет комсомола. В кабинете первого секретаря сидел немолодой мужчина в полувоенном костюме. Он приветливо поздоровался с Шурой, усадил ее в кресло. Обращаясь к девушке, незнакомец заговорил тихо, но уверенно, твердо:
— Вас мы пригласили затем, чтобы направить в тыл врага. Я имею в виду Новоржевский район. Нужно помочь наладить там организованное сопротивление оккупантам. Знайте — опасности будут стеречь вас на каждом шагу. Враг не только злобен, но и коварен.
— Я готова на все! — с волнением сказала Шура.
Смирновой подробно объяснили, что она должна делать в Новоржеве. Сказали, что с нею пойдет еще одна девушка, Вера Капусткина. Она хорошо знает немецкий язык, ей надо помочь устроиться на службу в воинскую часть.
Когда утром следующего дня Шура вновь пришла в райком, она увидела красивую девушку лет двадцати. Незнакомка склонилась над картой. Пышные волосы то и дело спадали на лицо, и она часто поправляла их рукой.
Девушки познакомились. Вскоре Шура уже знала, что Вера Капусткина училась в юридической школе, родом она из Калининской области. Перед отправкой за линию фронта они тщательно изучали карту. Назубок вызубрили названия деревень, через которые им предстояло идти.
Наконец в путь. На второй день пришли к назначенному месту, в расположение наших войск. Здесь девушки подкрепились, отдохнули. Вечером их вызвали в штаб.
— Теперь самое время. Счастливо, — напутствовал командир.

Шура Смирнова
Линию фронта перешли незаметно. Позади еще долго слышался шум боя. Миновали первую деревню на занятой врагом территории. В домах ни звука — будто вымерли все. У околицы второй деревни их встретил громкий собачий лай. Девушки отбежали к кустам и залегли. В небо взвилась ракета, в морозном воздухе гулко прозвучали выстрелы. Стихли они так же неожиданно, как и начались.
— Кажется, не заметили, — прошептала Вера. — Пошли.
Усталость сковывала ноги, а они все шли, шли… Холодным зимним вечером показался Новоржев. Шура перебирала в памяти фамилии знакомых. «Кто из них живет теперь здесь? К кому из них можно зайти? Кому можно довериться? Ну, конечно же, надо найти учительницу Зою Брелауск».
…Долго в ту ночь не смолкал разговор в комнате Зои. Шура убедилась, что в своем выборе она не ошиблась. Брелауск уже сама подобрала несколько человек, на которых можно положиться. И они уже действовали!
ЗА СОВЕТСКУЮ РОДИНУ!
Веру Капусткину удалось устроить на кухню одной из воинских частей. Девушка сказала гитлеровцам, что ее мать была немкой, ненавидела советский строй, со слезами говорила о гибели родителей во время бомбежки. Капусткиной поверили. Однажды на кухне появился сухопарый фашист в форме офицера полевой жандармерии. Вера невозмутимо продолжала чистить картошку, напевая незамысловатую песенку, услышанную от немецких солдат. Офицер прислушался и, улыбнувшись, сказал:
— Такая красавица и такая грязная работа. Вам нужна другая работа, фрейлейн.
— Я думаю, — ответила Вера, — что и это маленькое дело идет на пользу славной германской армии.
— Хорошо сказано. Очень хорошо, милая фрейлейн. Но я решил дать вам более ответственную работу. С сегодняшнего дня вы — наша переводчица.
Так Вера Капусткина стала переводчицей в полевой жандармерии. Перешла на другую работу и Зоя Брелауск. Она стала счетоводом на маслозаводе. Вместе с ней работали Мария Гусарова и Валентина Чигаринова.
Мария Семеновна Гусарова, ныне бухгалтер дорожно-эксплуатационного участка в Новоржеве, вспоминает:
«Из близких и дальних деревень приходили на завод люди. Оккупанты заставляли крестьян сдавать молоко и масло. Нам часто приходилось слышать, как женщины, глотая слезы, рассказывали, что ребятишки сидят дома голодные, а гитлеровцы отнимают последние крохи. Как то мне особенно стало жаль старушку, принесшую масло. Я сказала своим подругам, что нельзя ли как-нибудь оставить масло у нее. Брелауск грубо прервала меня: «Нет, нельзя!»
Когда ушла сдатчица, Зоя ласково заговорила со мной:
«Представь себе, что мы вернули этой старушке масло. По простоте душевной она могла бы рассказать в деревне, что вот, мол, какие добрые люди на маслозаводе. Потом о нас узнали бы фашисты. Народу стало бы хуже, а нас, конечно, убрали бы. Мы можем помочь людям, но только но так…»
После работы Брелауск зашла к Гусаровым. Дома был муж Марии, он играл с дочкой. Зоя знала Дмитрия Гусарова с самой лучшей стороны. До войны он работал слесарем в артели «Новый путь», был активистом.
— Вот что, Дима. Нам нужен свой человек в тюрьме. Сейчас туда ищут надзирателей, но но находит. Тебе надо поговорить с начальником тюрьмы. Фамилия его Селищенский. Если тебе удастся устроиться в тюрьму, мы не только сможем помогать арестованным, но и будем знать причины их ареста.
На другой день Гусаров имел разговор с начальником тюрьмы, а через неделю его сердитый голос уже раздавался в камерах.
Почти всем подпольщикам удалось войти в доверие к оккупантам и их прихвостням. Работа переводчицы давала возможность Вере Капусткиной получать ценные сведения о численности и вооружении гитлеровцев. Зина Евдокимова могла обеспечивать бланками документов и помочь устроить нужного человека на работу. На селе помощницами Зои стали ее подруга по школьной работе Клава Гринченкова, которая жила в деревне Грибово, и Маруся Федорова, переехавшая из Новоржева на родину мужа, в Юхновский сельсовет.
Пришло время возвращаться в Торопец Смирновой. Расставаясь с Зоей. Шура наказывала:
— Скоро мы опять увидимся. По если мне не удастся попасть в Новоржев, то все, что у тебя будет для меня, передай Толе Острогорскому. Он знает, куда надо доставить.
Впервые Зоя встретила Толю у Гусаровых. Перед этим Смирнова предупредила Брелауск, что для связи было бы хорошо иметь надежного человека, лучше всего из молодых. На таких меньше обращают внимания. Вот тогда-то Зоя узнала у Дмитрия, что Острогорский вместе с другими ребятами распространял листовки, парень он серьезный, комсомолец.
Вскоре с Толей поговорила Смирнова. Зоин выбор был одобрен.
Для оккупантов наступало неспокойное время. В лесах под Новоржевом в 1942 году смело действовал партизанский отряд под командованием Большакова. В него вступили Вася Барихновский и Ким Петров. Вскоре партизанами стали Неля Степанова, Толя Острогорский, Володя Барков. Те, кто полгода назад, затаив дыхание, слушали сообщения Совинформбюро из Москвы, теперь с оружием в руках защищали Советскую Родину.
Действовали партизаны дерзко и умело: совершили ночной налет на деревню Давыдово, где разгромили фашистский гарнизон, взорвали Горькухинский мост, что на шоссе Новоржев — Опочка. Эту операцию, в результате которой на несколько дней приостановилось движение по дороге, имевшей важное значение для оккупантов, выполнил Ким Петров со своими товарищами.
К конце 1942 года под Новоржевом появилась партизанская бригада Максименко. Отряд Большакова влился в ее состав. Когда бригада под натиском карателей ушла в леса, Ким Петров с группой смельчаков из бригадной разведки продолжал действовать в районе Черноярово. Здесь и произошла встреча Кима с Шурой Смирновой. Отсюда они вместе направляли в Новоржев связных. Однажды побывал в Новоржеве и дед Кима — глубокий старик, не по летам подвижный. Он отвез в семью Терентия Петровича Петрова для передачи Зое Брелауск полученные через партизан листовки и свежие газеты.
Толя Острогорский в это время пробрался за Сороть, в партизанскую бригаду Германа. В начале лета 1943 года он появился в Черноярово с заданием связать между собой разрозненные партизанские группы. В первую очередь отважный юноша установил связь с Шурой Смирновой и Кимом Петровым.
Новоржевские подпольщики действовали в очень трудных условиях. Фашисты свирепствовали, по малейшему подозрению учиняли зверские расправы. Старожилы Новоржева хорошо помнят, как однажды гитлеровцы схватили за какую-то провинность нескольких мальчиков в форме учащихся ремесленного училища и повесили их перед самым входом в городскую церковь.
Брелауск и ее товарищи хорошо понимали, что сейчас надо действовать более активно. К борьбе против оккупантов решено было привлечь находившихся в Новоржеве и ближайших населенных пунктах военнопленных. Под страхом смертной казни гитлеровцам удалось некоторую часть из них заставить надеть форму и выполнять хозяйственные работы, охранять дороги и мосты. Через Веру Капусткину Зоя познакомилась с одним из пленных. Звали его Суреном, родиной его была Армения.
Как было условлено, Сурен встретился в лесу с Толей Острогорским. Обсудив с ним план побега, он ночью пробрался к своим землякам — военнопленным, охранявшим мост на Опочецкой дороге, и увел их к партизанам. Армяне вместе с группой Кима Петрова влились в З-ю бригаду ленинградских партизан.
Позже туда перешло еще несколько групп военнопленных. Бывший начальник политотдела бригады Михаил Леонидович Воскресенский вспоминает:
«Принять армян приехали комбриг Герман, начальник штаба Крылов и я. Крылов прочитал приказ о зачислении перешедших в состав бригады. Раздалась команда:
«Сорвать фашистские погоны!»
Затем:
«Отпороть немецкую курицу!» (Так называли военнопленные нашивки на рукаве, изображавшие крылья.)
Военнопленные стояли в строю взволнованные. Многие плакали…»
Уход к партизанам целой группы военнопленных, да еще с оружием в руках, не на шутку встревожил коменданта и гестаповцев. Новоржев теперь охранялся особенно усиленно, попасть в город было сложно, а еще труднее — выбраться из него. И все же не один раз темными ночами Толя Острогорский добирался до дома матери Нели Степановой и передавал Евгении Павловне небольшие свертки для Зои, получая, в свою очередь, письма с разведданными для Шуры. Роль связного иногда выполняла Клава Гринченкова.
Гестаповцы вначале ничего не подозревали. Да и в самом деле, мог ли кто из них подумать, что переводчица Вера Капусткина, всегда так мило улыбавшаяся офицерам из полевой жандармерии, запоминала все, о чем говорили они между собой. Обычно в тот же день об этих разговорах узнавала мало кому известная работница маслозавода Зоя Брелауск.
Иногда забегала на завод Зина Евдокимова. Приходила она обычно к обеденному перерыву, как бы невзначай. Зина передавала незаполненные, но уже заверенные печатью документы, сообщала, кого успела предупредить об угоне в Германию. Под вечер где-нибудь в людном месте Брелауск встречалась с Гусаровым. Дима с невозмутимым видом первым подавал руку Зое. Та, отвечая рукопожатием, чувствовала в ладони записку.
Командование 3-й партизанской бригады было хорошо осведомлено о положении в городе Новоржеве и в его районе. Подпольная группа Брелауск сообщала, где и какие части гитлеровцев находятся. Партизаны получали точные данные об укреплениях и огневых точках врага. Молодым патриотам удалось переправить в бригаду план обороны Новоржева.
В свою очередь, и партизаны не оставались в долгу перед подпольщиками, передавали им листовки и газеты. Появились они как раз в тех местах, где гитлеровцы меньше всего ожидали: на зданиях тюрьмы и комендатуры, на домах, где жили оккупанты. Много листовок распространялось по району. Фашистским сказкам о скорой победе над Советской Россией теперь уже никто не верил.
ВРАГИ НАПАЛИ НА СЛЕД
Август 1943 года стоял засушливый. Жара не спадала даже по ночам. Перед тем как лечь спать, Роман Егорович Хлебодаров проверил, крепко ли закрыта калитка: мало ли кто может забрести ночью во двор неслышно, а так прежде постучать придется. Неожиданно он услышал, что к его дому кто-то подъезжает.
В ворота постучали. Хлебодаров открыл. Перед ним были офицеры-гитлеровцы. Отведя лошадей за дом, они прошли в комнату. Только здесь Роман Егорович разглядел, что одним из офицеров был… Толя Острогорский. Со злости Хлебодаров даже выругался:
— Чертяга проклятый! Ишь вырядился!
Острогорский вместе с Суреном ехал в Черноярово к Евгении Павловне Степановой за сведениями от Брелауск. По пути Толя и решил заехать к Хлебодарову. Роман Егорович посоветовал Острогорскому и Сурену остаться до утра, сообщил, что в Черноярово прибыл карательный отряд, ночью можно нарваться на засаду.
— Ничего, — ответил Толя. — Не заметят. А потом мы все-таки в офицерской форме.
Оговорить связных Роману Егоровичу не удалось. Толя и Сурен поехали дальше. Перед рассветом они постучали в дом к Степановой. Евгения Павловна, передавая сведения Зои, предупредила, что в деревне полицаи, велела быстро уходить.
Через несколько минут раздалась автоматная очередь, а потом выстрелы из винтовки. Сурен подбежал к дому Евгении Павловны и крикнул:
— Нарвались на засаду. Толю убили!
Когда стало светло, гитлеровцы разглядели, что подстрелили своего офицера. Пришлось звонить в Новоржев. Гестаповцы не заставили себя ждать.
В то же утро Евгения Павловна пошла в Новоржев. О случившемся надо было немедленно сообщить Зое.
Два удара обрушились на Брелауск. Пришло подтверждение о расстреле Капусткиной. На квартире Веры гитлеровец случайно обнаружил в книжке записку с разведданными. Сначала Капусткиной удалось избежать ареста. Она покинула Новоржев, но была схвачена по дороге, и Зоя только сейчас узнала о гибели замечательной разведчицы. И вот еще одна жертва — Острогорский. Расспрашивая Евгению Павловну о гибели Толи, Зоя спросила:
— А мои сведения?
— Я отдала ему.
— Значит, они попали в руки гестапо.
Возвращаясь после свидания со Степановой, Зоя старалась вспомнить все, что она отправила в бригаду. «Да, у Острогорского нашли бланки разных документов, письмо его двоюродного брата Вани с просьбой принять в партизаны, мои донесения». И тут Зоя вздрогнула: одно из донесений она не успела составить печатными буквами и написала от руки. Правда, подписи не было. Но если фашисты начнут сличать почерки?
На работе Зоя и виду не подала, что случилось непоправимое. Вечером было уничтожено все, что могло ее скомпрометировать… Теперь можно уходить в лес. Иного выхода нет.
Размышления прервал приход немецкого коменданта. Тот был только с переводчицей. «За мной… но почему один?» — подумала Зоя. Она знала, что в таких случаях обычно приезжает много солдат. Гитлеровец объяснил, что сейчас идет ревизия работы хозяйственных учреждений и ему необходимо познакомиться с книгами учета сдачи молочных продуктов.
— Может быть, мне пальто надеть? спросила Зоя, решив проверить намерения фашиста.
— Не стоит, на улице тепло. Я нас отвезу домой.
В конторе завода уже никого не было. Зоя открыла шкаф, в котором хранилась документация. Гитлеровец начал внимательно рассматривать записи.
— Здесь не очень то удобно. Заберем книги и поедем лучше ко мне, в комендатуру, сказал офицер.
Подъехали к зданию бывшего отделения Госбанка. Прошли несколько комнат. И самом конце помещения офицер открыл железную дверь:
— Прошу!
И сильно толкнул девушку в камеру-карцер. Зоя огляделась. Стены карцера обиты жестью. В этом железном мешке можно было только стоять или сидеть, поджав ноги.
Так вот какая «ревизия»!
Вслед за Брелауск гестаповцы арестовали Зину Евдокимову, Диму Гусарова, Марусю Федорову, Ваню Острогорского, Клаву Гринченкову и еще несколько человек, замеченных в близком знакомстве с Зоей Брелауск и ее друзьями.
ПЕРЕД ЛИЦОМ СМЕРТИ
Что сейчас: день или ночь? А может, еще и рассвета не было? Время идет так медленно. Зоя понимает, что фашисты ждут, когда она сама застучит в дверь, попросит, чтобы ее выпустили из карцера. Не дождутся!
В мыслях одно: арестован ли еще кто-нибудь? Как бы было хорошо, если бы ребята успели уйти к партизанам…
Заскрипела дверь. Зоя зажмурилась от яркого света, с трудом встала на онемевшие ноги. На допрос.
За двумя столами сидят офицеры. Неожиданно один из них почти ласково заговорил по-русски:
— Вы помогите нам, Брелауск, выяснить некоторые неясные вещи. Думаю, что вы, если и замешаны в них, то совсем случайно. Наши люди убили Острогорского — бандит не хотел сдаваться. У него найдено письмо, почерк ваш, но кому вы его писали?
— Какой Острогорский, какое письмо? Вероятно, тут ошибка?
— Ну как же не вы писали? Вот дела с маслозавода, а вот ваша записка, — следователь показывает на письмо Зои и на папку счетных документов. — Ошибки тут нет.
— Я никому и ничего не писала.
— Значит, не писали?
— Нет!
Фашист подходит к девушке, вынимает зажигалку и прикуривает сигарету. Горящую зажигалку подносит к Зоиному подбородку. Боль ударяет в виски, но Зоя молчит.
— Не писали?
— Нет!
Пытка продолжается. Офицер бьет по лицу раз, другой…
Из кресла поднимается комендант. Он говорит спокойно. Зоя слышит фамилии подпольщиков. Следователь переводит.
— Ваши друзья — Гусаров, Евдокимова, Гринченкова, Федорова во всем уже признались. Ради чего вы упорствуете?
— Если они признались, так что же вы еще хотите? — невозмутимо отвечает Зоя.
Теперь удары сыплются справа и слева. Кто-то сильно бьет по затылку. В глазах темнеет… Сознание возвращается медленно. Первое, что видит Зоя, — дневной свет. Она лежит на полу, рядом — нары. «Значит, отвезли в тюрьму».
В тот же день гестаповцы подвергли допросу и пыткам всех арестованных друзей Брелауск. Первым на допрос вызвали Гусарова.
— Вы знаете Брелауск?
— Конечно, знаю. Жили по соседству.
— Она сказала, что вы ей сведения из тюрьмы передавали, — допытывался тот же гестаповец, который допрашивал Зою.
— Это я-то? Нет, вы что-то путаете, господин следователь. Уж что-что, а обязанности надзирателя я выполнял исправно.
— Ты будешь отвечать?
— Я и так не молчу, — усмехнулся Гусаров.
— О чем ты сообщал партизанам?
— А я и в глаза их не видал.
Гестаповец что-то гаркнул, в комнату вошли двое солдат. Они связали Диме руки, затем раздели, привязали к скамье. Шомпола со свистом разрезали воздух. Вскоре Дима потерял сознание…
На допрос подпольщиков вызывали поодиночке. После избиения бросали в камеры, обливали холодной водой. Затем снова волокли к следователю. Арестованная по подозрению Анна Анисимовна Русова, ныне работающая учительницей в Ладинской школе Новоржевского района, рассказывает, что последний раз видела Зою в коридоре тюрьмы. Лицо Брелауск было в крови, одежда порвана. Шла она прихрамывая.
Утром 9 октября 1943 года комендант подписал приказ: приговаривались к расстрелу Зоя Брелауск, Дмитрий Гусаров, Зинаида Евдокимова, Мария Федорова, Клавдия Гринченкова, Иван Острогорский. На рассвете 11 октября к тюрьме подошла машина, в которой обычно увозили на расстрел. К кузову подпольщиков подводили по одному. У каждого руки были связаны колючей проволокой.
— Значит, расстрел, — громко сказала Зоя.
— Да, — откликнулся Дима.
Машина тронулась. Ребята прижались друг к другу. Молчание нарушила Зина:
Лермонтовские строчки звучали в устах осужденной на смерть девушки страстным призывом к жизни, к борьбе…
В кустарнике за деревней Орша — километрах в двух от Новоржева — машина остановилась. Подталкивая прикладами, палачи повели подпольщиков к свежевырытой яме.
— Всех не убьете! Все равно победа будет за нами! — Крикнула Зоя.
В утреннем воздухе прогремели выстрелы…
* * *
В городском саду Новоржева есть братская могила. На скромном обелиске имена: Зоя Брелауск, Дмитрий Гусаров, Мария Федорова, Клавдия Гринченкова, Зинаида Евдокимова, Иван Острогорский… Самой старшей — Зое — в год гибели исполнилось двадцать давять лет, самому младшему — Ване Острогорскому — семнадцать.
Я. Виноградов РАЗГРОМ ФАШИСТСКОГО ГАРНИЗОНА
СНОВА КАРАТЕЛИ
Отшумела над Полистью декабрьская гроза. Крупная карательная экспедиция гитлеровцев, предпринятая против Партизанского края в начале зимы 1941 года, провалилась. Генерал-лейтенант фон Шпейман спешно уводил свое потрепанное соединение к линии фронта. Он мог назвать только две итоговых цифры: предано огню 39 русских деревень и расстреляно в них более 100 жителей, заподозренных в связи с народными мстителями.
После временного отхода на юг, к Рдейскому болоту, партизаны 2-й бригады вернулись в Серболовский лес.
…В штабной землянке полутемно. Над низким окошком свисают сосновые ветви. Бледный рассвет скупо проникает сквозь густую хвою. На столе, сколоченном из досок, разостлана карта-километровка. Над ней склонились командир бригады Николай Григорьевич Васильев и комиссар Сергей Алексеевич Орлов. Перед их мысленным взором предстала вся территория непокоренного врагами края: широкие зеленые массивы лесов, через которые несут свои голубые воды реки Полисть и Шелонь, десятки деревень, занесенных снегом.
В дверь постучали. В землянку, вместо с клубами морозного пара, ввалился связной. Путаясь в длинных полах деревенской шубы, он достал на кармана пакет и протянул его Васильеву. Тот вскрыл конверт.
— Что там? — поинтересовался Орлов.
— Каратели опять пришли в край. Ну что ж, этого надо было ожидать. Разве они нас оставят хоть на неделю в покое? Пока появился первый отряд. Влетел в деревню, пострелял людей и исчез. А куда — неизвестно. Вот что, связной, — строго добавил Васильев, — передай командиру, чтобы завтра же, к полудню, представил мне сведения: где остановились немцы и сколько их. Понял?
— Есть передать командиру!
На следующий день в штабе бригады уже было известно, где расположились каратели. Численности противника и его вооружения пока еще не знали. Васильев долго изучал карту, что-то обдумывал и наконец распорядился:
— Вызвать ко мне командование отряда «Буденовец»!
Буденовцы не заставили себя долго ждать.
— По нашему приказанию прибыли! — отрапортовал командир отряда Николай Рачков. Вслед за ним вошли комиссар Александр Майоров и начальник штаба Василий Ефремов.
— Ну что, командир «буденовской дивизии», — начал комбриг, — скучаешь, наверное? Экспедиция ушла, фашистов поблизости нет, схватиться не с кем.
— Да, почти так, — согласился Рачков и присел на деревянную чурку.
— А я тебе вот что скажу: враг не дурак, чтобы оставить партизан одних в этих лесах — делайте, мол, что хотите. Он имеет здесь свой глаз, свою плеть и свой клык. Глазами фашисты будут за нами следить, плетью будут карать тех, кто нам помогает, а клык им нужен, чтобы вспороть нам живот при удобном случае. И находится этот фашистский клык… — Васильев подошел к карте и ткнул пальцем восточнее Дедовичей, — вот здесь!
Рачков потянулся к карте и прочитал вслух:
— Ясски.
Выбор фашистов был не случаен. Село Ясски — крупный населенный пункт, расположенный на большой шоссейной дороге; в восьми километрах от него — районный центр и железнодорожная станция Дедовичи. Оттуда, в случае опасности, быстро можно вызвать помощь. И своими естественными рубежами село будто специально приспособлено к обороне.
— Я ставлю, — говорил комбриг, — задачу: обстоятельно разведайте силы карателей, устраивайте ложные взрывы, обстрелы, а потом, когда все будет ясно, ударьте. Учтите, гарнизон в Яссках сильный. По донесению разведки — это 20-й эсэсовский батальон. Он прошел по полям Франции, Голландии и Греции. Здесь окопался, как видно, надолго. Враг опоясал село инженерными сооружениями, охрану своих объектов продумал тщательно. Задача ясна?
— Да, товарищ комбриг.
Вскоре и до нашей землянки, где жили командиры и политруки рот, дошла весть о новом задании штаба. Были скомплектованы ударные группы и отданы распоряжения готовиться в путь. Подобрал группу и командир нашей третьей роты Леонид Васильевич Цинченко, работавший до войны вторым секретарем Славковского райкома партии.
Когда лагерь погрузился в полумрак, от землянок отошел обоз.
ТРУДНАЯ РАЗВЕДКА
Не доехав до Яссок несколько километров, отряд наш остановился в большой деревне. Утром следующего дня Рачков отправил в стан врага разведчицу. Это была Анастасия Филиппова, женщина средних лет, уроженка здешних мест. Захватив с собой корзиночку яйц, она пошла в Ясски, якобы устраиваться на работу.
В штабе с нетерпением ждали возвращения разведчицы. Ждали день, ждали ночь, еще день… А когда подошли к концу вторые сутки, стало ясно: Филиппова арестована карателями.
Тогда Рачков решил ночью направить к Ясскам группу разведчиков.
Вышла группа в следующую ночь. Вблизи Яссок разведчики залегли в придорожной канаве, а Вася Крылов и Егор Николаев пошли по дороге. Партизаны рассчитывали на то, что, увидев неизвестных, часовые поднимут тревогу, откроется беспорядочная стрельба и можно будет засечь огневые точки карателей. Смельчаки уже скрылись из виду, когда до слуха оставшихся в засаде партизан донесся шум, похожий на скрип санных полозьев. Да, ошибки не было, вслед за разведчиками по этой же дороге двигался немецкий обоз.
— Петровский, — вполголоса позвал Цинченко. — Немедленно верни Крылова и Николаева.
Разведчики в это время подходили к сараю. Они уже заприметили часового. Когда Крылов приготовился броситься на него, рядом, точно из-под земли, вырос Петровский.
— Назад! — прошептал он и вместе с разведчиками плюхнулся в снег.
Раздался испуганный крик часового. Грохнуло несколько выстрелов.
Разведка не удалась.
— А черт с ней, с разведкой. — вскипел Рачков. — Что мы, Ясски не разобьем? Вот налетим сегодня ночью…
— Чем рисковать вслепую, командир, — спокойно сказал Майоров, — попробуем еще раз разведать.
Цинченко и Александров по заданию штаба отряда пробовали схватить «языка». Всю ночь просидели они в снежных наметах у самых Яссок, но взять «языка» не могли.
Тогда было решено вести разведку с помощью ложных нападений на гарнизон. Делалось это так: группа партизан брала с собой обычные толовые шашки по четыреста граммов каждая, подползала к селу, закладывала эти шашки на дорогу и поджигала бикфордов шнур. Раздавался взрыв. Фашисты открывали огонь из пулеметов, минометов и автоматов. В результате таких «операций» стала известна огневая мощь противника.
На пятый день своего пребывания под Яссками ударная группа предприняла разведку боем. Партизаны приблизились к зданию школы, в которой были расквартированы каратели, и обстреляли его. Взлетела красная ракета, и по этому сигналу поднялся на ноги весь гарнизон. Фашисты довольно быстро заняли оборону. В этом бою удалось установить, что карателей в Яссках около трехсот человек. Отряд же «Буденовец» насчитывал только шестьдесят бойцов.
Малая численность отряда не позволяла Рачкову окружить гарнизон. Решили с двух сторон заминировать подступы к Ясскам и большой мост на дороге к Дедовичам. На операцию вызвались идти Цинченко, Петровский и Иванов. К ним присоединились еще двое: Петров и Кипровский. Командиром группы был назначен Цинченко.
Минеры уехали на задание днем. Путь не близкий: от штаба до места диверсии восемнадцать километров. Кипровский уложил в мешок около пуда тола. День был морозный, солнечный. Партизаны то и дело подстегивали лошадь и приехали раньше, чем предполагали. Остановились в трех километрах от Яссок, в небольшой лесной деревушке. Пришлось ждать, пока поступит темнота. Петровский остался с лошадью в деревне, остальные отправились к месту диверсии.
Ночь выдалась темная. Стояла такая тишина, что, казалось, легкий хруст ветки был слышен за километр. Группа минеров бесшумно приблизилась к мосту. Кипровский отделил часть тола и стал делать углубление для мины. Иванов начал закладывать тол…
Цинченко наблюдал за дорогой. Неожиданно ослепительно яркий свет ожег ему глаза, и все сразу померкло. Леонид Васильевич почувствовал, что летит куда-то вверх, а затем проваливается в бездонную пропасть.
Услышав взрыв, каратели открыли огонь из автоматических пушек и пулеметов. В ночную мглу впились сотни трассирующих пуль. Потом стрельба затихла. Снова наступила мертвая тишина.
Было еще темно, когда Цинченко очнулся. Он приподнялся с земли и огляделся вокруг. Увидел развороченный мост, черные глыбы земли. Попробовал двигаться, но не мог шевельнуть рукой и совершенно не чувствовал ног — настолько они закоченели. Ощупал себя: как будто все на месте. Но резкая боль в правом боку заставила прижаться к земле. Цинченко глубоко вздохнул — горлом пошла кровь.
И все же он пополз. Упираясь левым локтем в землю, упрямо полз туда, где чернел на снегу какой-то предмет. Дотянулся, прикоснулся к нему и сразу же отдернул руку — мертвый человек. Рядом валялись обрывки шинели. «Кипровский, — мелькнула мысль. — Он один был в шинели. Значит, в его руках от детонации тоже разорвалась толовая шашка».
Цинченко пополз дальше. В широкой выемке увидел сидящего под кустом человека, в стороне заметил еще одну человеческую фигуру. Сначала пополз к первому. Подумал: «Может быть, немец?» Но, приблизившись к нему, узнал Юру Иванова. Юноша силился подняться. Попробовал тащить его. Совместно продвинулись несколько метров, выбились из сил, и оба впали в забытье.
Очнувшись, Цинченко вернулся назад. Но, приблизившись к месту взрыва, уже никого не нашел — человек куда-то исчез. Как впоследствии выяснилось, это был Николай Петров. Придя в себя и не найдя никого
из товарищей, он стал выбираться один.
Ползти и тащить Юру у Цинченко не было сил. Тогда Леонид Васильевич решил добраться до деревни, где находился Петровский с лошадью. Вскоре он дополз до дороги. К самым обочинам ее подступали заиндевелые сосны. Цинченко обхватил одну из них отекшей рукой и с трудом поднялся на ноги.
На сером пригорке смутно вырисовывалась маленькая деревенька. Дойдя до первого дома, Цинченко постучал. Из-за двери раздался испуганный женский голос:
— Кто там?
— Я ранен, впустите.
Дверь скрипнула, и в щель просунулась простоволосая голова. Увидев на крыльце стоящего на коленях человека, женщина быстро исчезла, оставив дверь не закрытой. Минуту спустя она вышла в накинутой на плечи косынке.
Очнулся Цинченко в каком-то нежилом помещении. Оглядевшись по сторонам и увидев много сена, он догадался, что лежит в сарае. Рядом с ним стояла все та же женщина.
— Родной, немцы рядом, — тихо говорила она. — Потерпи немного, а потом пойдешь.
— Лошадь мне… Понимаете? Лошадь! Я не один. Там еще раненый. Помочь ему надо… — умолял Цинченко.
— Нет лошади, родной. Во всей деревне нет. Каратели всех забрали.
С трудом добрался Леонид Васильевич до деревни Северное Устье, где остался Петровский. Подводы на месте не оказалось. На рассвете Петровский увез в штаб отряда тяжелораненого Колю Петрова. Одна женщина помогла Коле добраться до деревни, и он пришел на стоянку первым.
Но лошадь Цинченко все же получил. Местный староста, оказавшийся другом партизан, приказал своему сыну немедленно отвезти раненого командира в штаб отряда. Другую подводу он послал к Ясскам за Юрой.
Все мы радовались возвращению Цинченко. Рачков долго не отходил от его постели, промыл спиртом раны, наложил повязку, подробно расспрашивал о случившемся.
Надо было спасать Иванова. Рачков направил к Ясскам конного разведчика. По ни партизанский разведчик, ни крестьянин из Северного Устья Юру не нашли.
ПАРТИЗАНСКАЯ "МОЛИТВА"
В бригадной землянке тягостная тишина. Васильев и Орлов сидят у чугунки, молча глядят на огонь, курят цигарку за цигаркой. За окном — ночь. Порывистый ветер с силой раскачивает деревья, завывает в густых ветвях сосен.
— Ты думаешь, он погиб? — неожиданно спросил комиссар, зная, что комбриг в эту минуту думал о том же.
— Думаю, что да, — глухо ответил Васильев.
Юру Иванова очень любили в отряде. Это был крепкий смуглый юноша с большими голубыми глазами. Когда он просил принять его в отряд, Рачков и Майоров долго не могли решить, как же поступить с ним. Таких молодых парней в то время в отряде не было.
— А ты подумал о том, как иногда страшно быть в партизанах? — спросили они его. — Придется в бой ходить, в разведку, голод переносить, холод?
— Подумал, — коротко отвечал Юра.
Взяли его в отряд с испытательным сроком. Юра получил задание: пробраться в деревню, занятую оккупантами, установить их численность и вооружение. И когда юноша принес в штаб исчерпывающие данные и рассказал, как он подполз по густой ржи к самым немецким пушкам, — вопрос о его приеме в отряд был решен.

Юра Иванов
Юра участвовал во всех операциях, проводимых «Буденовцем». И когда 30 декабря 1941 года отряд был выстроен для вручения правительственных наград, одним из первых было названо имя Юры…
Утром разведка донесла: тяжелораненый Иванов схвачен гитлеровцами и брошен в дедовичскую тюрьму. Через несколько дней наш головной пост задержал неизвестного человека и под конвоем доставил в штаб. Это был крестьянин небольшого роста, с жиденькой рыжеватой бородкой, в желтом потрепанном полушубке и больших валенках. Он стоял у порога землянки и искал кого-то.
— Мне бы товарища Майорова или Рачкова повидать…
— А откуда вы их знаете?
— Ну как не знать! Они же у нас в райкоме до войны работали. Моя фамилия Гришин, Илья Петрович.
— Майорова и Рачкова сегодня нет.
— Есть тут еще один человек, о котором я слышал: Васильев Николай Григорьевич.
— Так это я Васильев. Можете говорить, — сказал комбриг.
— Тогда я вам все и расскажу. Меня наши мужики прислали. Сходи да сходи, говорят, в Серболовский лес, может быть, и найдешь их там. Расскажи, как дело-то было. Вот я и пошел. Уж парень то больно хороший был.
— Это вы о ком?
— О парнишке нашем, дедовичском, Юрой звали.
— Юрой? — раздалось несколько голосов.
Рыжебородый свернул цигарку, глубоко затянулся дымом и, сняв шапку, начал рассказ:
— Случилось это под Яссками. Вы-то небось знаете, как туда попал Юра. Да и мы ночью взрыв слышали. То ли ему бок поранило, то ли ноги — не знаю, но ползти он все-таки мог. Дополз до деревни Подосье. И уроди бог в этой деревне, как на грех, ирода Семенова. Взял, сукин сын, веревку, связал парню ноги и руки, положил на воз да в Дедовичи, в комендатуру. Это своего-то парня, да еще раненого! Ну в комендатуре… известное дело. Я там рядом жил и все слыхал. Били его, Николай Григорьевич, били так, что не приведи бог… А он, как железо. Выкрикнет два-три слова и опять молчит. Фашист орет, пистолетом грохочет, а он молчит.
Рассказчик все чаще и чаще вытирал заплаканные глаза. Мы ловили каждое его слово.
— Потом вывели его на улицу, — глухо, будто издали, доносился до нас голос Гришина. — Шел он весь избитый, со связанными за спиной руками. Следом за ним, с автоматами наперевес, шагала группа немецких солдат во главе с офицером. В толпе закричала мать Юры. Она рвалась к нему, но ее удерживали односельчане. Юра обернулся и, увидев мать, пошатнулся. Каратель ткнул его прикладом в спину и крикнул: «Не оглядывайся!» Дорога лежала мимо часовни. И тут Юра, впервые за всю дорогу, заговорил: «Развяжите руки, я хочу помолиться». Немецкий офицер оскалился в улыбке. Значит, сломили все-таки комсомольца-партизана. Бога вспомнил. И приказал развязать руки.
— Мне-то было хорошо видно, — заканчивал рассказ Гришин. — Вижу — Юра правую руку поднял, стал он пальцы сжимать, да не крестом, а в кулак, и как ахнет офицера в морду, тот так и шлепнулся на землю. «Вот тебе партизанская молитва!» — крикнул парень и бросился бежать. А мы так и замерли на месте. Фашисты заорали. Потом из автомата очередь дали. Юра повернулся к нам и упал на снег…
Васильев поднялся с места. Все, кто был в землянке. молча обнажили головы.
БОЙ В ЯССКАХ
Отряд готовился к новой операции против ясского гарнизона, но неожиданно Рачков получил приказ: «Немедленно двигаться в зимний лагерь для получения нового боевого задания».
…28 января 1942 года 2-я партизанская бригада, преодолевая глубокие снега, вернулась в Серболовский лес. Позади остались славные, еще небывалые до сих пор у нас по своим масштабам дела. Две недели бригада во взаимодействии с частями Красной Армии участвовала в боевых действиях в районе города Холм, вела бои на его улицах.
Пока бригада находилась под Холмом, фашисты подступили к самым границам Партизанского края. Они сожгли деревню Дубовку, залегли в трех километрах от наших землянок.
Необходимо было разгромить Ясский гарнизон. И Васильев приказал выступать.
Отряд тронулся в путь. Длинная вереница подвод вытянулась по лесной дороге. Ехали на северо-запад. В большой деревне, расположенной вдоль шоссейной дороги и засыпанной по самые окна снегом, был объявлен привал.
В штаб бригады один за другим входили командиры отрядов, комиссары и начальники штабов. Когда все собрались, комбриг поднялся и сказал:
— Бой за Ясски назначаю на три часа ночи. Каждый отряд, как и в бою за Холм, получает определенный участок. Охватим гарнизон плотным кольцом с севера, с юга и востока. У гитлеровцев останется один выход — отступать по шоссе на запад, к Дедовичам. Это будет ложный выход. Сюда мы выбросим наш заслон и оседлаем дорогу между деревнями Борок и Кленива. В заслон пойдет отряд «За Родину».
Командиры знали о том, как любит Васильев тактику окружения. И хотя он всякий раз разнообразил ее, вводил различные детали — все же это был его любимый маневр. Налет, окружение! — в этом весь Васильев.
Сгущались сумерки. На окраине деревни партизаны заканчивали последние приготовления к отъезду: запрягали лошадей, грузили пулеметы и боеприпасы. Опоясанные пулеметными лентами, увешанные дисками и гранатами, люди рассаживались на подводы.
В двадцать один час тридцать минут отряд «Буденовец» выехал к месту боя, получив задание начать боевые действия раньше других отрядов. На пути к Ясскам расположена деревня Точки. Комбриг приказал в полночь занять эту деревню. Бой должен быть молниеносным.
Ночь, а светло как днем. Начальник штаба отряда Ефремов послал вперед группу разведчиков. Они, соблюдая все правила осторожности, быстро достигли окраины деревни. Фашистов в Точках не оказалось. Дорога на Ясски была открыта.
Первой к селу подошла наша рота. На пути стояли сенные сараи, в которых засели немцы. Из двух пулеметов они били прямо по наступающей цепи. Партизаны залегли. Полчаса продолжалась перестрелка. Исход боя решила первая рота Синельникова. С правого фланга она ворвалась в деревню, зашла в тыл фашистам и забросала их гранатами. Сараи загорелись.
С восточной стороны в Ясски ворвался отряд «Храбрый» и стал продвигаться вперед вдоль оврага. «Ворошиловец» в это время с севера атаковал фашистов, засевших в здании начальной школы. Партизаны отряда «Грозный» пробивались с юго-запада.
Бой разгорался.
— Рачков сегодня в ударе, — говорил комбриг, обращаясь к комиссару. Азартно наступает! Уже всю окраину очистил.
— А вот и автоматчики двинулись… Слышишь, слева бьют.
— Это Гриша Волостнов. Молодец! А вот это уже Синельников. Пошел, Никифор, пошел!
Отряд «Грозный», встретивший отчаянное сопротивление карателей, замедлил продвижение вперед. Рачков, быстро оценив обстановку, приказал:
— Первая рота! Занять почту и сельсовет!
Командир роты Никифор Синельников мгновенно поднял залегшую роту на штурм. Фашисты не выдержали, побежали.
— Эй, фрицы, шнапс не допили! — кричали вслед партизаны.
Действительно, в здании сельсовета оказалось множество бутылок вина. Видимо, фашисты всю ночь пьянствовали.
Треск ломающихся обгорелых балок, стрекот автоматов, бешеный лай пулеметов, охающие взрывы мин, крики и стоны сливались в общий гул.
К семи часам утра половина Яссок была в руках партизан. Фашисты удерживали в своих руках только здания школы и церкви. Не удалось полностью закрыть доступ к церковной ограде, и несколько немецких солдат ускользнуло за каменную стену. Другая группа фашистов засела в цементированном подвале школы и оттуда вела огонь. Каратели пристреляли оба склона рва, и подобраться к ним незаметно было очень трудно. Смельчаки скатывались в ров, но никак не могли подняться на противоположный склон. Вот бросился вперед партизан Захapов. Согнувшись до самой земли, он уже добежал до середины бугра и вдруг закружился на одном месте, как волчок, и замер. Саша Попов, славковский паренек, сорвался с места и прыгнул в ров, но через секунду тоже упал и остался лежать неподвижно…
Тогда Рачков приказал отряду двигаться двумя
группами. Первая, ведя огонь, идет в лоб, вторая, незаметно и без единого выстрела, подползает с фланга. Хитрость удалась: первая группа приковала к себе внимание гитлеровцев, а тем временем вторая вплотную подошла к школе. В окна полетали противотанковые гранаты. В грохоте и в дыму захлебнулся немецкий пулемет, смолкли автоматы. Все каратели, забравшиеся в школу, погибли. Но автоматчики, сидящие за церковной оградой, все еще огрызались.
В одиннадцать часов дня начальник штаба бригады Афанасьев дал четыре выстрела из ракетницы. В небо взвились три красных и одна зеленая ракета. Это был приказ об отходе.
Комбриг Васильев, давно уже покинувший прежний командный пункт, шагал между догоравшими постройками.
Отход начался планомерно. В первую очередь были бережно уложены и отправлены раненые. На подводах везли убитых. Хозяйственники погрузили в сани трофеи: винтовки, два станковых пулемета, гранаты и патроны.
Надо было торопиться. Оказалось, не все еще в сборе: нет Кати Сталидзан, Сергея Дмитриева…
— Сталидзан! закричали партизаны хором.
В окне крайнего дома показалась бывшая учительница Катя Сталидзан.
— Скорее, скорее! — звали ее несколько голосов. Катя вышла медленно, ведя под руку двух раненых — секретаря Сошихинского райкома партии Дмитриева и работника дедовичской районной газеты Вавилова.
Отряд тронулся. В воздухе послышался гул самолета. Комбриг то и дело торопил партизан, приказывая по цепи:
— Шире шаг!
Идти долго не пришлось — в соседней деревне нас ждали лошади. На одной из повозок мы увидели умирающего Васю Гаврилова, пятнадцатилетнего партизана. За отчаянную храбрость и смекалку подростка обожали все партизаны и звали всегда Васильком. Тоненький, бледный, с посиневшим лицом, он лишь изредка вздрагивал, и мы чувствовали, что к отцу и матери в лагерь живым его уже не привезем. Мелкий иней посеребрил длинные ресницы и тонкие брови. Василек печально оглядывал обступивших его партизан:
— А жить-то хочется, хоть я и маленький… В школу после войны собирался… Не придется…
— Придется, Василек, еще поправишься, — утешал кто-то из партизан. — Пойдешь учиться…
Он не договорил — Василек вдруг вытянулся и слабым голосом позвал:
— Николай Александрович… прощайте…
Мы молча сняли шапки и, не глядя друг на друга, разошлись по своим подводам.
Позади загудели самолеты, потом донеслись глухие взрывы бомб. Кто-то сообщил фашистам, что в Яссках партизаны, и немецкие летчики, не разобравшись, добивали остатки своего гарнизона.
Ночью мы уже были в лагере. У крохотной коптилки я выводил красным карандашом «шапку» в очередном номере «боевого листка». «Вражеский гарнизон разгромлен» — так назывался экстренный выпуск нашей партизанской «многотиражки».
На другой день наши разведчики побывали в Яссках. Уцелевшие фашисты поспешно покинули село. С тех пор много недель туда не ступала нога оккупантов.
Утром 18 февраля 1942 года радио передало с Большой земли сообщение о яссковском бое. Диктор читал:
«Партизаны под командованием товарищей В. и О. атаковали ночью немецкий гарнизон в одном населенном пункте. Подавив огневые точки противника, партизаны штыком и гранатой выбивали гитлеровцев из каждого дома. Большая группа немецких солдат и офицеров пыталась бежать, но попала в засаду и была полностью уничтожена. Ночной бой закончился полной победой партизан. Противник потерял убитыми 20 офицеров и 150 солдат. Захвачены трофеи».
Мы слушали голос диктора, и нам было приятно сознавать, что о нашей борьбе с врагом знает весь советский народ. Весть о наших боевых делах дойдет до родных и близких, которых война разбросала по далеким просторам Урала и Сибири. Наши думы прервал взволнованный голос радиста:
— Товарищ комбриг! Радиограмма!
Николай Григорьевич взял узкую ленточку бумаги. Начальник Ленинградского штаба партизанского движения Никитин отмечал успешные действия партизан 2-й бригады. Его поздравление заканчивалось словами: «Подумайте, нельзя ли совершить операцию в Дедовичах, как было сделано в Яссках».
— В Дедовичах? — Васильев встал и на секунду задумался. Потом подошел к карте, и рука его легла на черные кирпичики южнее станции Дно.
— В Дедовичах? — уже громче повторил он, и лицо его просияло.
— Можно! Николай! Стучи в Ленинград: «Готовим налет на Дедовичи».
П. Шелест СТАРОСТА
Душному июльскому дню не было конца. Михаил Горшков возвращался из Дедовичей, где получил в комендатуре новый приказ. Подходя к своей избе, он еще издали заметил сидевших на лавочке в открытом дворе сельчан. Тяжело опустившись на свободное место, Горшков вытянул больную ногу и полез в карман за махоркой. Кисет оказался пустым.
— Только что скурил остатки, — заметил сосед справа.
— И у меня ничего. Видал? — Сосед слева для наглядности вывернул свой кисет. — А эти… как их… сигаретки… нескусны стали, что ли?
— Ладно болтать-то, — заметил старик с совершенно седой бородой. — Говори, староста, чего звал-то?
— Черт, дышать нечем, — Горшков расстегнул пиджак и продолжал без всякого перехода: — Немцы налоги требуют, вот чего! Тринадцать тонн хлеба вынь да положь.
— Это как же? — в недоумении протянул белобородый. — Наше Сухарево и при царе больше полста пудов не платило. А тут — по тонне со двора!
Горшков подобрал со дна кисета табачную пыль, свернул козью ножку и с наслаждением затянулся. Кто- то выразительно присвистнул, хлопнув ладонями по коленям, и бросил зло:
— А сам-то ты на что? Не догадался оборонить деревню от грабежа?
Горшков затоптал сапогом окурок.
— Вот что, мужики. Сами знаете: не в охотку пошел я в старосты. А приказ есть приказ. Иначе — голова долой. — Горшков поднялся. — Прогревайте, а то мне чуть погодя опять в Дедовичи. Ох, грехи наши тяжкие…
Однако спустя час староста, выехав из Сухарева, повернул коня в сторону, противоположную Дедовичам.
НА ОСТРИЕ НОЖА
В вечернем небе причудливо громоздились багряные тучи, когда Горшков подъехал к деревне Турицы. На пустынной деревенской улице не видно было ни кур, ни собак. Куда-то подевались и ребятишки. Казалось, все живое вымерло. На лавочке у завалившегося забора сидел древний старик.
— Из каких будешь? — полюбопытствовал дед, отчаянно дымя цигаркой в палец толщиной. — А, из-под Дедовичей! Чай и у вас озоруют окаянные? А тебя, желанный, чего бес носит за сорок верст?
— Я человек хожалый, дедушка. Не разживусь ли у вас коровой? Нет ли, говорю, продажной где?
Старик пожевал губами и покачал головой.
— Где там! Вот овечку, слышал, Агафоновна продает — все одно заберут супостаты. Во-он ее изба, тесом обшита. Только сама Агафоновна ушедши была.
— Авось дома застанем, — поднялся Горшков. — Уважь, дедушка.
Они прошли вдоль молчаливо выстроившихся в линию домов. Возле палисадника с отвалившейся калиткой стояла группа гитлеровских солдат. Они черпали из ведра и жадно пили свежий, пахучий мед.
— Много их у вас тут?
— Чего нет, а этого вдоволь. Хоть мосты мости.
— Где ж много? Или у страха глаза велики? — с вызовом усмехнулся Горшков.
— А вон, не видишь — орудия замаскированная? За углом — другая. В этой рощице кой-чего найдем. Дивизион!
— Верно, — замедлив шаг и цепким взглядом окидывая все вокруг, промолвил Горшков. — А в тех домах что? Где часовой стоит…
— Караульная у них там, родной. И близко не подпускают… Ну, чего стал? Ты ж к Агафонихе собрался!
— Да, да… А партизан тут близко не слыхать?
Косо посмотрев на попутчика, старик сказал:
— То не нашего ума дело.
Агафоновну они застали дома, но не сошлись в цене. Возвращался домой Горшков ночной порой. В километре от Сухарева услышал в кустах сдавленный стон. Остановил коня. Прислушался. Неужто показалось? Раздвинув кусты густого орешника, Горшков разглядел в ямке скорчившегося человека в форме командира Красной Армии. Он лежал на боку и ладонью зажимал перекошенный от боли рот. Староста еле дотащил его до телеги…

Михаил Васильевич Горшков
Писарь комендатуры обещал Горшкову заехать на другой же день после возвращения старосты из Дедовичей. Однако появился он в Сухареве лишь через неделю.
— Что ж припоздал так? — подивился Горшков, когда они прошли на огород и улеглись за хлевом на душистом свежем сене.
— У нас, брат, такое заварилось… Не приведи господь! Под Порховом партизаны напали на какую-то деревню — не то Мурицы, не то Дурицы, подорвали гранатами пять орудий, перебили семь десятков солдат. Чуть Хилово не взяли! Ночью комендант посылал от нас подмогу — отряд жандармерии. Ох и влетело ему от начальства. Теперь наш Шмидт на всех злобу срывает Выпить чего нету?
— Потом — пообещал Горшков и добавил ворчливо: — И когда это с партизанами кончат? Житья от них не стало. Под Хиловом, говоришь, задали немцам чесу?
— А я тебе про что? В лесу рубят, а к нам щепки летят! Гляди, как бы и нашего брата не жиманули. Мы ж с тобой одной веревочкой спутаны.
— Это как пить дать!.. — подтвердил староста и пододвинулся к писарю. — Слышь-ка, ведь ты крюковский? Я сразу признал. Ну, не мое дело, какие там грешки за тобой прежде водились и прочее. Ты мне вот что скажи. В комендатуре как — уважают тебя?
— Ха! Сам господин обер-лейтенант Шмидт обещал повышение.
— Понимаешь, дельце есть.
— Ладно, выкладывай, — разрешил коротко писарь. «Хоть лыком шит, да тоже начальник», — подумал Горшков и попросил:
— Нельзя ли уменьшить налоги с деревни?
Писарь напыжился, откинулся к стене и многозначительно бросил, прищурив левый глаз:
— Говоришь про воду, а во рту сухо.
Горшков понял намек и заверил, что все будет как надо.
— Тó-то, — писарь поднял в назидание палец. — Переднее колесо подмажешь, заднее само пойдет.
Горшков уговорил писаря уменьшить в сводке площадь посева по деревне. Тогда вместо тринадцати тонн зерна сухаревцы внесут четыре.
— Только квитанции выпиши сейчас же. По рукам?
— Идет!
Насчет сдачи молока Горшков решил с писарем и не заговаривать. Он просто сам утаил четырнадцать коров, принадлежавших семьям, переселившимся в Сухарево из сожженных карателями деревень Партизанского края. Показав в донесении всего восемнадцать наличных коров, староста тем самым вдвое сократил норму молочного налога.
Вскоре подоспела новая напасть: оккупанты объявили «лошадиную мобилизацию». Это испугало Сухаревского старосту больше, чем непосильные сборы, но и тут он не растерялся. Узнав, что в Дубровской волости немецкий интендант распродает почти задаром выбракованных лошадей. Горшков незамедлительно поехал к интенданту. Его внимание привлек нескладный рослый жеребец каурой масти — кожа да кости.
— Рысак… Домой поведу, не рассыплется? — усмехнулся староста. Но коня взял.
В первый же набор он отправил на сборный пункт покрывшегося коростой дубровского жеребца. Приемщик крякнул при виде этого страшилища, но не сказал ни слова: он знал, что немцы под метелку подмели во всех деревнях запасы фуража. Убедившись, что «операция» прошла незамеченной, Горшков стал скупать отчисленных из оккупационной армии лошадей во всех дальних волостях. Интенданты немало дивились тому, что крестьянин отбирает самых что ни на есть худых коняг.
— Грошей нет, — простодушно объяснил Горшков, осматривая очередной «шкелет».
И вдруг чуть не расхохотался: перед ним стоял старый знакомец — каурый «скакун» из Дубровки.
ПАРОЛЬ "МОСКВА"
Забота и тщательный уход, которыми окружила жена Горшкова, Евдокия Яковлевна, привезенного мужем раненого, делали свое дело: майор Баранов поправлялся. Дни проводил Иван Георгиевич в подполе, на соломенном матрасе. Только по вечерам, когда окна плотно занавешивали, а двери напрочно запирали, ему разрешали подниматься наверх.
Трудно описать удивление советского летчика, когда узнал он, что подобрал его у дороги староста. Сорок один день прожил у него Баранов, и ни одна душа о том не знала! Выздоровев, летчик перебрался в партизанский лагерь…
Однажды к Горшкову зашел молодой крутоплечий парень с озорными глазами — партизан из отряда Н. А. Рачкова.
— Николай Александрович прежде всего просил передать вам, дядя Миша, благодарность за вашу разведку под Хиловом. Слыхали небось, как наши побили там немца? А еще — кладовые с продовольствием сильно похудели в отряде. Велел спросить, какой срок вам нужен?
— Сутки.
Парень поставил чашку с чаем на стол.
— Где ж возьмете?
— Найдем, сынок. У меня еще часть колхозного зерна припрятана — триста пудов.
— А как же налог?
Михаил Васильевич поднялся из-за стола, проковылял в другой конец горницы и из-за рамочки с семейными фотографиями достал пачку бумажек.
— Вот квитанции. Могу хоть самому Гитлеру под нос сунуть… Еще скажи Рачкову: мясца подкину…
Но были и другие ночные визиты — неожиданные и тревожные.
Однажды Михаила Васильевича разбудил дробный стук в окошко.
— Открой, дядя Миша.
— Кому дядя, а тебе…
— Москва.
— С этого бы и начинал.
Горшков задернул занавеску и пошел отворять. В горницу, окутанные клубами морозного пара, шагнули двое. По их посеревшим, измученным лицам Горшков понял, что случилось несчастье. Сняв с себя автоматы и расстегнув тулупы, разведчики рассказали… Группа в двадцать два человека отправилась на задание. Вначале все шло хорошо. Взорвали мост и участок железнодорожного полотна между станциями Бакач и Дедовичи. Но на обратном пути напоролись на немецкий разъезд. Ушли, отстреливаясь. Есть раненые.
— Давайте всех ко мне. Укрою.
— Что ты, дядя Миша! Нас много, вся деревня заметит, не ровен час — дурной глаз сыщется. Да и возвращаться срочно надо. Помоги-ка лучше побыстрее убраться.
— Где ж остальные?
— За Сухаревом, в лощине.
— Тогда вот что: дам вам тройку лошадей.
— А как же потом оправдаешься, дядя Миша?
— То не ваша забота, ребята. Пошли!
Горшков запряг трех самых сильных коней и с метлой в руках пошел заметать санные следы. На счастье, помог северный ветер: он дул, навивая сугробы, взметая сухую снежную пыль.
Вернувшись, Горшков бросил взгляд на стол и оцепенел. Как же он забыл? Рядом с лампой лежал желтый клочок бумаги — повестка с вызовом в комендатуру, к самому фон Шмидту.
Неужели что-нибудь проведали?..
На другой день, захватив повестку, Михаил Васильевич направился в Дедовичи. Приготовился к самому худшему.
Комендатура размещалась в здании школы. Поднявшись на второй этаж, Михаил Васильевич прошел в бывшую учительскую. В углу склонился над бумагами писарь. Горшков кивнул ему («этот у меня прикормленный») и прошел к столу, поставленному у входа в кабинет коменданта. Из-за него поднялся, улыбаясь, помощник коменданта по хозяйственным делам Герман.
Загадочным человеком казался Горшкову этот пожилой, с седыми залысинами немец. Как-то, направляясь в деревню Большая Храпь, в волостное правление, Герман завернул к Горшкову. Коверкая русские слова и мешая их с немецкими, он заговорил о судьбе своей страны, жаловался на свою жизнь.
«Подлаживается», — решил про себя Горшков.
Герман тогда рассказывал:
«Однажды я попал на митинг, где выступал Эрнст Тельман. «Гитлер — это война!» — предостерегал он. Думаете, только России принес горе Гитлер? Нет, и немецкому народу тоже. Есть и у нас немало честных людей…»
«Что-то не видать их!» — усмехнулся Михаил Васильевич.
«А ты не смейся, — остановила его Евдокия Яковлевна. — Может, человек и прав… Отца-то вашего как звали?» — обратилась она к немцу.
«Иоганн».
«Значит, Иван по-нашему. Так вот, Герман Иванович, заходите».
Михаил Васильевич бросил испытующий взгляд на помощника коменданта, но промолчал.
…Горшков вместе с Германом прошли в кабинет коменданта.
— Господин обер-лейтенант, это тот самый староста, — сказал Герман, вытянувшись в струнку.
Шмидт, высокий, сухопарый немец с лицом выбритым до синевы, внимательно посмотрел на Горшкова и протянул ему холеную руку.
— Староста Горшкофф, — проговорил он не без торжественности, — немецкое командование премирует тебя за образцовое выполнение нормы поставок для германской армии. Из всех старост только ты один рассчитался полностью! Ты имеешь получить за усердие двадцать гектаров земли и корову. Мы высоко ценим твою преданность делу фюрера!
«Этого еще не хватало», — растерявшись от столь неожиданного поворота, подумал Горшков, но вслух сказал:
— Благодарю за доверие, господин обер-лейтенант! Только ни к чему мне земля-то. Некому работать на ней… А вот дозвольте обратиться, — вдруг осенило его. — Полицаи ваши бесчинствуют, спасу нет! Трех лошадей, сукины дети, увели… Разве это порядок?
— Разберитесь, — коротко бросил Герману Шмидт углубившись в бумаги.
Вернувшись к себе, Герман позвонил в полицию. Через десять минут во двор комендатуры явились в полном составе все девять полицаев во главе со своим начальником.
— Кто из них отобрал у тебя лошадей? — обратился помощник коменданта к Михаилу Васильевичу, обходя с ним фронт выстроившихся гитлеровских холуев.
— Ночью, понимаешь, было дело. Я только спичку успел чиркнуть, как он дал тягу… Кажись, вот этот, — Горшков ткнул пальцем в детину со свиными глазками. — А может, этот. — Тот, на кого указал Горшков, хотел что-то возразить, но только пожевал бескровными губами. — Или этот…
Я вижу, ночь действительно была очень темной… — Герман усмехнулся. — Ну что ж, на первый раз ограничимся внушением. А вас, господин староста, прошу пройти на комендантскую конюшню и взять трех равноценных лошадей — в порядке компенсации. Согласно распоряжению господина обер-лсйтенанта!
«Хочешь купить меня этим? — подумал о Германе Горшков, направляясь на конюшню. — Дешево ценишь!.. Нет, с ним надо ухо востро! Как разыграл спектакль-то!»
Однако лошадей Михаил Васильевич отобрал. Он попросил Германа оставить их здесь до завтрашнего вечера: вспомнил о новом задании из леса — узнать о здоровье семерых раненных в разведке партизан, устроенных верным человеком в Дновскую больницу.
Возвращаясь со станции Дно, Горшков напоролся на немецкий патруль. Пока фельдфебель изучал документы. староста с беспокойством вспомнил, что на радостях забыл попросить у Германа пропуск.
— Зачем проник на территорию чужого района? — допытывался фельдфебель, поблескивая стеклами очков. Он сделал знак солдату, и тот отвел Горшкова в караульное помещение.
Под утро унтерштурмфюрер СС Капусов приказал дежурному:
— Возьмите на заметку старосту деревни Сухарево Большехрапской волости Горшкова.
МЕДИЦИНСКАЯ ИСТОРИЯ
Постепенно двор Горшкова из явочной квартиры превратился в партизанскую гостиницу. Используя его удобное расположение — на отлете деревни, — разведчики, возвращавшиеся с задания или получившие в бою ранение, ночью приходили сюда отогреться, передохнуть, сделать перевязку, а то и скрыться от погони, — староста, как-никак, доверенное лицо у немцев: кто тут догадается искать?
Однажды в предрассветный час к Горшкову завернул Александр Васильевич Юрцев, начальник штаба партизанской бригады. Он попал в жестокую переделку, пытаясь перейти железную дорогу в районе Порхова. Прохрипев несколько неразборчивых слов, Юрцев потерял сознание.
Тетя Дуня промыла и перевязала ему перебитое плечо. Рана была рваная и глубокая.
— Пропадет наш Юрченок, Миша, — сказала она, смывая кровь, выступившую на губах партизанского командира.
— Эх, ни доктора, ни лекарств…
Горшков в задумчивости покачал головой. Он вспомнил, что в Красногородской больнице работает некто Глушков Иван Андреевич. Говорили про него разное. Риск? Да, риск! Но ведь тут человек может погибнуть…
И Михаил Васильевич решился. Зануздав лошадь, он помчался в Красногородск.
Острый запах лекарств неприятно ударил в нос. По вызову дежурной в прихожую вышел человек в белом халате с холодно-насмешливыми глазами на круглом лице.
— Что случилось?
Горшков отвел врача в сторону.
— Из Сухарева я. Свояк у меня, понимаете, помирает. Несчастный случай, одним словом… Что делать при потере крови?
— Смотря какая рана. Огнестрельная? — И так как Горшков в нерешительности молчал, врач предложил: — Пройдемте!
В маленькой полутемной кладовушке, служившей доктору Глушкову кабинетом, он в упор посмотрел на Михаила Васильевича.
— Вы что-то скрываете от меня. Наденьте вот этот халат и идите за мной.
Врач провел Горшкова в небольшую комнату, сплошь уставленную кроватями. На одной из них, натянув до подбородка рваное одеяло, лежал с закрытыми глазами парень лет двадцати с забинтованной головой.
— Узнаете? Ваш, Сухаревский.
Как же было не узнать сына соседа?! Горшков вспомнил, что он ушел в партизаны. Значит?..
Вскоре Иван Андреевич уже сидел в подполе горшковского дома у изголовья метавшегося в жару Юрцева и при тусклом свете фонаря возился с инструментами, которые тетя Дуня только что прокипятила.
Через месяц Юрцев поднялся на ноги.
С тех пор доктор Глушков нередко приезжал к постояльцам Михаила Васильевича. Помог он и когда новая беда надвинулась на Сухарево.
Как-то в комендатуре, отведя Горшкова в сторону, Герман шепнул:
— Готовится массовая эвакуация девушек и юношей от шестнадцати до двадцати пяти лет в Германию. Вот список по Сухареву. Тут двадцать четыре человека…
Подавленный новостью, приехал Михаил Васильевич в Красногородскую больницу.
— Трудный случай, — сказал врач, выслушав его рассказ, и его обычно насмешливое лицо сделалось серьезным. — Найдется у вас в деревне хоть один больной?.. Легальный больной, не удержался он от улыбки.
— Ни одного!
— Плохо. Правда, есть одна идея. Только очень уж нахальная! — Иван Андреевич решительно махнул рукой. — Ну да была не была!
Помочь Горшкову отправить молодежь в Германию приехал по его просьбе тот самый мордастый полицай, которого Михаил Васильевич в истории с лошадьми чуть не «подвел под монастырь». Полицай сидел в стороне и курил, наблюдая, как доктор Глушков осматривает внезапно заболевших. Те вели себя очень натурально. Краснощекая Лена Панкратьева, закутанная по самые глаза в платок, охала и стонала, а Павел Егоров вообще валился с ног.
— Дай-ка, девушка, градусник! Да будет тебе притворяться! — прикрикнул доктор на Лену. Но, взглянув на градусник, удивленно сказал: — Смотрите… и верно, больна! Подержите, я ее осмотрю. — Последние слова относились к полицаю, которому он протянул градусник.
Полицай повертел в руках термометр, и глаза его округлились: 39,8!
— Есть серьезное подозрение на тиф, — мрачно проговорил Глушков. — Всех небольных прошу немедленно покинуть комнату.
Полицай опасливо, точно гремучую змею, положил градусник на табуретку, вытер руки о штаны и быстро выскочил на улицу. Откуда было знать фашистскому холую, что каждый из «заболевших» заранее натер себе, по указанию Михаила Васильевича, подмышки солью?
Горшков понимал, что надуть полицая — еще полдела. Утром ему предстоит выдержать бой с комендантом. Так и случилось.
— Почему вчера не привез на станцию свою партию? — Тонкая, покрытая рыжим пухом шея Шмидта стала малиновой. — Знаешь, что грозит тебе за невыполнение приказа?
— Знаю, господин обер-лейтенант, — подтвердил Горшков и протянул ему листок. — Вот акт, составленный врачом Красногородской больницы в присутствии полицейского.
Шмидт прочитал и сразу переменился в лице. Брезгливо взявшись двумя пальцами за кончик бумаги, сбросил ее со стола.
— Где теперь ваши больные?
— А за речкой, в телеге лежат, — соврал, осмелев Горшков. — Боялся, что вы мне не поверите.
— Вы с ума сошли! — бабьим голосом заорал обер- лейтенант, поднимаясь из-за стола. — Сейчас же увезите!
На развилке дороги, ведущей в Сухарево, появился столбик с дощечкой. На ней надпись: «Карантин! Въезд воспрещен!»
Немцы во всем любили порядок. И очень опасались инфекций…
В РУКАХ ГЕСТАПО
Шли дни. Партизаны все чаще совершали диверсии на дорогах. Чуть ли не каждую ночь подрывались теперь железнодорожные эшелоны на участках Дедовичи — Дно, Бакач — Вязье, Вязье — Дно. Отправляясь на эти операции, подрывники переходили Шелонь недалеко от Сухарева. Это было и рискованно, и нелегко. Тогда по приказу старосты в два дня между пологими, поросшими тальником и черемухой берегами Шелони был наведен паром.
Это не прошло незамеченным. Начальник гестапо в Дедовичах помнил о задержанном в свое время на станции Дно старосте из Сухарева. Капусов распорядился: послать к Горшкову группу полицаев под видом партизан, с тем, чтобы, подпоив его, спровоцировать на откровенный разговор и в случае удачи арестовать. Но провокация не удалась: в одном из подосланных, выдавшем себя за бежавшего из лагеря военнопленного, Горшков узнал полицая, взятого недавно на службу в комендатуру.
Взбешенный неудачей, Капусов приказал арестовать Михаила Васильевича. На первом же допросе Горшков понял, что гестаповцы догадываются о многом, но доказательств у них пет.
— Значит, не хочешь назвать сообщников? — кричал следователь.
— Не было у меня ни каких сообщников. И делал я все по приказу коменданта, — упорствовал староста.
Следователь махнул рукой, и Горшкова вывели на тюремный двор.
— Копай себе могилу, — протяпув лопату, приказал конвойпый.
«Конец», — пронеслось в голове Михаила Васильевича, и он молча взялся за заступ.
Выкопана яма. Но гестаповцы почему-то медлят, а потом снова уводят старосту в комендатуру.
Три дня провел Горшков в камере в ожидании казни. И опять допрос. Допрашивает сам Капусов.
— Наши люди перехватили двух партизан, которые шли на свидание с тобой, Горшков. Одного убили, другой взят живым. Упорствовать бесполезно.
Унтерштурмфюрер вплотную подошел к своей жертве.
— Это провокаторы! Я ничего не…
Договорить Михаил Васильевич не успел: страшный удар свалил его с ног.
Очнулся Горшков на цементном полу одиночной камеры. Из узенького оконца сквозь решетку видны сторожевая вышка с прожектором, часовой с собакой и клочок синего-синего неба. На серых липких стенах надписи, сделанные кровью: «Умираю, но не сдаюсь!», «Отомстите, родимые!» Это — эстафета ушедших.
На рассвете снова допрос. Опять настойчивое:
— Признавайся. Горшков, и тебе сохранят жизнь.
Снова зверское избиение. Меняются лишь мучители. И вдруг, перед глазами Горшкова расплывается лицо эсэсовца, но до сознания доходит каждое слово:
— Мы проверили тебя, Горшков, и получили отзыв из Дедовичской комендатуры. Помощник коменданта аттестует тебя положительно. Он ручается за твою преданность германским властям.
Так вот что за человек этот Герман… Герман Иоганнович!
Через полчаса из ворот тюрьмы гестапо вышел крайне истощенный человек. Медленно поднял он лицо к солнцу и вдруг, охватив голову руками, рухнул у ног часового.
«Были бы кости, а мясо нарастет…» И снова — жизнь на острие ножа. Незадолго до освобождения Дедовичей его предупредили о готовящемся новом аресте.
— Лихой вы человек, — с восхищением сказал Горшкову в последнюю встречу Герман Иоганнович, — завидую и вам и вашим товарищам.
Подчиняясь приказу командования, Горшков вместе с Евдокией Яковлевной перебрался в лес, в партизанский лагерь.
* * *
Михаил Васильевич Горшков по-прежнему живет в Сухареве. После войны колхозники избрали его своим председателем. Многие, не зная, какой двойной жизнью жил в годы оккупации Михаил Васильевич, удивлялись: «Как так — немецкий староста, и в председателях ходит». Посмеивались односельчане Горшкова и отвечали:
— Федот, да не тот. Староста, да только не немецкий, а наш — у партизанского костра выбранный.
С. Красников ЛЕГЕНДАРНЫЙ КОМБРИГ
Есть в Музее истории Ленинграда комната, где в торжественном покое застыли бархатные знамена. Кажется, что веет от них дымом партизанских костров, запахами влажного мха, сочных трав и ветвистой ольхи. На одном из знамен золоченым шелком вышито: «3-й Ленинградской партизанской бригаде имени А. В. Германа».
А вот и белоснежный бюст того, чьим именем названа бригада народных мстителей. Под бюстом лаконичная надпись: «Герой Советского Союза, командир 3-й партизанской бригады А. В. Герман». Рядом, под стеклом, личные вещи Александра Викторовича: орден Красного Знамени, орден Отечественной войны 1-й степени, полевая кожаная сумка, прозрачный планшет, обычный школьный треугольник с сантиметровой на сечкой, самодельная карта деревни Житницы. Синяя стрела ведет нас по карте к месту гибели человека, чье имя стало легендарным.
А. В. Герман родился 23 мая 1915 года в Петрограде в семье мелкого чиновника. Учился в школе-семилетке (ныне школа № 301), в автостроительном техникуме, в военном училище, командовал танковым подразделением, затем Москва, Академия имени М. В. Фрунзе. С началом войны старший лейтенант Герман был прикомандирован к штабу Северо-Западного направлении для выполнения специального задания.
ВО 2-й ОСОБОЙ
Оборонительные бои в Опочке и за Новоржев проиграны. Красноармеец Лемешко и его однополчане Богуславский и Дерипона шли на грохот артиллерийской канонады, к линии фронта. В нескошенной ржи чернели обугленные танки, в кюветах проселочных дорог валялись искореженные автомашины…
Однажды в сумерках вблизи хутора красноармейцы увидели грузовик и легковой автомобиль. У машин стояли двое. Всмотрелись. Один, полный и постарше, был в кожаном пальто, на задниках сапог кавалерийские шпоры. Другой совсем еще молодой, высокий, в командирской форме танкиста. Свои!
Узнав, откуда и куда идут бойцы, кавалерист похвалил их за то, что не бросили оружия, и приказал:
— В кузов, хлопцы!
Сам он сел в запыленную «эмку», танкист — в кабину грузовика, и машины тронулись в путь. В кузове подпрыгивали от тряски на ухабах винтовки и трофейные автоматы, ящики с патронами. Богуславский достал из кармана карту, хотел посмотреть, куда их везут. Прикрывшись брезентовой палаткой, бойцы зажгли спичку. Грузовик резко остановился, из кабины выскочил танкист, строго спросил:
— Кто курит?..
Приехали в город Холм. Человек в кожаном пальто (это был Литвиненко — кадровый военный, участник гражданской войны) приказал накормить бойцов, отправить на сборный пункт тех, кто отстал от своих частей.
Когда все собрались, Литвиненко сказал:
— Формирую бригаду особого назначения. Кто со мной? Предупреждаю, дело опасное: идем в тыл фашистскому зверю. Больных и трусливых не беру!
Согласились все. Юный узбек выкрикнул под общий хохот:
— Моя тоже пойдет!
Комбриг полушутливо разъяснял тактику борьбы с оккупантами: «У меня так: подпалыв и тикай!..» Боец
Лемешко слушал, а сам не сводил глаз с танкиста: стройный, по-военному подтянутый, светлоглазый, волосы тщательно зачесаны назад, красивое лицо чисто выбрито. Как-то сами собой взгляды их встретились. Танкист шагнул вниз, спросил паренька:
— Фамилия?
— Лемешко.
— Родители?
— Нету. Сестра на Черниговщине, в колхозе «Пионер»… Хрицы там…
Танкист покусал тонкие губы, сказал отрывисто:
— Герман. Вступаю в должность начальника разведки бригады. Будете при мне.
Так Гриша Лемешко стал бессменным ординарцем начальника разведки, а позже и легендарного комбрига Александра Германа. Дни и ночи ездили они на грузовиках по полям сражений, подбирали отечественное и трофейное оружие, переносные радиостанции, сумки с медикаментами, бинокли. Все собранное отправляли в Осташков, где комплектовалась 2-я особая партизанская бригада.
Всю осень и зиму первого года войны бригада громила гарнизоны неприятеля, взрывала склады, мосты, поджигала казармы гитлеровцев, сурово карала предателей. Герман не знал ни страха, ни устали. Он не только обеспечивал штаб бригады нужными разведданными, но и сам водил партизан в рискованные операции.
Как-то небольшая группа разведчиков во главе с Германом ушла добывать оружие и продовольствие. На дороге появился обоз противника, который охранялся полувзводом солдат. Впереди обоза шел полицай-проводник. Он раньше заметил партизанскую засаду, хотел было вскрикнуть, но Герман показал ему гранату: «Проходи, собака, и не пикай!» Полицай промолчал. Обоз поравнялся с засадой. Партизаны открыли огонь. Гитлеровцы в панике разбежались. Десять подвод с продуктами достались бригаде.
Ординарец Гриша неотступно следовал за своим начальником и, пожалуй, раньше других познал благородную душу Германа… Весенняя распутица — ни сесть, ни прилечь, ни ступить. Бригада измотана в боях, много раненых, простуженных. Есть нечего. Щеки Германа запали, глаза красные от бессонницы, сапоги его истоптаны, полны грязи и ледяной воды. Он голоден.
«Вытащу из ранца неприкосновенный запас, — вспоминает Лемешко, — упрашиваю: «Вам треба поисты». — «Ешь сам, Гриша», — скажет, либо отдаст свой ломоть раненому партизану».

Александр Викторович Герман
По натуре Герман не был человеком замкнутым, но о себе, о личных переживаниях никому в бригаде не рассказывал, дневника не вел. Обо всем, чем переполнялась его душа, мы узнаем только из писем в Казань — жене Фаине и сыну Алику.
Вот одно из них:
«9/VI1-42 г.
Дорогая Фаинушка!
Сейчас наша страна переживает тяжелые дни своей истории. Каждый гражданин Советской России обязан отдать все, что он может, вплоть до своей жизни, если она потребуется, для того, чтобы восторжествовала правда на земле русской. Мы выдерживаем смертельную схватку не с человеком, каким мы представляли фашиста в начале войны, а с бешеной собакой — лютым зверем в человеческом виде. Ты, находясь в тылу, можешь иметь представление только из газет, радиопередач о всем том, что этот лютый враг делает на фронте и особенно во временно оккупированных им областях нашей Родины. Я видел все это своими глазами, когда на протяжении почти года был в тылу немцев.
Я прошел многие районы — Молвотицы, Пено, Сережино, Андреаполь, Холм, Торопец, Великие Луки, Локня, Новосокольники, Пустошка, Идрица, Себеж, был у самой границы Латвии. Я видел немца в звериной шкуре в роли молодца, когда он издевается над мирным населением — детьми и стариками, видел, как изверг убивает ребенка перед глазами обезумевшей матери; как садистски насилует жену на глазах истерзанного мужа. В селе Санники Новосокольнического района немцы сожгли и истерзали 480 человек населения. Видел фашиста в роли овечки, когда он попадает в руки партизан, когда он бежит, как заяц, от частей Красной Армии. Я помнил, что у меня есть жена, есть ребенок, за моей спиной советские честные люди, я должен их защищать. И я их защищал. По пройденному пути разгромлены десятки гарнизонов, 17 волостных управ, Опоческая и Идрицкая полиции, уничтожено много техники и живой силы врага. Мы заставили фашистов трепетать при упоминании слова «партизан».
Скоро опять… пойду в тыл, в «гости» к фашистам, драться буду не на жизнь, а на смерть. Мало кому из них удастся еще топтать русскую землю. Воины Красной Армии дерутся честно, самоотверженно. Они знают, что за их спинами свободолюбивый советский народ, они говорят, что лучше умереть, отстаивая свою независимость и свободу, чем влачить жалкое, рабское существование.
Так смотрю на эти вопросы и я. Жизнь я люблю безумно, она хороша и своими горестями, и своей радостью, но если придется умереть, то знай, что умру честно, самоотверженно, я не посрамлю земли русской; не посрамлю своей семьи. Сыну будет что вспомнить об отце его. И если когда-либо еще повторится столь грозный час, то будет с кого взять пример. Ну, а если буду жив после того, как наши части займут фашистское логово — Берлин, после того, когда будет физически уничтожен Гитлер и его хозяева, тогда заживем по-новому, и сам я буду учить народ наш люто ненавидеть врагов наших, в каком бы облачении они ни были, какую бы маску ни принимали. Все они являются ворами нашего счастья.
Фаинушка, какие бы испытания тебя ни ждали впереди, будь всегда крепкой, стойкой, советской женщиной. Сейчас помогай всем, чем можешь, бить врага, словом и делом, народ тебе потом скажет спасибо. Так воспитывай и Амоську.
Ну, пока. Крепко прижимаю к сердцу тебя и Амоську. Ваш Шура».
Весной 1942 года 2-я особая вышла в советский тыл на отдых. 17 мая на партийном собрании бригады принимали А. В. Германа в члены ВКП(б). Коммунисты характеризовали его как стойкого и храброго, тактически грамотного командира, хладнокровного в боевых операциях, строгого и заботливого к подчиненным.
Обстановка требовала формировать обычные, постоянно действующие партизанские соединения. Решением Ленинградского штаба партизанского движения 2-я особая была преобразована в 3-ю Ленинградскую партизанскую бригаду, значительно пополнена людьми, хорошо вооружена, укреплена командным и политическим составом. Командиром бригады был назначен капитан Александр Викторович Герман. На должность комиссара политуправление фронта прислало кадрового политработника Андрея Ивановича Исаева. Начальником политотдела бригады был утвержден учитель Михаил Леонидович Воскресенский.
НОВАТОР ПАРТИЗАНСКОЙ ТАКТИКИ
В начале августа 1942 года бригада в составе пяти отрядов перешла линию фронта в районе шоссе Холм — Старая Русса. Совершив двадцатикилометровый поход по болотам и перелескам, она прибыла в Партизанский край. Герман представился Николаю Григорьевичу Васильеву — прославленному вожаку народных мстителей. 3-я бригада заняла сектор обороны, штаб ее разместился в деревне Вязовка.
Ценою больших потерь гитлеровцам удалось к концу августа сузить территорию края, затянуть вокруг него крепкую петлю. Герман считал, что Партизанский край уже исчерпал былое морально-политическое значение и что нужно бригады выводить за его пределы — в отважные рейды. По-уставному исполнительный, он выполнял все боевые распоряжения штаба обороны, но иногда все же действовал по-своему. Герой Советского Союза К. Д. Карицкий вспоминает:
— Вызвали меня на командный пункт для доклада о боях батальона за истекшие двое суток. Прибыл. В это время связной привез донесение из 3-й бригады. Васильев прочел вслух: «Иду на риск. Снимаю всех с обороны. Наступаю. Герман». Так я впервые услышал фамилию командира 3-й партизанской бригады. Донесение лаконичное — значит, военный; раз идет на риск — значит, смелый. Дерзкими, ошеломляющими действиями Германа восхищались тогда все партизаны, находившиеся в Партизанском крае.
В ходе неравных кровопролитных боев одним из ближайших помощников Германа стал назначенный начальником штаба бригады Иван Васильевич Крылов — инженер-дорожник, бежавший из гитлеровского плена.
Вскоре Ленинградский штаб партизанского движения приказал вывести партизанские соединения за пределы края и рассредоточиться по другим районам. 3 сентября А. В. Герман снял свою бригаду, прорвал вражеское кольцо, увел отряды в район Новоселья. Путь нелегкий. Посланные вперед разведчики доносили, что в деревнях и на станциях стоят гарнизоны оккупантов, мосты и пути усиленно охраняются.
Бригада расположилась в лесу. Обстановка тяжелая: связь с населением не установлена, продовольствия нет, боеприпасы на исходе. Отряды понесли большие потери. Однако партизаны не прекращали борьбу. Диверсионные группы подорвали два танка, захватили три пулемета, уничтожили свыше ста гитлеровцев.
Фашисты блокировали лес. Герман, штаб и политотдел понимали, что в таком «котле» можно погубить всю бригаду. Доложили по радио командованию. Было разрешено выйти в Порховский район. Под покровом ночи партизаны вырвались из окружения.
В бригаде осталось 278 человек. Люди истощены, много больных, нет зимней одежды, продовольствия.
Три самолета, доставившие сухари, махорку, медикаменты, соль и винтовочные патроны, — помощь неоценимая, но все же удовлетворить бригаду это не могло. Вот тогда-то и проявился военный талант А. В. Германа. Вопреки партизанским традициям комбриг предложил разместить отряды и штаб в… оккупированных деревнях. Решение дерзкое, но зато — прямая связь с населением, хлеб, тепло, элементарные человеческие условия.

А. В. Герман намечает маршрут похода
Стремительным броском германовцы выбили гарнизоны врага из шести деревень, расстреляли предателей, заняли круговую оборону. Одновременно действовали диверсионные группы. Только в ночь на 10 октября в двух местах они взорвали железнодорожную ветку, в результате паровоз и двадцать пять вагонов полетели под откос. В последующие две недели сожгли до ста вагонов с боевой техникой. Напуганные оккупанты решили, что в Порховский район сброшен крупный десант кадровых войск.
Успешные боевые действия 3-й партизанской бригады вызвали приток свежих сил в отряды. В бригаду шла молодежь, бежавшие из лагерей военнопленные, кроме того, влились партизанские отряды Седова, Эрен- Прайса, Карицкого. Риск Германа оправдался. С того времени и до конца боевых действий 3-я бригада расквартировывалась только в населенных пунктах, самоотверженно оберегая их.
Бригада жила и действовала по законам воинских частей. Проводилась боевая и политическая подготовка. Комбриг, начальник штаба, начальник политотдела и командиры отрядов строго проверяли занятия, лично обучали бойцов саперному делу, меткой стрельбе, маскировке, тактике засад и рейдовых бросков. Боевые операции разрабатывались по правилам военного искусства. Герман признавал специфику партизанской борьбы, но считал, что военная дисциплина и организация обязательны для всех. Практически было так: днем — оборона, ночью — наступление, неожиданное, во взаимодействии. Комбриг наказывал всякого, кто уклонялся от военной учебы и действовал по старинке. «От волочаевских дней, — разъяснял Александр Викторович, — осталась только песня, все остальное ново: и средства и методы войны…» Герман лично проводил командирскую учебу, тактические игры в штабе бригады. Все сколько-нибудь поучительные операции были предметом разбора на совещаниях командиров и политработников.
ГРОЗА КАРАТЕЛЕЙ
Приближалась весна 1943 года. Несмотря на успехи Красной Армии на фронте и активные наступательные действия партизан, Герман все более задумывался. Склонится над картой, попыхивает трубкой или ходит, ходит по горнице, произнося почти шепотом: «А, черт побери!» — что было признаком его недовольства. Поздним вечером скажет, бывало, ординарцу: «Гриша, вожжи!» Лемешко седлал рыжего с белой лысинкой скакуна комбрига, крепил к седлу вожжи, садился на коня. Александр Викторович, нахлобучив финского покроя ушанку, становился на лыжи, натягивал вожжи, и только снежная пыль вихрилась за спиной. Промчится на лыжах — и снова к полевой карте.
Задумываться было над чем. В штаб и особый отдел бригады поступали донесения о подготовке гитлеровцев к разгрому партизан в районе Ровняка. Уже стягивались карательные отряды, полевые войска, готовилась авиация. В округе гитлеровцы сжигали населенные пункты, усилили контроль за проселочными дорогами.
Герман, Исаев, Крылов и Воскресенский созвали совещание командиров и комиссаров полков, пригласили на совет руководителей формируемой 5-й бригады, отдельного полка и самостоятельных отрядов. На этом совещании было принято решение о совместном выходе из окружения; командование этой сложной операцией поручили А. В. Герману.
Не зря, видимо, фашистские главари обещали четыреста тысяч рублей за голову комбрига Германа, — светлая, умная была голова у Александра Викторовича! Склонившись над картой Порховского района и непрерывно попыхивая трубкой, он, как вспоминают его боевые соратники, готовясь к прорыву, рассуждал примерно так:
— Раньше всего необходимо разгадать замысел противника. Он — неприятель — полагает, очевидно, что имеет дело с новым Партизанским краем и что «красные бандиты» будут обороняться на месте так же, как и в прошлом году защищали Партизанский край: будут держаться за каждую избу, — зимний лес не дом…
А мы, черт побери, навяжем врагу наступление!
Немцы уже привыкли к тому, что партизаны, не имея превосходства в силах, нападают главным образом ночью. Не подлежит сомнению, что они собираются обрушиться утром.
А мы упредим: ударим на рассвете, и днем!..
Немцы хорошо чувствуют себя в бою, если их прикрывают самолеты, танки и артиллерия… А мы навяжем ближний, даже рукопашный бой.
Излюбленным элементом тактики Германа была и военная хитрость — создание ложных боевых рубежей, сталкивание немецких частей лбами. Такие операции он проводил блестяще!
Утром 15 марта 1943 года оккупанты начали генеральное наступление на занятые партизанами деревни Ровняк, Лошково, Ново-Волосово, Луковище, Палицы, Малыгино, Хозаново. Ожесточенный бой длился весь день, но тщательно разработанный план гитлеровцев не имел успеха: огонь пушек не причинил вреда — партизаны умело маневрировали. Бомбежка с воздуха оказалась немыслимой: велся ближний бой. Брошенные в наступление танки были выведены из строя партизанами-бронебойщиками, обученными лично танкистом Германом.
Вечером командование карательной экспедиции подводило неутешительные итоги дня. Пока в штабе врага ломали голову над тем, что предпринять дальше и как вести бой завтра, Герман, оставив огневое прикрытие (большей частью ложное — по одному-два бойца), вывел через заранее разведанный «коридор» партизанские отряды и полки.
Так началась «мартовская карательная экспедиция», затянувшаяся на много месяцев и принесшая немцам в первый же день только убитыми свыше 300 солдат и офицеров.
Сражение за Ровняк дорого обошлось и бригаде Германа: 16 партизан пали смертью героев, несколько десятков человек было ранено; в деревне Палицы, в отместку за помощь партизанам, фашисты согнали в сарай 83 жителя, обложили соломой и сожгли. Эту трагедию Александр Викторович переживал особенно болезненно. Еще больше укрепилось в нем решение: не ждать карателей, а искать их, нападать внезапно, ночью и днем. Такой метод партизанской борьбы соответствовал характеру современной войны. Он все чаще и успешнее использовался всеми частями партизанских соединений Ленинградской области, да и не только Ленинградской…
19 марта немцы настигли партизан в Славковском районе. С тех пор германовцы не выходили из боев весь апрель и май. 3-я, 4-я и 5-я партизанские бригады действовали самостоятельно, но по мере возможности согласованно, выручая друг друга.
Данные о потерях оккупантов в южных районах Ленинградской области противоречивы, приблизительны. И все же эти потери исчислялись тысячами убитых и раненых. Что касается потерь бригады А. В. Германа, то и они внушительны: более 200 убитых и примерно столько же тяжелораненых. Среди погибших: командиры полков Пахомов и Ситдиков, помощник командира полка Солощенко, заместитель комиссара полка Горожанкин, командиры отрядов Малюта и Загороднюк, комиссар отряда Григорьев, партийный секретарь разведгруппы Михайлов. Обессмертил свое имя пулеметчик комсомолец Алеша Гринчук, взорвавший гранатой себя и нескольких гитлеровцев, пытавшихся захватить его в плен. У погибших командиров групп — комсомольцев Горского и Малышева — друзья нашли заявления о приеме в партию, написанные перед боем.
Геройски погибла часть отряда Филатова. Шли на задание. Наткнулись на засаду, попали в клещи. Четыре часа яростного боя. Патроны кончились, а враг все наседал. Дважды раненный Филатов, его связной Сонов, раненые бойцы Высоцкий, Бойков, Бобылев разбили о стволы деревьев автоматы и с криком: «Русские в плен не сдаются!» — взорвали себя гранатами…
Потери большие. Но силы народа, ведущего священную войну, неисчерпаемы: 3-я партизанская бригада пополнялась непрерывно. Ко дню первомайского праздника личный состав бригады насчитывал 1730 бойцов. Был сформирован 4-й полк.
ПОСЛЕДНЕЕ СРАЖЕНИЕ
Летом 1943 года бои в южных районах Ленинградской области велись, пожалуй, с таким же ожесточением, как и на фронте.
Озлобленный враг приходил в бешенство от того, что вынужден был нести урон от «бандитов в восточных районах империи фюрера», а партизаны и народ не хотели видеть иноземную грабьармию на родной земле. Теперь трудно определить, кто на кого нападал: немцы на партизан или народные мстители на оккупантов.
Июнь, июль и август бригада Германа действовала рядом с 1-й, 4-й и 8-й партизанскими бригадами на участках железных дорог Псков — Дно, Дно — Дедовичи, на шоссе Славковского, Порховского, Пожеревицкого и Карамышевского районов. Характерной особенностью для действий всей армии ленинградских партизан в летней кампании была «рельсовая война». Диверсии на «железке» были главным средством для решения партизанских задач: срыв перевозок живой силы и техники неприятеля, спасение советских граждан от угона на каторгу.
Поражает стремительность и размах деятельности 3-й бригады в это время. Полки ее громили не только гарнизоны в деревнях и городах, но и воинские части гитлеровцев, отведенные в тыл на отдых. Сорок шесть диверсионных групп бригады подрывали поезда, автоколонны. Только в ночь с 7 на 8 августа было взорвано более 1500 рельсов.
Просит командование фронта взорвать железнодорожный мост через реку Кебь — пожалуйста! Группа смельчаков во главе с Меньшиковым и специально прибывшим из штаба фронта лейтенантом-сапером Ковалевым совершила 83-километровый марш, уничтожила гарнизон Кебьского разъезда и охрану моста, взорвала мост, пустила под откос подошедший поезд из 38 вагонов, сожгла казармы, а на обратном пути, в деревне Крякуша, уничтожила полувзвод вражеских солдат.
Иногда бригада выходила на «железку» почти всем составом, разворачивалась фронтом и взрывала рельсы одновременно на десятках километров. И везде можно было видеть на рыжем взмыленном коне неутомимого комбрига. Наконец-то партизанская война идет так, как хотел Герман!
…5 сентября 1943 года. Деревня Шариха Новоржевского района. Штаб 3-и партизанской. Дверь сарая распахнута. Боевые руководители полков устало смотрят на карту. Двенадцатое окружение! Тяжело… «Ю-87» сбросил листовку: «Партизаны! Вы окружены шеститысячной армией. Сопротивление бессмысленно. Сдавайтесь!..»
Комиссар бригады Исаев улетел в штаб фронта для доклада. За него Воскресенский — худенький, скромный человек. Начальник штаба Крылов, плотный, широколицый брюнет, всегда невозмутимый, стоит посредине сарая, поглядывает на дверь — ждет комбрига.
Вошел Герман — чисто выбрит, перетянут командирским ремнем, портупеей, на гимнастерке майорские погоны; лицо загорело, немного осунулось, нос заострился, подбородок, кажется, еще больше выдается вперед. Сдержанные жесты и спокойный его взгляд как бы говорят: «Да что, черт побери, впервые нам, что ли, выходить из окружения!..»
Доклады заместителей командиров полков по разведке слушали внимательно, молча. Кольцо окружения плотное. Александр Викторович, развязав кисет, набил трубку, раскурил. Закурили остальные, и махорочный дым поплыл в открытую дверь.
Последним докладывал капитан Панчежный — начальник разведки бригады: в округе фашисты жгут деревни, охраняют мосты, дороги взяты под перекрестный огонь; эсэсовцы находятся в готовности номер один… Но когда он сказал, что в деревне Житницы немцев мало, кто-то радостно вскрикнул:
— Во! Без боя выйдем!
Комбриг сразу возразил:
— Из окружения без боя не выходят! И, кроме того, в Житницах немцев не мало.
Герман никогда не ограничивался данными разведки бригады, он был постоянно осведомлен из других источников. И сейчас перед совещанием комбриг получил новые сведения: в Житницы час назад прибыло шесть грузовиков с пехотой, броневик, пушка, минометное подразделение. Солдаты окапываются на пригорке, левее деревни, устанавливают пулеметы.
— Кольцо, товарищи, замкнуто окончательно. Завтра утром фашисты начнут штурм. Превосходство их четырехкратное. В открытый бой вступать не следует. Нужно ускользнуть сегодня ночью.
Уйти! Но куда? В каком направлении? С востока и запада — открытая местность: разбомбят, подавят танками, скосят огнем. С севера — водные рубежи… Правда, можно вызвать авиационное прикрытие — самолетов в стране теперь достаточно, но фактор скрытности…
Решение было принято единодушно: исходный рубеж — хутор Бараны; прорываться через Житницы; за деревней соединиться на большаке, идти на юг — там лес, там бригадные склады.
С наступлением темноты бригада тронулась. Колонна растянулась на два километра. Курить, включать фонарики запрещено. Команды по цепи передавались шепотом. Лошадям надели сумки-намордники. Впереди шел ленинградский полк Худякова — самый боеспособный. За ним — 4-й, новый полк Ефимова, бóльшая часть личного состава которого еще не обстреляна. В середине колонны — штаб бригады, санслужба хирурга Гилева, штабной отряд «гвардейцев» во главе с Костей Гвоздевым — смельчаком и балагуром, любимцем бригады. Рядом с Германом Крылов, Воскресенский, заместитель начальника разведки бригады сибиряк Иван Костырев. За ним — Лемешко и вестовой начальника штаба Миша Синельников, оба ведут под уздцы оседланных лошадей. Колонну замыкают 2-й и 1-й полки.
Сумрачно и тревожно. Спотыкаясь в темноте, Крылов сказал комбригу с ноткой беспокойства:
— Напрасно мы четвертый полк пускаем за Худяковым. В хвост бы его.
— А прикрытие? — Герман остановился, удерживая в руке ветку. — Неизвестно еще, Иван Васильевич, откуда по нам раньше ударят. Скорее всего в хвост. Ты же знаешь, что удар в спину опаснее, психически страшнее.
Замысел Германа был прост: полк Худякова прорывает кольцо. Пока гитлеровцы спохватятся, в образовавшуюся брешь можно будет протолкнуть 4-й полк, а тут лихой штабной отряд, другие надежные полки; в случае преследования полки Синяшкина и Ярославцева дадут отпор… Главная забота не потерять людей: почти две тысячи человек.
Взвились ракеты, донеслась стрельба. Герман послал связного с приказанием Худякову: с ходу вывести из строя броневик и пушку, расчленить гитлеровцев, не останавливаться.
Худяков выполнил приказание — путь бригаде расчищен. Но тут замешкался 4-й полк. Немцы, воспользовавшись заминкой, заняли рубежи на пригорке, открыли ураганный огонь, прижали полк на лугу перед Житницами. Как ни старались Герман и командир полка Ефимов поднять новичков в атаку, кроме командиров и коммунистов, никто не мог оторваться от земли.
Тут подошел штаб. Крылов предложил бросить вперед следом идущий полк. Совет дельный, но комбриг боялся потерять время: пока полк подтянется, развернется, враг тоже подбросит подкрепления.
— Поздно. Время, черт побери, время!.. Гриша, коней — в обоз. — Герман выхватил из деревянной кобуры маузер. — Штабной отряд, за мной!
Все девять изб деревни объяты пламенем. Над лощиной, по которой бежали «гвардейцы» (так называл Герман партизан штабного отряда), роем свистели пули. В самом начале атаки начальник политотдела Воскресенский заметил, что комбриг прихрамывает.
— Александр Викторович, ты ранен. Девушка, бинты!
— Молчи, Михаил Леонидович, молчи!
Штабной отряд короткими перебежками вышел к
Житницам, завязался встречный бой. Ординарец Лемешко был ранен, отстал от комбрига. К деревне приближался штаб бригады. В лощине справа и слева лежали убитые бойцы 4-го полка — жертвы нерешительности… Ранен начальник штаба — пуля прошла вдоль губ. Пока сандружинница делала перевязку, Крылов наблюдал за ходом боя. Он видел, как Герман повернул отряд вправо, в обход деревни между огородами и кустарником. Крылов понял замысел комбрига: вести бригаду этой новой брешью под прикрытием дыма горящих построек, там, где, по-видимому, нет огневых точек противника.
Не имея возможности отдать приказание устно (рот забинтован), Крылов написал записку командирам 1-го и 2-го полка, чтобы они взяли правее — шли следом за штабом и службами. Своего вестового Синельникова послал к Герману с докладом: «Замысел понят; какая требуется помощь?»
У околицы начальник штаба встретил возвращавшегося Синельникова, раненого, напуганного.
— Худяков прорвался… Штабной отряд повел раненый Гвоздев… Комбриг убит!.. — доложил вестовой.
Крылов вздрогнул, хотел спросить, где тело Германа, но тотчас увидел непонятное: Ярославцев вел свой полк левее, к пригорку, под минометно-пулеметный огонь немцев. Посланный к нему связной с запиской, очевидно, погиб…
Выход из окружения полков Ярославцева и Синяшкина сопровождался большими потерями; 3-й полк, вышедший за Житницы, мог бы ударить по немцам с тыла или фланга, но там не знали, что творится в деревне. Вышел из строя Худяков — ранены обе руки; ранен в ногу комиссар полка Ступаков…
Соединились за Житницами — у большака, на опушке леса. Крылов спросил запиской: «Где тело комбрига?» Никто вразумительно ответить не мог. На поле боя была срочно послана группа разведчиков.
Германа нашли в огороде. Две вражеские пули пробили ему голову навылет, накрест — в лоб и висок. При комбриге — нетронутые планшет с картой, треугольник с сантиметровой насечкой, маузер. Рядом лежала его излюбленная кавалерийская фуражка…
Уже рассветало. Несли Германа на виду у гитлеровцев рискованно, а тут еще началась сильная стрельба за деревней, где находилась бригада. Разведчики были вынуждены ползти по-пластунски и тащить на спине тело комбрига. Спрятали его в заболоченном кустарнике, охраняли весь день и только на другую ночь доставили на телеге в бригаду, отошедшую в чащу леса.
9 сентября день выдался пасмурным, накрапывал дождь. Бригада, построившись, прощалась с комбригом. Партизаны плакали… Гроб с телом Германа внесли в самолет, прилетевший из тыла. Самолет поднялся, взял курс на Валдай…
Война продолжалась. Помогая фронту, усилила свои удары по врагу и армия ленинградских партизан. Ее 3-я бригада с именем легендарного комбрига на знамени вела бои за свободу и независимость нашей Родины.
Н. Алексеев ОХОТНИК ЗА БОМБАРДИРОВЩИКАМИ
Когда началась война, Васе Харитонову было девятнадцать лет. Вырос Вася в Москве. Школа, в которой учился мальчик, была по соседству с Центральным аэродромом. Аэродром манил к себе ребятишек. У летного поля Вася и его друзья часто встречали известного летчика Михаила Михайловича Громова. Когда вместе со штурманом Спириным Громов совершил полет по замкнутой кривой, принесший советской авиации мировую славу, восхищению ребят не было предела.
— Вот здорово, больше трех суток пробыть в воздухе! Они настоящие герои! — говорили школьника друг другу.
Подвиг Громова и Спирина вызвал у Харитонова страстное желание подняться, как птица, в небо. Вася поступил в аэроклуб. Днем в школе, а вечером и в воскресенье — в аэроклубе. Потом Василий успешно окончил военное авиационное училище.
В июне 1941 года летчик-истребитель Харитонов был направлен в Ленинград. В одном из его пригородов формировалась эскадрилья особого назначения. Командовал ею опытный авиатор, участник боев с белофиннами Иван Павлович Неуструев. Когда люди были подобраны, комэск собрал их и сказал:
— Нам, товарищи, выпала честь охранять с воздуха великий город Ленина. Будем перехватывать фашистские самолеты, не допускать их к Ленинграду. Сегодня перебазируемся. Ясно?
— Ясно, — за всех ответил один из летчиков.
Особенно жаркие бои развернулись в сентябре. Из пяти воздушных флотов, какими обладала гитлеровская Германия, четыре были брошены на советско-германский фронт. Фашистские асы, безнаказанно кружившиеся раньше над крышами Парижа, Вены, Варшавы и Праги, как стервятники, ринулись к берегам Невы. Но, хотя преимущество в авиации в первые месяцы войны у гитлеровцев было большое, сопротивление они встретили ожесточенное.
10 сентября 1941 года к Ленинграду пытались прорваться 50 вражеских бомбардировщиков, прикрываемых истребителями. На отражение фашистского налета поднялась эскадрилья Неуструева. Советские летчики смело атаковали бомбовозы. Строй «юнкерсов» развалился. Действуя стремительно и отважно, лейтенант Пидтыкан уничтожил «юнкерс-88», а Василий Харитонов «дорнье-215». Третий самолет сбил командир эскадрильи Неуструев.
Фашисты наседали, но подоспела еще одна наша эскадрилья, прорваться к городу не удалось.
Только успели наши истребители у себя на аэродроме заправить машины горючим и пополнить боезапас, как снова тревога. И опять Харитонов с друзьями был в воздухе. Его «ястребок» метеором носился под голубым куполом неба, атакуя врага.
— Вижу по настроению что и этот вылет был не напрасным, — сказал моторист Харитонову, когда тот, подрулив к стоянке, вылезал из кабины. — Кого сбили?
— «Юнкерса»» — лаконичо ответил летчик.
— Мой Василий Николаевич настоящий охотник за бомбардировщиками. В один день сжег два бомбовоза, — с гордостью говорил моторист своим друзьям, готовя машину к новым вылетам.
В один из осенних дней 1941 года старший лейтенант Неуструев летел во главе семерки. В ее составе были Кравченко, Пидтыкан, Максимов, Корниенко, Харитонов, Серяков. Патрулируя над важным объектом, неуструевцы заметили две группы бомбардировщиков, сопровождаемые истребителями. Заслон «юнкерсов» пытался связать боем наш воздушный патруль, чтобы бомбовозы в это время могли совершить свое гнусное дело. Советские летчики бросились навстречу истребителям, отбили их атаку и прорвались к «юнкерсам». Несмотря на численное превосходство противника, отважная семерка сбила четыре немецких бомбардировщика. Замысел врага был сорван. Наши авиаторы заставили фашистов сбросить весь бомбовый груз в торфяное болото.
За три с половиной месяца войны эскадрилья старшего лейтенанта Неуструева сбила 46 фашистских самолетов, не потеряв ни одной своей машины и ни одного летчика. Это была настоящая, большая победа.

Летчики-истребители (слева направо) — дважды Герой Советского Союза А. Карпов, Герой Советского Союза В. Харитонов и А. Андрианов.
Но все чаще и чаще приходилось теперь драться прямо над городом. Однажды Харитонов неожиданно настиг фашистский бомбардировщик, когда тот собирался сбросить бомбы на Московский (тогда Международный) проспект. Гитлеровец быстро развернулся на обратный курс и повел свою машину к линии фронта. Харитонов вплотную приблизился к бомбовозу и ударил по нему всей силой своего огня. Задымили моторы фашистской машины. «Дым может ввести в заблуждение», — подумал Василий и еще раз прошил врага пулеметной очередью. «Юнкерс» врезался в деревянное здание вблизи Пулкова и сгорел.
Так в непрестанных боях проходили день за днем, месяц за месяцем. К началу 1943 года за Харитоновым укрепилась слава советского аса. В середине января начались бои по прорыву блокады Ленинграда. В те незабываемые дни Харитонов поднимался в воздух по нескольку раз в сутки и летал над наступающими советскими войсками, охраняя их от вражеской авиации. Когда он, усталый, смотрел вниз на пехотинцев, приветливо махавших ему руками, подкидывающих в морозный воздух свои шапки, Василий чувствовал: силы прибавляются.
Часто приходилось барражировать над скованной льдом Невой, над Невской Дубровкой, Синявином. Однажды в этом районе немецкие бомбардировщики появились без прикрытия. «Видимо, у фашистов маловато здесь истребителей», — рассуждали вернувшиеся с боевого полета наши авиаторы. Их довод подтвердили разведчики. Тогда командир решил: «Надо воспользоваться моментом и выпускать на боевые задания молодежь, прибывшую из авиационных училищ. Пусть порохового дыма понюхают». Сначала со звеном вылетел один молодой пилот, потом двое. Харитонов решил «прихватить» в зону патрулирования сразу пять новичков. Кроме него опытным летчиком в этом полете был еще гвардии старший лейтенант Потапов.
— Держаться дружно, — сказал ветеран, обращаясь к молодым однополчанам. — Следите за мной, слушайте и точно исполняйте команды.
Взревели моторы, и самолеты один за другим поднялись в воздух. Они сделали два круга над аэродромом, ожидая взлета последнего истребителя, и легли на боевой курс. В заданном районе летчики неожиданно встретили двух, затем еще пять «фокке-вульфов». «Вот так так, а говорили, нет у фашистов истребителей», — мелькнуло в голове у Василия. Пока он соображал, как лучше поступить, на горизонте показались еще пять «фоккеров». Харитонов по радио приказал Потапову:
— Вы пятеркой выступаете против пятерки. Мы с младшим лейтенантом Гримовым берем на себя первую пару.
Морозное небо расчертили огненные трассы. Первым начал бой Харитонов. Пулеметными очередями бил он то по одному, то по другому «фокке-вульфу». Его активно поддерживал огнем Гримов. «Молодец парень, выйдет из тебя авиатор настоящий», — вслух произнес Харитонов, заметив, как немецкая машина рухнула вниз.
Группа Потапова тем временем тоже сбила «фокке-вульфа». Но теперь она дралась уже не против пяти, а против девяти самолетов. Приказав Гримову присоединиться к Потапову и выполнять его указания, Харитонов потянул ручку на себя, набирая высоту. Оттуда ему был хорошо виден бой. Когда кому-либо из его летчиков угрожала опасность с тыла, когда к хвосту краснозвездной машины подкрадывался немецкий истребитель, Харитонов сваливался вниз и бил по нему.
Напряжение боя нарастало. Фашисты подбили самолет молодого летчика Кувизина. Теряя управление, Кувизин все же дотянул до ближайшего аэродрома. Новые атаки, и вот уже в землю врезались шестой и седьмой «фокке-вульфы». Но радость победы омрачена: младший лейтенант Луковкин, увлеченный боем, погнался за недобитым вражеским истребителем и не заметил, как оказался над линией фронта. Летчик попал в зону огня немецких зениток и сгорел вместе со своей машиной. Тяжело было возвращаться на базу с печальной вестью…
Откуда же появились немецкие истребители в районе, где их не было последнее время? Как стало потом известно, фашисты тоже направили в патруль свою молодежь.
Вскоре в полк прибыли потребители «ЯК-7». Василию Николаевичу Харитонову был предложен один из них. Не хотелось ему расставаться с «И-16», на теле которого было много боевых ран. «Ишачок», как любовно называли пилоты «И-16», обладал большой выносливостью, аэродинамичностью, имел превосходное вооружение.
Харитонов забрался в кабину нового самолета, осмотрел приборы, опробовал ручку управления, сектор газа… Все ему нравилось. Вот самолет побежал по взлетной дорожке, мгновенно от нее оторвался и стал набирать высоту. Тысяча, две, три, четыре, пять тысяч метров… «Вот это да, стрелой летит к солнцу!» Машина восхитила закаленного в боях летчика.
Случилось так, что в первый же вылет на «ЯКе» гвардии старшему лейтенанту Харитонову пришлось повстречаться с врагом. Это была боевая проверка, и самолет ее выдержал. Человеку, который его пилотировал, он дал радостное сознание преимущества над противником. Настигнув фашиста, «ЯК» не отставал от него, не давал ему возможности уйти, увернуться. Вражеская машина загорелась…
На аэродроме моторист учинил целый допрос:
— Как вела себя машина?
— Отлично.
— Как скорость?
— Больше, чем у американцев.
— Маневр?
— Какой задумаешь.
— Огонек?
— Хватает.
Разговор прервал прибежавший к самолету заместитель командира по политчасти. Он крепко обнял Харитонова и сказал:
— Поздравляю, дружище, от имени всего личного состава полка. Только что передали по радио Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении тебе звания Героя Советского Союза.
В МОСКВЕ
И опять жестокие бои. И вновь радостные победы. В первую же неделю полетов на «ЯКе» Василий Николаевич сбил еще три самолета. Это были «мессершмитты-109».
После одного из боев командир полка сказал Харитонову:
— Поедете в Москву в составе делегации летчиков и зенитчиков, защищающих воздушные подступы к Ленинграду. Расскажите, как воюем. Москвичи интересуются нашими делами.
Вместе с гвардии старшим лейтенантом Харитоновым в столицу выехали кавалеры ордена Отечественной войны старший лейтенант Зверев п старший сержант Скуратовский, санинструктор Федорова и другие бойцы. В подарок московским собратьям по оружию воины- ленинградцы привезли скульптуру «За город Ленина», выполненную красноармейцем Ярымбашем.
Харитонову было что рассказать московским летчикам. Они с увлечением слушали его беседы о подвигах ленинградских авиаторов: Антонова, Карпова, Беляева, Андропова, Пидтыкана, о тактике неуструевцев, применявшейся во многих воздушных боях.
На третий день пребывания Харитонова в столице его пригласили в Кремль за получением высокой награды. Он был, пожалуй, самый молодой из тех, кто в тот день получал ордена и медали. Вручив Харитонову орден Ленина и Золотую Звезду Героя, Михаил Иванович Калинин пожал руку летчику, приветливо спросил:
— Как дела-то, сынок?
— Хороши, Михаил Иванович. Скоро прогоним фашистов от Ленинграда.
Из Кремля Харитонов пошел разыскивать родителей. Жили они теперь по новому адресу. Фашистские воздушные пираты, прорвавшись к столице, сбросили бомбы на район, где прошли детство и юность Василия. Дом Харитоновых и соседние здания сгорели.
Старики рады были видеть своего сына живым и здоровым. Слезы катились по щекам Николая Ивановича, когда он держал в руках грамоту о награждении Василия Золотой Звездой Героя Советского Союза. Взволнованно сказал:
— Молодец, сын. Спасибо. Уважил нас с матерью.
В ДНИ НАСТУПЛЕНИЯ
Летом 1943 года 7-й истребительный авиационный корпус, в составе которого служил В. И. Харитонов, был преобразован в гвардейский Ленинградский истребительный авиационный корпус. Гвардейцы написали письмо-клятву родному городу. От имени личного состава гвардейского корпуса ее подписали Василий Харитонов и его боевые друзья Г. Жидов, С. Литаврин, В. Мациевич, И. Беляев, А. Карпов и другие.
«Дорогие товарищи ленинградцы, друзья наши! — говорилось в этом патриотическом документе. — Вот уже два года наши летчики защищают воздушные подступы к Ленинграду. Счастлив воин, которому Родина доверила оборону такого великого и прекрасного города… Вместе с вами мы защищаем его. Мы — с оружием в руках, вы — трудом своим. Отличным трудом! Наша сила — в нашем единении.
Мы деремся на машинах, сделанных руками советских тружеников. Мы разим врага снарядами и пулями, отлитыми и сработанными вашими руками.
Будем работать и сражаться еще упорнее, еще настойчивее! Отдадим все наши силы делу победы над врагом!
Нам довелось участвовать более чем в тысяче воздушных боев. Нашими летчиками сбито и уничтожено восемьсот двенадцать вражеских машин, пытавшихся бомбить кварталы нашего города, несших на своих крыльях смерть детям и старикам…
Наша рука никогда не дрогнет, наше сердце не успокоится, пока фашисты будут летать в нашем небе… Мы клянемся вам биться с ненавистным врагом, не щадя себя и своей жизни… Небо Ленинграда, небо любимой Отчизны будет очищено от фашистских стервятников».
Верные своей клятве, гвардейцы наращивали удары по врагу. В дни наступления советских войск зимой 1944 года Харитонов и его товарищи по эскадрилье совершили 210 боевых вылетов, сбили 8 самолетов противника, выполнили немало сложных заданий по прикрытию наших наземных войск, по разведке и штурмовке коммуникаций, баз, железнодорожных составов немецко-фашистских захватчиков.
Летчики-истребители активно помогали наземным войскам развивать наступление, гнать фашистов дальше от Ленинграда. Доблестно громил врага и летчик Харитонов. Всего за годы войны герой-авиатор совершил 395 боевых вылетов, провел 88 воздушных боев, сбил 26 самолетов врага, 16 из которых — бомбардировщики.
* * *
«Охотник за бомбардировщиками» сейчас не летает: годы да и здоровье не те уже, но с авиацией Василий Николаевич не расстается. Он работает в Ленинградском аэропорту.
Частенько у полковника запаса Героя Советского Союза Харитонова собираются бывшие военные летчики. Им есть о чем поговорить, есть что вспомнить.
В одну из таких встреч Харитонов достал фронтовой альбом рисунков Анатолия Никифоровича Яр-Кравченко. В землянке или прямо на стоянке самолетов Анатолий Никифорович писал портреты отличившихся в боях авиаторов.
Перелистывая пожелтевшие от времени альбомные листы, откуда смотрели на них знакомые лица, ветераны вспоминали родной полк, говорили о судьбах своих товарищей. Кто-то с грустью сказал:
Разлетелись наши ребята по всей стране. Запасники теперь.
— Ну и что ж, — перебил товарища Харитонов, — да, запасники. Но у каждого — интересная работа. А если потребуется — вернемся к боевым самолетам. Скорости теперь другие, больше тех, какие были у наших истребителей. Ничего, привыкнем. Авиаторы — народ настойчивый.
П. Хороший ХОЗЯИН "ЗРЯЧИХ ПУЛЬ"
"СОЛДАТЫ, В ПУТЬ!"
Приближалась вторая военная весна, когда Федор Дьяченко стал рядовым запасного стрелкового полка. Дни учебы в далеком сибирском городке пролетели незаметно. Завершились последние приготовления к дороге. Построив своих бравых, подтянутых питомцев, командир внимательно осматривал их довольным взглядом.
— А где же наш Федор Трофимович? — спросил он. — Что-то не вижу его.
— Я тут, товарищ капитан! — послышался голос издалека.
— То-то я слышу, что шумно на левом фланге, — с теплой отеческой ноткой в голосе пошутил командир. — Опять в строю разговариваешь?
— Та ни, это исключено. Строй — святое место. Про то мене ще Суворов казав. С тех пор я мовчу, як рыба. Но у меня есть официальное заявление, прошу заслушать.
Командир усмехнулся, покачав головой. Ох уж этот полтавский говорун и непоседа!
— Ну, что там у тебя, суворовский солдат, докладывай? — спросил он, подходя поближе.
— Словами тут объяснить трудно. Вы лучше посмотрите, товарищ капитан, — Дьяченко неуклюже протискивался вперед. Едва он появился перед строем, грохнул хохот.
— От бачите, — обиженно сказал молодой солдат, — не только наши хлопцы, даже немцы на фронте рыготать будуть. Та в такой шинели не воевать, а горобцив гонять на огородах, щоб подсолнухив не клювалы.
Капитан смотрел на солдата, с трудом удерживаясь, чтобы не рассмеяться. Шинель досталась ему действительно не по росту. Полы до пят, руки совершенно спрятались в рукава. И без того невысокий, теперь он выглядел совсем мальчишкой, смешным и забавным.
— Не тужи, Федя, — подбадривали друзья. — Может, за дорогу подрастешь, а там найдем портного, малость перекроим шинель, и будет в самую пору.
— И правда, Федор Трофимович, потерпи. — сочувственно сказал командир. — Сейчас уже ничего нельзя сделать. Нет на складе более подходящей шипели. Не учли интенданты твоих индивидуальных особенностей. На месте что-либо придумаем.
В тот же день маршевая рота выехала на фронт. Были теплые проводы, митинг, добрые напутствия. Когда станция осталась далеко позади, солдаты в вагоне как-то попритихли. Видно, взгрустнулось им.
Дьяченко уловил эту перемену в настроении товарищей и предложил:
— А ну, земляки, давай сюда поближе. Денисенко, подсобляй, ты голосистый. Споем любимую. — И первым начал легко, сильно, сочным и очень мелодичным голосом:
Песню подхватили сначала немногие, потом десятки голосов, не только в этой, но и в двух соседних теплушках. И вот она уже раздольно зазвучала над бескрайней сибирской степью под мерный стук колес эшелона.
Потом пели «Ермака», «По долинам и по взгорьям». Пели бы еще, но солнце уже давно скрылось за горизонтом. Темно-синее небо усеяли яркие звезды. По вагонам передали команду: «Отбой!»
Улеглись, однако спать не хотелось. Вдыхая чистый степной воздух, пряно пахнущий полевыми цветами, Федя мечтательно смотрел на звездное небо:
— У нас на Полтавщини тоже такое небо бувае по ночам. Темное-темное, аж синее, и зирки ясни-ясни. Кажется, що воны тилькы для того и свитятъ, щоб ты бачыв, яки красиви очи у твоей дивчыны…
— Федь, а Федь, — отозвался кто-то с верхних нар. — А была ли у тебя дивчина? Ты же давненько уехал из дому. Вроде бы рано было тебе в ухажерах ходить?
— Затем перебиваешь, — недовольно проворчал казах Уланбеков. — Пусть говорит человек. У него не был девушка — у тебя был, у меня есть, ждет.
Федя помолчал и продолжал:
— А село наше — Бетяги, Великокринкивского района — большое, красивое. Биленьки хаты, курчави сады.
Плакучи вербы склонились над водою. А кругом села — поле, сплошь засияне пшеницей. И не выдно ни ее конца, ни краю. „

Федор Дьяченко
Слушали солдаты бесхитростный рассказ Дьяченко и мысленно переносились в свои милые, безмерно дорогие сердцу края. И каждому казалось, что нет более красивого города, села, уголка, чем тот, где он рос, жил.
Федя умолк, захваченный мыслями об отчем доме, о своем детстве. Далеко не всегда оно было безоблачным. Чаще трудным, безрадостным. Все, безусловно, сложилось бы иначе, если бы жил отец. Но он погиб. Солдаты германского кайзера, грабившие Украину, жестоко расправились с партизаном, боровшимся против них. Они привязали Трофима Дьяченко к лошади, волоком протащили его по всему селу и расстреляли где- то в поле.
Теперь пришло время сыну украинского партизана Феде Дьяченко постоять за родную землю. «За мене, батьку, красниты не будешь», — почти вслух сказал Федя и с этой мыслью уснул.
Останавливался эшелон не часто и ненадолго. Железнодорожные мастера, в промасленных спецовках, с воспаленными от бессонных ночей глазами, озабоченно проверяли буксы колес, щедро заливали их смазкой, звонко постукивали по ободьям молотками. В такие минуты пожилые бойцы обычно просили скорого на ногу Федю Дьяченко:
— Давай, сынок, облегчи душу добрыми известиями.
Правда, он и без напоминаний выполнял обязанности, возложенные на него командиром: бегал в штабной вагон за свежими газетами, сводкой Совинформбюро.
На какой-то станции Федя выскочил из вагона с чайником. На перроне людно, шумно. Пробираясь сквозь толпу, он столкнулся с девушкой. Светловолосая, худенькая, похоже, еще школьница, она посмотрела на него большими глазами, улыбнулась. Ну как тут было пробежать мимо! Спросил:
— А где у вас можно найти кипяточку погорячее?
Остановились. Слово за слово. Не заметили даже третьего звонка. Эшелон медленно поплыл мимо. Сильные руки товарищей подхватили Федора, втащили в вагон. А девушка бежала рядом долго-долго, до конца платформы, махала рукой и все говорила:
— Пиши, где бы ни был, пиши. Обязательно пиши…
— Федя, а где же кипяток? — не без лукавства спросил кто-то, звеня на весь вагон порожним чайником.
— Кипяток? На следующей остановке будет, — весело ответил Федя, пряча в карман гимнастерки аккуратно сложенный листок с адресом девушки.
БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
В Тихвин прибыли утром. День обещал быть хорошим. Но небо вдруг заволокли тучи. Пошел сильный дождь. Большие тяжелые капли падали на обгоревшие коробки домов, на высокие голые трубы, иссеченные осколками и пулями. Дьяченко, совсем недавно своими руками строивший завод, изумленно смотрел на следы войны и никак не мог освоиться с мыслью, что все это сделали люди.
— Э-э-эх, сынок, — тяжело вздохнул усатый солдат, словно читая его мысли. Еще не то увидишь.
Весь день готовились в путь. Но куда никто не знал. Запасаясь привезенными с полевого склада патронами, гранатами, сухарями и консервами, солдаты поговаривали: «Не иначе под Ленинград пойдем…»
…Ночью вышли к большой воде.
— Море? Озеро? — послышался настороженный шепот.
— Ладога, — ответил басовитый голос.
— А катеров-то, катеров! — ахнул Федя, окинув взглядом берег, сплошь усеянный небольшими суденышками. — И где только набрали их такую массу…
Погрузились быстро. Выполняя приказ, каждый солдат взял с собой на катер по два мешка сухарей и других продуктов столько, сколько мог унести. Отчалили на рассвете. Было тихо, лишь глухо, надрывно гудели моторы глубоко осевших катеров.
Неожиданно Дьяченко уловил далекий незнакомый рокот. Потом послышался нарастающий свист, настолько неприятный, что хотелось голову втянуть в плечи. На самой высокой ноте свист резко оборвался, грохнул взрыв. Вверх взметнулся огромный столб воды. За ним второй, третий, пятый… Снаряды ложились близко.
— Обнаружили, сволочи, распронатуды их… — зло выругался сухощавый моряк, откуда-то появившийся рядом с Федей. — Вперед, самый полный! — приказал он кому-то, хотя перегруженное суденышко и без того трудилось вовсю.
Маневрируя между разрывами, моряки спешили вывести катера из-под обстрела. Но фашисты пристрелялись. Один из снарядов угодил в переполненный людьми катер и разнес его в щепки.
— Стойте! — не своим голосом крикнул Дьяченко и метнулся к корме.
— Спокойно, сынок, спокойно, — остановил Федора парторг роты, крепко сжимая его руку выше локтя. — Там справятся и без тебя. Видишь, уже подходят катера, подбирают людей…
Наконец берег.
— Высаживайся, пошел! — приказал командир.
Дьяченко замешкался, словно хотел спросить: «Как высаживаться, прямо в воду, одетыми? А разве к песчаной бровке не подойдем?» Но вовремя спохватился и первым бросился в озеро со всем своим багажом.
Высаживались молча, слышался только повелительный голос командира:
— Не задерживаться на берегу! Вперед! Поглубже в лес, поглубже в лес!
Вода чавкала в сапогах, ставших пудовыми, ручьями текла со скаток шинелей, гимнастерок, мешков, которые несли на себе солдаты. Собрались на лесной поляне. Построились.
— Вот вам и первое боевое крещение, поздравляю! — сказал командир, проверив, все ли налицо.
Теперь, казалось, можно было и передохнуть, обсушиться. Но командир сразу же повел дальше, поторапливая:
— Шире шаг, шире шаг!
— И куда спешим? — проворчал кто-то недовольно.
Лишь через полчаса остановились в лесу, поросшем густым молодняком. В это время откуда-то сверху коршунами свалились два вражеских самолета, прочесывая лес вдоль берега из пулеметов.
— А командир наш голова, — сказал пожилой усатый боец Деревянко, поглядывая на небо. — Вовремя увел нас с берега, а то бы досталось нам.
— Мы-то ушли, а вот немцы навряд ли уйдут, заметил Федя. — Посмотрите…
Звено наших истребителей стремительно шло наперерез вражеским машинам. Завязался воздушный бой. Большинство солдат впервые наблюдало схватку в воздухе. Они не отрывали от неба глаз. Грянуло дружное «ура», когда все увидели падающего «мессера», охваченного огнем и дымом.
— А я що казав? — торжествующе спросил Федя.
Расположившись под деревьями, бойцы приводили себя в порядок, сушили обмундирование, готовились завтракать.
— Смотри! — сказал Федя, тронув за руку Ивана Сомова, потянувшегося ложкой к банке с консервами.
Из-за поворота на дорогу вышла группа людей. Худые, почерневшие, они едва переставляли ноги. Щупленький старик волоком тащил за собой небольшой узел с каким-то скарбом. Пожилую женщину, видно уже совсем отощавшую, поддерживали под руки две другие, помоложе. Рядом с ними, как тени, брели дети. Маленькая девочка в ситцевом платьице, мешком висевшем на ее худеньком тельце, часто останавливалась и сквозь слезы шептала:
— Мамочка, дорогая, я больше не могу…
Федя быстро встал, пошел к дороге, навстречу людям. Хотел что-то сказать, но не смог. К горлу подкатился твердый комок. Задыхаясь, он бросился назад, схватил все, что было приготовлено к завтраку, и — к беженцам.
— Передохните, до берега уже недалеко. А пока поешьте. Вот берите.
Торопливо, словно боясь, что они откажутся, Дьяченко стал наделять детей и женщин сухарями, всем, что у него было. Старушка, которую вели под руки, тяжело опустилась на круглый камень у дороги. По ее лицу медленно текли крупные слезы, а глаза светились по-матерински ласково.
— Родные вы наши, хорошие. — заговорила она тихим голосом. — Сами-то как будете? Нас накормят на том берегу, а вам силы нужно беречь, воевать ведь идете…
— Ничего, ничего, мамаша, кушайте, за нас не беспокойтесь…
По дороге, направляясь к ладожской переправе, подходили еще и еще люди, такие же измученные, голодные. Федя кинулся в лес, к бойцам:
— Хлопцы — там ленинградцы, дети, женщины! Они в таком состоянии — смотреть больно. Давай сюда жратву, какая есть…
Завтракать больше никто не мог. Все собрались у дороги, каждый отдал все свои личные запасы. Оставались только сухари — НЗ (неприкосновенный запас) подразделения. Бойцы вопросительно смотрели на командира. Нелегко было ему распорядиться последними резервами, но оставить их он тоже не мог.
— Раздайте все, — разрешил он.
Угощая мальчика лет шести, устало присевшего под кустом. Федя с тоской смотрел на его худенькое личико, казавшееся прозрачным. Взволнованный невиданным горем людей, он свернул толстую махорочную самокрутку, хотелось жадно затянуться едким табачным дымом, но мокрые спички никак не загорались, ломались.
— Дяденька, а ты попробуй моим стеклышком. — предложил малыш. — Оно зажигает.
И он извлек из кармана штанишек небольшое увеличительное стекло. Федя направил на самокрутку луч солнца. Она задымилась.
— Спасибо, дружище, выручил, — сказал Федя, возвращая линзу. _- А ты, дяденька, возьми стеклышко себе. Возьми, пожалуйста, — взмолился мальчик и с видом знатока добавил: — Прикуривать будешь. Ведь на фронте спичек не продают…
Вечером подразделение погрузилось в эшелон, направлявшийся к Ленинграду. В неосвещенном вагоне слышался гневный голос сибиряка Пахомова:
— Третью войну ломаю на своем веку, всего навиделся, но такого зверья, как эти гитлеровские выродки, не встречал. Эх, добраться бы нам только до них!
СЧЕТ МЕСТИ ОТКРЫТ
Маршевую роту разместили вблизи большого парка на окраине Ленинграда.
— Сейчас на нашем фронте затишье, — сказал представитель командования, обращаясь к бойцам пополнения. — Решающие бои — впереди. А пока набирайтесь сил, учитесь.
И потекли дни, переполненные нелегким солдатским трудом. Едва взойдет солнце, рота уже в поле. Следует атака за атакой на укрепленные пункты, оборудованные так же, как у врага.
Как-то во время перекура на тактических занятиях близкие Федины друзья Иван Денисенко и Петр Холодный подзадорили его:
— Видишь птицу? Вон в небе парит.
— Ну, вижу.
— Собьешь?
— Собью!
— Не хвастайся, промажешь.
Дьяченко отложил в сторону недокуренную цигарку, вскинул винтовку и выстрелил. Птица на какую-то долю секунды словно повисла в воздухе неподвижно, потом камнем рухнула вниз.
— Кто стрелял? — послышался властный голос старшины роты.
— Ну, Федька, держись, — язвительно заметил Холодный. — Теперь тебе будет на орехи…
Федор вытянулся перед старшиной в струнку, приставив винтовку к ноге, как на часах. Но тот, осмотрев убитую птицу, неожиданно сменил гнев на милость:
— Эх, парень, всыпать бы тебе полагалось за беспорядок. Понимать же нужно: блокада, каждый патрон дорог. К тому же находишься не на охоте, а на учениях… Однако стреляешь удивительно метко. Молодец.
В тот день на вечернюю поверку в роту пришел командир батальона.
— Рядовой Дьяченко, выйти из строя! — приказал он.
Три шага вперед, поворот кругом, лицом к товарищам — все это Федя выполнял с удивительной четкостью. как никогда раньше, а сам думал: «Вот он, тот неприятный разговор. И дернул же меня черт стрелять по птице, как будто мишеней нет…» Но в следующую минуту его сердце радостно забилось.
— За меткую стрельбу объявляю вам благодарность, — торжественно сказал комбат, — и вручаю вам снайперскую винтовку.
Он взял винтовку у старшины, передал ее Феде, крепко пожал ему руку и добавил, улыбнувшись:
— Теперь вы должны стрелять еще точнее, конечно, не по птицам.
Тренировал Дьяченко лейтенант Теплов.
— Ни одна ваша пуля не должна пролетать мимо, — говорил он. — Вот посмотрите, как нужно стрелять.
Лейтенант вскидывал пистолет и на глазах у Феди вгонял в небольшую мишень несколько пуль, что называется, одна в одну.
…Хмурой сентябрьской ночью 1942 года Дьяченко и его боевые друзья строем прошли через город к фронту. «Так вот какой ты, Ленинград!» — взволнованно думал Федя, любуясь широкими, прямыми улицами и проспектами города.
На передний край в районе Колпина выдвигались по отделениям тихо. Строго-настрого было запрещено курить, кашлять, греметь котелками.
— Ваше место здесь, — сказал командир взвода вполголоса Феде Дьяченко и Петру Холодному. — Еще раз напоминаю: будьте все время внимательными — сюда может сунуться вражеская разведка, случаются и другие неприятности.
Умолкли шаги товарищей. Федор и Петр остались вдвоем. Переглянулись, осмотрелись, прислушались. Траншея. Стрелковые ячейки. Под ногами хлюпает вода. Напряженная тишина, только слышно, как переговариваются пулеметы.
— Что же будем делать? — шепотом спрашивает Петр.
— Как что? — удивился Федя, — наблюдать, наверное, нужно.
Прильнули к брустверу, затихли. Медленно потянулось время.
Сумерки постепенно рассеивались. Становилось светлее.
— Федь, а Федь, это же немцы! — взволнованно зашептал Петр. — Ты посмотри, ходят нахально, во весь рост. Я даже подумал сначала, что это наши…
— Ну ходят, так что же?
— А ты стреляй!
— Угу… Стреляй… А патроны где? Старшина дал двенадцать штук и сказал — это на всю ночь, береги, блокада… Выпалю их сейчас, а что буду делать, если немцы полезут?
— Да ты хоть один пульни, никто не узнает, — не унимался Петр Холодный.
Федя посмотрел на товарища долгим взглядом, без слов говорившим: «Ох, Петька, опять ты подведешь меня со своими подначками!» Однако соблазнился предложением, прицелился и выстрелил. Куда попал — разобраться не успели. С вражеской стороны со свистом прилетела мина и угодила в небольшое перекрытие над траншеей рядом с солдатами. Перекрытие рухнуло, посыпалась земля. Холодный упал. Федя кинулся к нему.
— Ты живой?
Послышалось сопение, потом неторопливое:
— Кажется, живой… и даже не ранен…
Прибежал командир роты, находившийся поблизости.
— Что случилось?
Рассказали.
— Ничего, хлопцы, это случайность. Не так уж метко бьют фрицы. Скоро заставим их замолчать. А пока продолжайте наблюдать, да повнимательнее, — приказал он.
Когда командир ушел, Федя посмотрел на товарища, измазанного глиной, и рассмеялся.
— Ну як, Петрусь, може ще стрельнуть? Эх ты, герой. Собери горох, а то без сухого пайка останешься. Посмотри, по всей траншее рассыпал.
Так прошла первая ночь молодых солдат на переднем крае…
И снова опустилось солнце. Как и в прошлую ночь, было тихо, тревожно. То с одной, то с другой стороны раздавались короткие пулеметные очереди, одиночные выстрелы. Время от времени перед вражеской обороной взлетали ракеты, ярко освещая местность. Когда они гасли, сумерки казались еще гуще.
Дьяченко ни на секунду не смыкал глаз, до боли в висках вглядывался в темноту, прислушивался. Раскинувшаяся перед ним местность хранила тишину. Но что это? Кто-то пробежал вдоль канавы, вон там, далеко, у кустов.
Сердце сильно застучало. Стараясь быть спокойным, Федя приложился к винтовке и, как только фигура показалась в поле оптического прицела, выстрелил. Перезарядив тотчас винтовку, снова прицелился и отчетливо увидел после выстрела, как взметнула руками, падая, вторая фигура, перебегавшая по канаве.
Утром весь полк узнал новость: молодой снайпер Дьяченко открыл боевой счет мести врагу,
— Хорошо начал, — сказал Феде командир полка майор Попов, встретив его на следующий день в траншее.
Солдаты обступили командира тесным кружком.
— До вашего прихода служил в нашем полку Гриша Симанчук. Чудо снайпер: что ни выстрел — фашистом меньше, — рассказывал майор. — Лечится он сейчас, ранен тяжело. Теперь вот Дьяченко открыл боевой счет. Давайте поддержим его. Создадим такую команду истребителей, чтобы гитлеровцы боялись не только ходить, а даже ползать по переднему краю.
— Зачисляйте меня в эту команду, — первым откликнулся Николай Кочубей.
— Меня тоже, — попросил Николай Казаков.
— А что же мне делать? — спросил Иван Денисенко. — По должности я парикмахер…
— Фашистов брить, — засмеялись солдаты.
— Правильно, — поддержал их командир. — Брить меткой снайперской пулей, да почище, с корнем, чтобы ни одного оккупанта не осталось на нашей советской земле.
— А ты, Федя, бери товарищей с собой на «охоту», учи их, — уходя, посоветовал майор.
«Учи… А сам-то я умею? Может быть, первая удача только случайность?» — с такими мыслями Дьяченко вылез на следующее утро из небольшого углубления в стене траншеи, заменявшего ему землянку. Не терпелось увеличить боевой счет и хорошенько проверить себя.
И вот он на заранее облюбованном месте.
Всходило солнце. Быстро рассеивался низко стелившийся туман. «Ничейная» земля и позиция, занятая врагом, предстали перед Федей ярко освещенными. И тут же он увидел коренастого фашиста, неторопливо шагавшего в тыл.
Дьяченко прицелился. Одинокий выстрел нарушил утреннюю тишину раскатистым эхом. Но что это? Фашист продолжал шагать так же самоуверенно и, как показалось Феде, даже насвистывая. Неужели промах? Снова выстрел! Гитлеровец остановился, осмотрелся, потом не спеша спрыгнул в ход сообщения и был таков.
Федя с досадой и недоумением смотрел то на вражескую оборону, то на свою винтовку.
— Кустики видишь, там вон, вдалеке? — услышал он вдруг голос за спиной. Оглянулся и встретил смеющийся взгляд старшего лейтенанта Никифорова, нового командира роты.
— А что там? — неуверенно спросил Дьяченко.
— Ничего. Утренний холодочек. Туда и полетели твои пули… досыпать. Время-то раннее…
Федя стоял перед командиром смущенный. А тот допытывался:
— С каким прицелом стрелял? Куда целился? Ну, конечно, при таких ошибках только в белый свет и палить…
Долго беседовал Никифоров с молодым снайпером. Целую лекцию прочитал о тонкостях снайперского искусства. Рассказал о мастерах меткой стрельбы, известных всему фронту:
— Вот Пчелинцев, действующий левее нас на берегу Невы. Слышал о нем? Ему приходится вести огонь через реку на большую дальность. И всякий раз он учитывает силу и направление ветра, температуру и влажность воздуха, вносит соответствующие поправки в прицел.
Федя недоверчиво посмотрел на Никифорова.
— А фашист ждет, как перед фотоаппаратом, пока его «снимут»?
— Нет, конечно. Но снайпер потому и зовется снайпером, что мгновенно и мастерски вносит необходимые поправки и стреляет только наверняка.
И опять учился солдат. Многое он узнал, занимаясь тут же, на передовой, в школе снайперов. Больше всего пользы принесли ему, безусловно, ежедневные боевые вылазки. Оттачивался глазомер, крепла рука, накапливался опыт.
ТРОПОЮ ГНЕВА
7 октября 1942 года армейская газета писала:
«Первого гитлеровца Федор Дьяченко убил 16 дней тому назад. Сегодня на его истребительном счету — 43 уничтоженных бандита».
Сразил, истребил, уничтожил… На деле все это было гораздо сложнее, чем в короткой газетной информации. Однажды слякотным осенним утром Дьяченко вышел на «охоту» с Николаем Кочубеем. Над землей стелился туман. Видимость никудышная. Что делать?
— Нужно пробираться поближе к расположению врага, — сказал Федя своему ученику. — В такую погоду гитлеровцы предпочитают отсиживаться в тепле. Но нет-нет да и выскочат на свежий воздух по какой-нибудь надобности.
Его предположения оправдались. Из землянки вышли двое. Один в нижней рубашке и подтяжках, другой с полотенцем и ковшом воды.
— Который из них поважнее? — спросил Дьяченко Кочубея.
— Тот, что в подтяжках. Видать, офицер.
— Точно. Его надо снять непременно. Но и второго не следует упускать. Бери на прицел денщика, но не стреляй, пока не скажу.
Ничего не подозревавшие оккупанты под покровом тумана с наслаждением освежались холодной водой. Наблюдая за ними через оптический прицел, Федя Дьяченко язвительно комментировал:
— Ну вот, наконец их благородие намылил свою поганую рожу. Теперь он ни биса не баче. Давай, Мыкола, снимай офицерского холуя.
Грянул выстрел.
— Добре стреляешь, хлопче, — похвалил Федя. — Посмотри, денщик протянул уже ноги, а намыленный офицер пока ничего не понял, все еще тянет руки, подливай, мол. Значит, тактику мы с тобой, Мыкола, выбрали правильную. Сейчас я умою этого гада.
Меткая Федина пуля и на этот раз не пролетела мимо.
Не всегда, конечно, фашисты вот так, сами «напрашивались на пулю». Обычно поиск снайпера связан с многими трудностями и большой опасностью. Федор Трофимович и по сей день помнит, как он и Николай Казаков подстерегали фашистов, восстанавливавших дот… Одна из огневых точек врага оказалась очень живучей. Артиллеристы не раз разрушали ее, но гитлеровцы снова восстанавливали. После очередного артобстрела, разрушившего вражеский дот, командир полка вызвал Дьяченко и Казакова.
— Вот что, орлы, — сказал он. — Фашисты опять попытаются восстановить дот. Допустить этого нельзя.
Ночью Дьяченко и Казаков выбрались на «ничейную» землю, оборудовали и тщательно замаскировали огневую позицию и замерли, не выдавая себя ни единым шорохом.
Прошла ночь. В стане врага — тихо, никаких признаков, что дот восстанавливается. Не принесло перемен и утро. На подходах к доту — ни души. Нервы Николая Казакова начали сдавать. Охватило беспокойство и Федю, но он держался и шепотом успокаивал товарища:
— Терпи. Не может быть, чтобы не появились.
Прошел еще час или больше, и вдруг снайперы увидели… движущееся бревно, Тех, кто нес его, не видно. Казаков припал к прицелу.
— Не спеши, Мыкода, — прошептал Дьяченко. — Возле дота траншея непременно должна быть подразрушена нашими минами. Видишь, там бруствер обвалился. Как только они дойдут до этого места, покажутся над траншеей, так и ударим.
— Хорошо, — так же тихо отвечает Казаков.
— А которого первым нужно снять? — не унимался Дьяченко, словно находился на занятиях в школе снайперов.
— По-моему, переднего.
— Голова… Задний сразу же поймет, в чем дело, и нырнет в траншею. Нужно его сначала…
Грянул выстрел Казакова. Гитлеровец, шедший последним, рухнул. Второй подумал, что его напарник споткнулся, стал неистово ругаться. Федина пуля заставила и его замолчать.
И опять стрелки лежат тихо-тихо, будто их и нет совсем. Часа через четыре у дота появился вражеский офицер. Меткая пуля настигла его там же, где валялось бревно и два незадачливых носильщика.
Помнится Федору Трофимовичу и поединок с фашистским снайпером. Пришел как-то к нему командир соседней роты, просит:
— Помоги, Дьяченко. Появился на нашем участке вражеский снайпер. Видать, опытный, хитрющий. Траншея у нас в одном месте неглубокая — вода выступает. Так он проходу не дает, а выследить его не можем. Солдаты думают, что сидит снайпер в бронированном колпаке и пулей его не возьмешь.
Весь день Дьяченко просидел в доте, из которого хорошо просматривалась вражеская оборона. Убедился — снайпер действительно опытный. Всего дважды выстрелил за день, но ничем себя не выдал. Ночью Федор выполз на нейтральную полосу, расположился в глубокой воронке. До самого утра лежал не шелохнувшись. Фашист молчал. Пригрело солнце, и тут Федя почувствовал, что медленно погружается в холодную воду. Осмотрелся — воронка-то покрыта льдом! Ночью этого не заметил. Теперь лед подтаял, прогнулся под тяжестью тела, оказавшегося в воде до пояса. Ноги судорога сводит, поясница разламывается, зубы пулеметную дробь выбивают, а выбраться из ледяной ванны до ночи немыслимо — вражеский снайпер не даст. Попал, как кур в ощип.
Выручила советского снайпера небольшая хитрость. Он выдвинул на край воронки ком земли. В него сразу же шлепнулась вражеская пуля. Этого было достаточно. Дьяченко заметил вражеского снайпера, замаскировавшегося в окопе, вынесенном за траншею.
Позже Федор даже самому себе не мог ответить, как определил расстояние, когда и какой установил прицел, какие внес поправки. Все это было сделано мгновенно, автоматически. В память врезался лишь один момент, замеченный через оптический прицел: фашист прикладывается глазом к окуляру, потом чуть-чуть приподнимается, будто для того, чтобы получше разглядеть цель. В эту самую секунду Федина пуля и сразила гитлеровца.
Обозленные фашисты обрушили шквал огня на нейтральную полосу. Плохо бы пришлось снайперу, если бы не выручил командир роты старший лейтенант Никифоров. Он имитировал атаку и отвлек на себя внимание гитлеровцев. Федя благополучно выскользнул из ледяной и огненной купели.
Приближалась двадцать пятая годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Незадолго перед праздником начальник политотдела дивизии вручил снайперу Федору Дьяченко кандидатскую карточку. Пожимая руку солдата, он сказал:
— Сегодня в вашей жизни подводится черта. Как бы хорошо вы ни воевали до этого дня, завтра с вас спрос особый. Вы теперь коммунист, Федор Трофимович.
В канун нового, 1943 года к Феде пришла еще одна большая радость. 26 декабря он узнал из газет, что награжден орденом Красной Звезды. А через день член Военного Совета фронта укрепил награду на его груди. В торжественную минуту рядом с Федей были его друзья и ученики — Кочубей, Казаков, Киселев, Рустамбеков. Они сердечно поздравили своего учителя, хозяина «зрячих пуль». Это почетное прозвище Дьяченко заслужил вполне. Идя тропой гнева, солдат-снайпер уничтожил уже свыше ста оккупантов.
В те дни Федя получил много писем. Добрые новогодние пожелания прислали и ленинградцы, и та самая девушка, что встретилась по дороге на фронт, и пожилая женщина Ольга Васильевна Ильина из Челябинской области. О герое-спайпере она узнала из газет и переписывалась с Дьяченко.
«Здравствуй, дорогой сыпок Федор Трофимович! — писала Ольга Васильевна. — Поздравляю тебя и всех бойцов с Новым годом и желаю скорой победы. Может быть, ты и не позволишь называть тебя сынком, но я думаю, что не рассердишься. Ты пишешь, что мстишь за моих двух сыновей и за дочку. Я плачу о своих детях день и ночь. Осталась я на старости лет одна… Если бы ты был здесь, я бы тебя расцеловала за твои хорошие дела. Не щади двуногих зверей, очищай землю пашу русскую от гитлеровской погани! Мсти за страдания советских людей!»
Много еще жестоких поединков с врагом выдержал Дьяченко, и почти каждый из них мог оказаться для него последним. Так было под Петруловом, когда гитлеровцы сутки не выпускали его из развалин дома, держали под непрерывным снайперским, пулеметным и артиллерийским огнем. Они прострелили шапку на Фединой голове, в нескольких местах продырявили воротник его полушубка. Так было под Ям-Ижорой. Так было под Урицком…
В смертельные переделки попадали и Федины друзья, ученики. Не все они дожили до радостной победы. Смертью храбрых пали Вячеслав Голубев, Иван Денисенко. Петр Григорьев, Терентий Буржанов, Петр Лабутин…
Тяжело, очень тяжело переживал Федя гибель боевых товарищей. Не было таких слов, которыми он мог бы выразить свои чувства. Только суровые, глубоко провалившиеся глаза и темно-землистое лицо говорили, какой горячей раной кровоточило его сердце.
Но вот настало время, когда Федя, видевший фашистов лишь через оптический прицел и уничтожавший их издалека, теперь сошелся с ненавистным врагом лицом к лицу.
Рота ворвалась в расположение врага на рассвете. Гитлеровцы метались по траншее, ходам сообщения, бешено сопротивлялись. Федя бил их в упор из винтовки, прикладом, гранатами. На какую-то долю секунды он замешкался, передавая раненому пакет бинта, обернулся и увидел прямо перед собой высокого толстого гитлеровца. Рядом с невысоким, щупленьким Федей Дьяченко немец казался великаном.
Несколько мгновений они стояли неподвижно. Затем фашист сделал руками короткое движение назад, готовясь сразить советского солдата штыком. Федя тотчас ударил врага. Ударил с такой силой, что снайперская винтовка, не вооруженная штыком, вошла в живот до самого оптического прицела. Гитлеровец дико взревел. Федя схватился за приклад винтовки, хотел ее выдернуть, но не успел. Обезумевший немец вонзил ему в правую половину груди широкое лезвие штыка.
Рядом их и нашли наши солдаты. Матерый фашист был мертв. Федя лежал тяжелораненый, без сознания.
Из госпиталя Федя вернулся окрепшим и, как всегда, жизнерадостным. Его избрали комсоргом батальона. В первые же выходы на «охоту» он увеличил свои боевой счет мести гитлеровским захватчикам.
Поздней осенью 1943 года полк, в котором служил Дьяченко, вывели с передовой на южную окраину Ленинграда. Здесь подразделения переформировывались, пополнялись молодыми солдатами, занимались. Шла подготовка к большому наступлению.
НЕВЕРОЯТНЫЙ СЛУЧАЙ
И вот этот час пришел. Самой приятной музыкой, какую только доводилось слышать когда-либо, зазвучала для Феди и его боевых товарищей артиллерийская канонада январским утром 1944 года. Несмолкаемо звучал победный клич: «Ура-а-а!» Стреляя на ходу, прыгая через траншеи, ходы сообщения, солдаты цепью бежали все дальше и дальше вперед. Одни из них падали, раскинув руки, прильнув лицом к родной земле, словно прислушивались, как она гудит от топота атакующих, и так оставались неподвижными навсегда. Другие занимали их место в боевом строю, продолжая стремительное наступление.
Плечом к плечу с другими бойцами батальона шел в решительный бой и Федя Дьяченко: бежал, стрелял, вкладывая всю силу своего певучего голоса в победное: «Ура!»
В бою за Красное Село Дьяченко был тяжело ранен в ногу. И снова госпиталь. Все кругом белое, чистое, светлое. А настроение скверное. Нога, распухшая, ставшая толстой и тяжелой, как бревно, нестерпимо болит. Но главное не это. Главное то, что сказал врач:
— Поймите же, молодой человек, ампутация — единственный выход. Вы еще молоды, вам нужно жить и сделать в жизни много хорошего. Не рискуйте же из- за ноги. Все, что мы могли сделать, мы сделали…
Все… Может быть, и все, однако согласиться Федя не может. Не может!
Принесли обед. Фронтовые сто граммов. Спирт.
— Не разводите водой, — просит Федя сестру. — Я сам. Потом…
Обед уносят нетронутым. Спирт остается. После обеда соседи по палате спят. Федя садится на койке. Медленно разбинтовывает ногу. Снят бинт, вата. Чувствуется терпкий запах лекарства и гниющего тела. Нога темно-синяя, с фиолетовым отливом. Из ран сочится желтоватый гной с кровью. Их две. В одну осколок вошел, в другую вышел. Но весь ли вышел? Кажется, в ноге что-то осталось, какая-то часть осколка.
Взгляд падает на металлическую машинку для начинки табаком папиросных гильз. Она лежит на тумбочке в коробочке. Федя берет ее в руки. Крутит в руках. А что, если… Оглянулся кругом — соседи спят. Сестра вышла.
Оторвал кусок бинта, с середины, который почище. Окунул в спирт. Протер металлическую машинку для начинки папирос. Ногу положил на табуретку. Так удобнее. Секунду поколебавшись, приложил металлический стержень к ране торчком. Легонько нажал. Больно, но ничего. Терпеть можно. Нажал посильнее, еще сильнее. Стержень стал в ране вертикально. Стиснув зубы, нажал на него со всей силой и, вскрикнув, выдернул стержень обратно.
Словно электрический ток огромного напряжения ударил по всему телу. Лоб, спина, руки покрылись испариной. Из раны фонтаном брызнула сукровица, перемешанная с гноем. На пол гулко упал осколок мины.
— Безумец! Что ты наделал! — бросился к нему проснувшийся сосед.
Прибежала сестра и в ужасе закрыла лицо руками.
— Безобразие! Куда вы смотрите! — набросился на нее высокий худощавый хирург, входя в палату. — Больного в операционную, на стол, немедленно!
Федя плохо слышал все это. Еще меньше понимал. Перед глазами плыли какие-то круги — красные, синие, фиолетовые… Его унесли. Раненые бойцы, населявшие палату, удивленно переглядывались.
— Ох и парень… Ох и отчаянная же голова…
На операционном столе Федя очнулся. Молча выдержал взгляд хирурга и тихо, но твердо сказал:
— Доктор, что бы со мной ни случилось, ногу не трогать.
На второй день во время перевязки врач осмотрел Федю и дружески стиснул его похудевшую руку.
— Невероятный случай. Опухоль спала. Да, вы родились, видно, под счастливой звездой. Все могло быть не только хуже, а совершенно трагично. Но теперь будете с ногой!
Наступил канун двадцать шестой годовщины Советской Армии. Стоял солнечный зимний день. Федя, отпущенный старшей сестрой на прогулку по городу, неторопливо ковылял по Невскому. Из репродукторов лилась приятная мелодия знакомой песни. Ленинградцы, безгранично радуясь тому, что кончились блокадные мучения, приветливо улыбались раненому воину.
Пора было возвращаться. Едва Федя переступил порог госпиталя, как попал в крепкие объятия врачей, сестер, товарищей. Его поздравляли, пожимали ему руки, а он, до крайности смущенный таким вниманием, удивленно смотрел на окружающих, совершенно не понимая, что произошло.
Ему сказали. Не верилось, но сердце застучало часто-часто. Потом он сам услышал по радио, прочитал в газетах. Партия и правительство высоко оценили его самоотверженный ратный труд. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство снайперу старшему сержанту Федору Трофимовичу Дьяченко 21 февраля 1944 года было присвоено звание Героя Советского Союза.
* * *
Уже много часов сидим мы в новой квартире Федора Трофимовича, вспоминая суровые годы минувшей войны. С нескрываемым интересом присматриваюсь к этому необыкновенному человеку, хотя внешне он самый обыкновенный. Невысокого роста, не слишком широк в плечах. Когда-то, видно, густые светлые волосы уже поредели. Виски посеребрила седина. Высокий лоб пересекли заметные складки. А голубые глаза, столько раз отважно смотревшие смерти в лицо, по-прежнему молоды, с юношеской искринкой.
О своей жизни после войны Федор Трофимович рассказывает скупо:
— До прошлой осени служил в армии. Сейчас — капитан запаса. Работаю на Кировском заводе.
Федор Трофимович долго смотрит куда-то задумчивым взглядом, потом подходит к окну, раздвигает занавеси и приглашает меня взглянуть. Перед нами большое заснеженное поле, уже потемневшее под лучами весеннего солнца. Слева два экскаватора роют котлован для нового жилого дома. Неподалеку впереди поле пересекает железнодорожная насыпь.
— Сразу же за насыпью, — поясняет Федор Трофимович, — проходил передний край нашей обороны. Батальон, в котором я служил, стоял на этом участке и отсюда перешел в наступление. Там еще сохранились дот и следы моего окопа. Как-то зимой я ходил туда со своими дочками, показывал им, где воевал за Ленинград. А с этого места, где сейчас стоит наш дом, не раз подносил боеприпасы к передовой…
Улыбнувшись, Федор Трофимович заключил свой рассказ словами, очевидно, еще с фронта ставшими его поговоркой:
— Вот обстановка какая…
«Обстановка» сложилась действительно интересная и весьма символичная. Герой обороны Ленинграда поселился на Оборонной улице города, в доме, выстроенном рядом с его окопом времен Великой Отечественной войны.
Г. Кривич В ОСАЖДЕННОМ ТАНКЕ
Два часа идет сражение. Советские пехотинцы упорно рвутся вперед, Поддерживая их атаку, танк, где командиром орудия Яков Казак, наносит по врагу один удар за другим. Осталось преодолеть еще двести метров — и танкисты прорвутся в тыл противника. Вдруг стальная крепость вздрогнула и остановилась.
Мина? Нет, взрыва не слышно. Отчего же тогда оборвались гусеницы?
Через несколько минут экипаж танка выяснил причину: напоролись на… танкетку. Ночью и утром шел сильный снег. Все кругом замело. Снег прикрыл и подбитую танкетку, попавшую и воронку.
Танк застыл на месте бортом к позициям противника. Он представлял собой отличную мишень. Фашисты сразу же этим воспользовались и открыли огонь.
Началась артиллерийская дуэль. В результате прямого попадания были ранены механик водитель Белов и политрук Чернов.
Когда стемнело, командир танка сказал Казаку:
— Ну, теперь пора. Приказываю вместе с ранеными выбраться из машины и доставить их на командный пункт. Идите осторожно, чтобы на мины не напороться. Да вот еще что, наденьте на себя шинели, черные куртки на снегу очень заметны.
Маскировка, однако, не помогла. Как только три танкиста ступили на землю, их обстреляли немецкие автоматчики. Ударила и пушка. Снаряд разорвался неподалеку от Якова Казака. Воздушная волна сбросила его в воронку, наполненную снегом и талой водой. Шинель намокла, стала тяжелой. Пришлось ее снять и бросить.
Доставив раненых в медсанбат, Казак пришел к взводному командиру. Лейтенант Буланда, выслушав донесение, приказал Якову прежде всего хорошо поесть и отдохнуть.
— Но до наступления утра вам нужно вернуться в свой танк, — сказал лейтенант. — Теперь задача вашего экипажа — вести наблюдение за противником. Ведь от вас до фрицев — рукой подать. Будете корректировать огонь артиллеристов. Каменный домик, месторасположение которого вы показали на карте, станет основным ориентиром.
На командном пункте Казак не задержался. Задолго до рассвета он добрался до своей машины. Открыл люк, влез в танк и остолбенел: внутри — ни одной души. По радио сообщил о случившемся командиру. Позже выяснилось, что танкисты вышли из машины и подорвались на минах.
Утром группа пехотинцев по-пластунски добралась до танка. Из-за машины они обстреливали гитлеровцев. Фашисты отвечали. Но броня «КВ» была неуязвимой. Невредимым оставался и танкист Яков Казак.
Вскоре ударили наши пушки. Казак корректировал:
— Снаряды разорвались в ста метрах от известного вам ориентира, накрыли минометный расчет. Дайте огонька левее, там скопилась пехота.
Весь день на виду у противника работал корректировщик. И ночью следил за тем, что происходило на переднем крае. Ночь была холодная, коченели руки и ноги. Казак нашел ветошь, смоченную топливной смесью, поджег ее, стал обогреваться. Но дым быстро заполнил весь танк, трудно стало дышать.
Более трех суток, с 26 по 29 января 1943 года, находился старшина Казак на необычном боевом посту. В ночь на 30 января по приказу комбата он незаметно вышел из неподвижной машины, погрузил на санитарные саночки танковые пулеметы, радиостанцию, орудийный замок и вернулся в свое подразделение.
И опять бои, большие и малые.
Жаркой была схватка за Красный Бор. Каждый метр родной земли, захваченный врагом, советские воины возвращали дорогой ценой. Противник был выбит из всех домов, за исключением школьного здания. Засевшие в нем гитлеровцы отчаянно сопротивлялись. Прекратив огонь, советские воины крикнули:
— Сдавайтесь!
В окне появился белый флаг.
— Вот так бы давно, — заметил один из пехотинцев и пошел к школе. Вдруг раздался выстрел. Солдат упал. Танкисты выпустили по врагу еще несколько снарядов. В окне — снова белый флаг.

Экипаж танка. В центре Яков Казак.
— Ну теперь-то уж обойдется без вероломства?
Но нет! Подпустив наших солдат поближе, гитлеровцы открыли по ним винтовочный огонь. И снова жертвы.
Когда враг не сдается, его уничтожают. Пятьдесят снарядов выпустил экипаж Якова Казака по гитлеровцам. Это была справедливая кара. Оставшиеся в живых восемьдесят вражеских солдат сдались в плен. Советские воины удивились, когда увидели их — перед ними с поднятыми руками стояли испанцы из «Голубой дивизии». Впереди — немецкий офицер. Это он, командуя испанцами, дважды с провокационной целью приказал выбросить белый флаг.
Об исключительной смелости и военном мастерстве Казака часто писали газеты. В одной из них читаем:
«Это было в бою за населенный пункт Н. Наш тяжелый танк проник глубоко во вражескую оборону. За орудием в машине стоял старшина Яков Казак. В этом бою он уничтожил две немецких противотанковых пушки, тяжелую трехорудийную батарею, которая в продолжение многих месяцев обстреливала пригород Ленинграда. В ходе боя Казак несколько раз выскакивал из танка, шел по улицам поселка в разведку, а затем возвращался и бил без промаха по засеченным целям».
Вскоре вся страна узнала о новом подвиге Якова Казака. «92 часа во вражеском окружении» — так называлось сообщение ТАСС, облетевшее весь мир.
С тех пор прошло более двадцати лет. Но Яков Иванович хорошо помнит детали этого исключительного боя. Он рассказывает:
«Наш «КВ» перевалил через железнодорожную насыпь, и перед нами открылись опорные пункты противника: дзот, блиндажи, траншеи, батареи. Фашисты, увидев танк, обстреляли его из крупнокалиберного орудия. Но снаряды не причинили нам вреда. Вдруг под машиной раздался сильный взрыв. Танк стал. Батарея противника дала еще залп. Мы ответили несколькими выстрелами. Затем наступило затишье.
Осмотр показал, что лопнули гусеницы. Радист Минаев связался с командиром. Командир ответил: «Продержитесь до ночи».
Однако ночью помощь не пришла. А гитлеровцы четыре раза бросались в атаку. Уж очень хотелось им захватить советский танк. Весь следующий день мы вели по противнику редкий огонь — экономили боеприпасы.
Наступила вторая ночь. Лунная, светлая! Мы отчетливо различаем фигуры немцев — они подбираются к нам. Заряжающий Болотин стреляет по ним из лобового пулемета, а я снял тыловой пулемет, чуть приподнял люк и почти в открытую веду огонь. И опять дождались утра. Гитлеровцы по-прежнему наседают. Силы их увеличились.
В эти критические минуты на помощь пришли наши артиллеристы: они открыли сильный огонь, и вражеская атака захлебнулась.
Послышался гул самолетов. В небе появились два «юнкерса». На нас полетели бомбы. У танка начисто отбиты гусеницы и каток. Машина основательно села на днище. Для нас остался лишь один выход — через верхний люк.
Наступила третья ночь. Атаки следуют одна за другой. И снова враг не добился успеха. Утром следующего дня у нас иссякли боеприпасы. По радио об этом я сообщил командиру, получил ответ: «Поможем». — «Но как это ему удастся? — размышлял я. — И когда? Ведь снаряды нам нужны сейчас, немедленно…» И фашисты, увидев, что мы не отвечаем на их огонь, осмелели, начали готовиться к новой атаке. В это время до слуха донесся шум авиационного мотора: самолет. Это был наш самолет! Он сделал круг над танком и улетел. Но вот появился новый самолет, теперь уже — «ПО-2». С него на парашютах летчики сбросили нам два ящика. В них — снаряды. Это здорово! Но как мы их втащим в танк? Придется ждать наступления ночи.
Командир сообщает по радио: «К вам вышли два танка». Вскоре они показались вдали. Противник насторожился: огня не открывает, выжидает. Еще минута, и заговорили пушки наших товарищей. Воспользовавшись тем, что внимание гитлеровцев отвлечено, мы выходим из своего танка и перетаскиваем снаряды.
По радио новый приказ нашего командира: «Всему экипажу — лечь спать». Мы недоумеваем. Запрашиваю: «Почему лечь спать?» Командир подтверждает: «Да, да, приказываю вам ложиться. Танки будут вас охранять два часа».
Мы не заставили себя упрашивать, легли спать. Два часа прошли как одно мгновение. Танки наши развернулись и ушли. Мы же остались удерживать захваченный рубеж, находясь в 130 метрах от переднего края противника.
Утром машина наша снова подверглась жесточайшему обстрелу. Все, кроме радиста Минаева, были ранены. А тут еще загорелся топливный бак, вмещающий сотни килограммов горючего. Потушить пожар невозможно. Взрыв неминуем. Едкий дым заполнил всю машину. Пришлось открыть люк. Связываюсь по радио с командиром: «Что делать?» Отвечает: «Действуйте по своему усмотрению!»
Под прикрытием дыма покидаем нашу стальную крепость Продвигаемся медленно. Гитлеровцы преследуют нас автоматным и пулеметным огнем. А нужно поскорее уходить: внутри нашей машины уже бушует огонь… Взрыв! Над танком — высокий столб дыма, пламя…»
И еще год танкист Яков Казак сражался на различных участках Ленинградского фронта. К одном из боев он подбил немецкий тяжелый танк «Королевский тигр». Эту машину позже ленинградцы видели в музее.
15 января 1944 года в тот момент, когда танк Якова Казака преодолевал противотанковый ров у Пулковских высот, старшина-танкист был тяжело ранен. Случилось так, что только через тридцать часов раненого смогли доставить в Ленинград.
— Положение почти безнадежное, — таков был приговор врачей.
В госпиталь приехал генерал Панчин. Вместе с врачами обходил палаты раненых.
— Казак? Ранен? — генерал хорошо знал знаменитого танкиста. — Как состояние?
Все молчали.
— Надо сделать все возможное, сейчас же на операционный стол!
И на этот раз смерть отступила от бесстрашного человека!
Ровно через три месяца после ранения Казак выписался из госпиталя. Правда, воевать ему больше уже не довелось. Когда советские воины входили в Берлин, у Якова Ивановича уже был почти годовой стаж работы на Ленинградском прядильно-ниточном комбинате имени Сергея Мироновича Кирова.
Здесь герой-фронтовик трудится и сейчас.
П. Шелест ТАЙНА НОЧНОГО ВЗРЫВА
ПИСЬМО-ЗАВЕЩАНИЕ
За дверью землянки шумела метелью январская ночь. В печурке потрескивали дрова. На ящике из-под снарядов сидел капитан Масловский, начальник штаба отдельного лыжного батальона 23-й гвардейской стрелковой дивизии, сражавшейся на дальних подступах к Ленинграду. Накинув на плечи шинель, он писал, доверяя бумаге последние, но давно выношенные, сокровенные мысли.
«Ну вот, мой милый сын, мы больше не увидимся. Час назад я получил задание командира дивизии, выполняя которое, живым не вернусь. Этого ты, мой малыш не пугайся и не унывай. Гордись такой гордостью, с какой идет твой папа на смерть: не каждому дано умереть за Родину».
Капитан отодвинул на краешек стола планшет, прислушался к голосам метели, бушевавшей за дверью, и снова склонился над столом.
«Славному городу Ленина — колыбели революции — грозит опасность. От выполнения моего задания зависят его дальнейшее благополучие. Ради этого великого благополучия буду выполнять задание до последнего вздоха, до последней капли крови. Отказываться от такого задания я не собирался, наоборот — горю желанием скорее приступить к выполнению. В ожидании машины роюсь в неугомонных мыслях, с молниеносной скоростью задаю сам себе вопросы и тут же даю ответ. Один из первых вопросов будет такой: какие силы помогают мне совершить мужественный поступок? Воинская дисциплина и партийное послушание. Правильно говорят: от дисциплины до геройства — один шаг. Это, сын, запомни раз и навсегда. А пока есть время, надо отвинтить от кителя ордена, поцеловать их по своей гвардейской привычке. Рассказываю тебе обо всем подробно, хочу, чтобы ты знал, кто был твой отец, как и за что отдал жизнь. Вырастешь большим — осмыслишь, будешь дорожить Родиной. Хорошо, очень хорошо дорожить Родиной!»
Снять ордена, бережно уложить их в планшет — дело одной минуты. Что еще?.. Поднялся, сделал несколько шагов по землянке. За дверью настойчиво позвал гудок автомашины. Капитан вернулся к столу, перо быстрее забегало по бумаге:
«У меня есть сын… Я знаю, что там, в глубоком тылу, живет и растет наследник моего духа, сердца, чувства. Я умираю и вижу свое продолжение. Сын, ты в каждом письме просил и ждал моего возвращения домой с фронта. Без обмана: его больше не жди и не огорчайся. При жизни нам, сынок, мало пришлось жить вместе, но я на расстоянии любил тебя и жил только тобой.
…Поля, Юра! Жена, сын! Радость вы моя, жизнь моя! Люблю, люблю до последней капли крови!
Выполняйте мое завещание.
Целую. Искренне любящий Гавриил».
Масловский спрятал исписанные листки в карман гимнастерки, оделся и торопливо вышел из землянки.
Небо было низким и мутным. Ветер усилился, сметая с деревьев пласты снега, взвихривая сугробы, пронизывал насквозь. Масловский глубоко вдохнул морозный воздух и шагнул к машине.
ПО СЛЕДАМ ГЕРОЕВ
…Молча слушали комсомольцы совхоза письмо, отрывки из которого случайно прочитала Кира Шабанова в одном из послевоенных журналов. В комнате комитета комсомола стояла сдержанная тишина.
— В письме говорится про нашу деревню Хлебоедово, — откашлявшись, первой заговорила каким-то изменившимся голосом Кира. — Там, и верно, есть братская могила. А мы и не знали, кто в ней похоронен…
В следующее же воскресенье комсомольцы пришли на то место, где некогда стояла небольшая деревенька. Теперь здесь простирались поля. Среди разросшегося ельника высился холм братской могилы. Старательные руки юношей и девушек привели ее в порядок, украсили цветами.
Поздним вечером дома, управившись с делами и уложив спать детей, Шабанова написала письма по разным адресам — в Министерство обороны, архивы, музеи. Так начались поиски материалов о подвиге капитана Масловского. Многое хотелось узнать: выполняя какое задание, погиб мужественный воин? Кто с ним был рядом? Жив ли сын героя?
Вскоре удалось разыскать адрес матери Гавриила Павловича Пелагеи Федоровны. В далеком сибирском городке Нижнеудинске на одной из тихих улиц в деревянном домике прожила она почти всю свою жизнь. Все оживленнее становилась переписка между Пелагеей Федоровной и комсомольским секретарем. И однажды перо Киры как-то само собой вывело: «Дорогая мама!»
«Дорогая мама!.. Не нужно меня благодарить ни за что, я не только о Вас беспокоюсь, чтя память Гавриила Павловича, просто мое сердце рвется сделать для него что-нибудь. Я ведь тоже мать, хотя и маленьких детей. И чувствую то горе, что Вы перенесли…»
Да, немало выпало тяжелых испытаний на долю простой русской женщины с берегов Уды. Четверых сыновей вырастила Пелагея Федоровна, вдова хлебороба из алтайской деревни Малая Шелковка. Вырастила и благословила на подвиг, отправляя на Великую войну. Никто из Масловских не вернулся домой…
Гавриил, или Гена, как ласково звали его в семье, рос, как все братья, — честным, трудолюбивым. На фронт попал еще в 1939 году во время советско-финской войны. С честью вышел из огненного испытания и стал профессиональным военным.
Подошел год 1941-й. Гавриил Павлович воевал под Ленинградом, а жена его, Полина, военфельдшер, на другом фронте. Пана погибла раньше мужа. Сын Юра воспитывался у тетки, сестры Гавриила Павловича, Полины Павловны, ставшей ему второй матерью, и у бабушки.
Комсомольцы разыскали наградной лист, рассказавший им, как воевал Гавриил Павлович: «26 июля июля 1943 года тов. Масловский, руководя частной операцией по уничтожению гарнизона противника в районе деревни Фатькино, поставленную задачу выполнил с успехом. Гарнизон противника, состоявший из 60–70 гитлеровцев, был полностью уничтожен. Подорвано два дзота и пять жилых землянок… взято в плен четыре солдата, захвачены трофеи… За хорошую подготовку личного состава и умелое руководство боем тов. Масловский представлен к правительственной награде…»
Поиски продолжались. Из боевого донесения штаба 23-й гвардейской дивизии Кира и ее товарищи узнали, что погиб Масловский в районе рощи Круглой, в километре юго-восточнее деревни Прямики. Кто-то из ребят вспомнил, что старожилы рассказывали о большом взрыве, который произошел в этих местах в январе сорок четвертого. Тогда взлетели на воздух гитлеровские склады с бомбами и снарядами. Не был ли этот взрыв делом рук Масловского? Идя на такое задание, заведомо знаешь: живым не вернешься. Дата взрыва и дата гибели капитана совпадали.
Сначала это было лишь предположением. Нужны новые сведения! Как-то прибежал к Кире Шабановой пастух Толя Аксенов, рассказал… Гнал скот из Вещанки в Озерки, видит: в траве ящик из-под мин, а в нем наполовину истлевший обрывок листовки. Разобрал только несколько слов: «…Масловский… подвиг…» И все.

Гавриил Павлович Масловский
Снова десятки запросов. И вот наконец удача: отыскались те, кто отправлялся с Масловским на выполнение последнего боевого задания. Это были Леонид Васильевич Чернецкий, ныне заведующий клубом в Архангельской области, и Николай Анатольевич Сапожников, сержант запаса, механик речного порта в Хабаровске.
ПОДВИГ
Николай Анатольевич Сапожников никогда не забудет той январской ночи сорок четвертого года. Разведка донесла: «В роще Круглая фашисты построили огромный склад, где штабелями сложены бомбы и снаряды. Склад тщательно замаскирован и очень строго охраняется: все подступы к нему заминированы».
Было ясно: уничтожить этот склад — значит, сберечь тысячи жизней ленинградцев. Кому поручить столь ответственную, рискованную операцию?
Выбор пал на капитана Масловского.
Гавриил Павлович сформировал отряд из добровольцев, главным образом из коммунистов. Тщательно разработали операцию, предусмотрев все мелочи. Несколько недель тренировались, ходили на лыжах, изучали дороги.
В ложбинку, до самого верха засыпанную снегом, взрывчатку от штаба доставили на машине. Здесь ее перегрузили в сани.
Капитан Масловский отдал последние распоряжения. Группы, в каждой из которых было по пять бойцов, отправились по указанным маршрутам. В группе Гавриила Павловича, которой предстояло выполнить главную задачу, кроме него, было еще двое — лейтенант Вялков и сержант Сапожников.
Медленно движутся сани, зато легко скользят лыжи по свежему насту. Метель сыплет в лицо сухой, колючий снег. Наконец вдали за гребнистым морем сугробов показался склад.
К складу ползли в глубоком снегу по-пластунски, волоча за собой взрывчатку. Впереди двигался Масловский, за ним — Вялков, замыкающим — Сапожников. Было слышно, как остальные группы вели бой с врагом, отвлекая его внимание.
Саперы уже потрудились: разрезали колючую проволоку в условленном месте, сделали проход в минном поле.
Обогнув разлапистую ель, капитан и его помощники приблизились к складу. Слева и справа все слышнее гремят выстрелы. «Молодцы!» — с удовлетворением думает Масловский об отважно действующих товарищах.
Взрывчатка заложена.
— В укрытие! — приказывает капитан.
Сапожников и Вялков поползли назад. На мгновение обернулись и увидели, как вспыхнула в руках Масловского спичка и загорелся запальный шнур.
Гулко взорвалась тишина январской ночи. Черный султан дыма, прорезанный языками пламени, повис над лесной поляной…
Когда все стихло, Сапожников и Вялков осмотрелись.
— Где капитан?
Не сговариваясь, лейтенант и сержант повернули обратно, поползли к месту взрыва. Нашли они Масловского среди обломков взорванного склада. Гавриил Павлович был еще жив, но потерял сознание. Он лежал навзничь, засыпанный металлическими осколками, с изжелта-бледным лицом и запекшимися в крови губами.
«Наш любимый командир был смертельно ранен в живот осколком снаряда, — рассказывает Сапожников. — Мы несли его на руках. По дороге он скончался. Под бешеным огнем фашистов мы переправились через линию фронта. Похоронили капитана в маленькой деревушке Хлебоедово, находящейся рядом с селом Поддорье!..»
ПО ПРИМЕРУ ОТЦА
Отправляясь на задание, капитан Масловский просил в своем прощальном письме командование:
«Определите сына воспитанником Суворовского военного училища, желательно в Ленинградскую область, — это для того, чтобы он мог посетить Поддорский район, Сокольский сельсовет, потому что в местечке деревни Хлебоедово закончит жизненный путь его отец. Когда начнется мирная жизнь, возродятся колхозы, сын будет первым шефом колхоза деревни Хлебоедово…»
Последняя воля капитана Масловского была исполнена: сына его приняли в Суворовское училище. Юра стал офицером. Сейчас на его кителе сверкают погоны капитана — звание, которое с таким достоинством носил отец.
Два капитана, отец и сын… Представители двух поколений советских людей.
Вот заявление, написанное в перерыве между двумя боями, в августе 1943 года:
«Прошу принять меня в члены партии, так как кандидатский срок у меня истек, и я желаю и готов вступить в члены большевистской партии, в решающих боях с фашистскими захватчиками высокое звание члена партии оправдаю с честью.
Г. Масловский».
Так писал отец, и он оправдал каждое слово жизнью своей и смертью. Преданность идеям партии звучит и в каждой строчке другого заявления, написанного сыном:
«Прошу первичную организацию принять меня в члены ленинской партии коммунистов, так как я желаю быть в первых рядах борцов за построение коммунизма в нашей стране… Обязуюсь выполнять все поручения партии честно и добросовестно.
Ю. Масловский».
Крепко подружились сын героя и молодые труженики совхоза, которому теперь присвоено имя капитана Гавриила Масловского.
«Наш совхоз, — писали они Юрию, — создан на совершенно разоренной земле. Но, несмотря на это, руками рабочих, в том числе молодежи, здесь все восстановлено и очень многое построено заново».
Рассказав о том, каких успехов достиг совхоз, комсомольцы так закончили одно из своих первых писем:
«Дорогой Юрий Гавриилович! Приезжайте к нам, посмотрите, как мы живем. Вместе мы посетим братское кладбище, где похоронен Ваш отец и его боевые товарищи, и еще раз почтим память павших, тех, кто сражался за наше счастье».
Молодой офицер почел за честь принять это приглашение. Все жители совхоза — от мала до велика — собрались на встречу с ним. Теперь он приезжает сюда как свой, близкий человек, как почетный рабочий совхоза, как его «первый шеф», стать которым завещал ему отец.
* * *
Наш «газик» несется, подпрыгивая на колдобинах, по первому молодому снегу. Кира Борисовна Шабанова сидит рядом с водителем, на коленях у нее маленький сынишка, впервые открывающий для себя мир.
Крутой поворот — и вот мы у высокого холма братского кладбища. Две белоствольные березки сторожат вход. Слева высится скульптурная фигура коленопреклоненного солдата, склонившего боевое знамя. Справа застыла в скорбном молчании женщина с лавровым венком в руках. Посредине скромный обелиск с именами капитана Масловского и его однополчан. У подножья мраморная доска с текстом письма-завещания, выбитым золотыми буквами.
Долго стоим в безмолвии, прислушиваясь к тому, как звенит на ветру голыми ветками березка. Молчание нарушает сынишка Шабановой:
— Мама, а кто такой капитан Масловский?
— Это, Сереженька, человек, который жил для нас с тобой и погиб ради нашего счастья.
М. Яковлева ОТВАЖНАЯ МАНШУК
Из далекой Ростовской области в Невель пришло письмо.
«Я участвовал в боях за освобождение Невеля от фашистских захватчиков в 1943 году, — писал гвардии майор запаса Яков Капитонович Рыковский. — Каким стал ваш город сейчас?.. Мне очень важно об этом знать, очень… В Невеле сложили свои головы мои замечательные боевые товарищи и друзья. Многие остались навсегда в его окрестностях… Помните о них!..»
Тихие улицы, веером разбегающиеся от шоссейной магистрали Ленинград — Киев, утопают в зелени. Идешь по ним, любуешься новыми красивыми зданиями и не верится, что когда-то, совсем недавно, здесь кипел бой — жаркий, многодневный. О том, что тут проходил рубеж боевой славы нашего отечества, теперь напоминают лишь названия улиц: Гвардейская, Кронштадтская, имени Петрова, имени Маншук Маметовой…
В центре Невеля взметнулся к синему простору неба строгий обелиск. За невысокой оградой несколько могил с каменными надгробиями. До поздней осени их украшают свежесрезанные цветы, а зимой — венки из зеленых сосновых веток. На камне и мраморе высечены надписи: «Герой Советского Союза гвардии майор В. Я. Петров, 1921 года рождения, погиб в 1943 году в боях за освобождение города Невеля»; «Лейтенант И. Н. Манжурин, 1924 года рождения, геройски погиб в борьбе с немецкими захватчиками 21 октября 1943 года за освобождение города Невеля»; «Герой Советского Союза старший сержант Маншук Маметова, 1922 года рождения, пала смертью храбрых 15 октября 1943 года в боях за освобождение города Невеля».
Маншук Маметова… Девушка с нерусским именем, отдавшая самое дорогое — жизнь за то, чтобы в древнем русском городе люди снова с радостью в сердце трудились, мечтали, любили…
Маншук, девушка с темными восточными глазами и нежной золотистой кожей, любила солнце, которым так щедра ее родина — Казахстан, любила вдыхать аромат стенных трав весной, любила скакать по степи во весь дух на коне, так, чтоб ветер звенел в ушах. Впервые девчонку посадили на коня, когда ей было всего три года. К удивлению взрослых, она не испугалась, только крепко вцепилась в лошадиную гриву, чтобы не упасть.
Старая бабушка, заметив, как внимательно слушает девочка ее рассказы о богатырях, не раз говорила, что Маншук следовало бы родиться мальчишкой.
Но Маншук хорошо чувствовала себя и девчонкой. Когда она подросла, то все стали говорить, что у казака Женсигали красивая дочка. Темные прямые волосы хорошо оттеняли смуглую кожу Маншук и черные выразительные глаза.
Недолго прожили родители Маншук. После их смерти девочка стала жить у тети Амины Маметовой. Добрая, ласковая Амина заменила сироте мать.
Семья Маметовых жила в Алма-Ате, в сказочном городе, воспетом не одним казахским акыном. Как зачарованная, ходила девушка из аула по улицам столицы. Все здесь приводило ее в восторг: и асфальтовая лента тротуаров, и зеленые фруктовые сады, в которых утопает город, и вереницы машин, и цветы прямо на улице, и вершина горы Алатау, к которой прислонился город, и светлые большие дома. В одном из них разместился медицинский институт. Здесь Маншук будет учиться.
Это были счастливые дни. Каждый из них нес с собой что-нибудь новое, неизведанное. Маншук слушала в институте лекции, занималась в лабораториях, в анатомичке. Вечером бегала с подругами в кино. А в день, когда получала стипендию, отправлялась в театр.
Маншук мечтала о будущем, о том, как, закончив институт, впервые войдет она в больничную палату. Сколько добра может принести врач людям, скольким облегчить страдания, сколько спасти жизней!.. Сердце Маншук наполнялось гордостью, — она выбрала самую гуманную и такую нужную людям профессию. И еще мечтала Маншук о любви, о большой, настоящей любви, как, вероятно, мечтают все девушки на земле…
Экзаменационная сессия подходила в институте к концу, когда пришла весть о вероломном нападении немецко-фашистских захватчиков на нашу страну. Некоторое время город продолжал жить по-прежнему, только сводки с фронтов тревожили сердце. Но вот и привычный ритм жизни Алма-Аты начал нарушаться. С запада стали прибывать новые люди, заводское оборудование. Предприятия налаживали выпуск оборонной продукции. Сообщения Совинформбюро с каждым днем становились все тревожнее и тревожнее…
Враг подошел к Ленинграду, подбирается к Москве…
Маншук ждала вызова в райвоенкомат, но ее не вызывали. Как-то раз под вечер девушка шла по улице, занятая собственными мыслями. И вдруг из репродуктора такой родной, такой знакомый голос Джамбула:
Словно ножом полоснули по сердцу слова старого акына. Маншук ускорила шаг. Вот и военкомат. В приемной военкома толпилось много народу. Пришлось подождать. Наконец настала и ее очередь. А когда Маншук снова вышла в приемную, глаза ее сияли: она получила направление в Действующую армию…
В полку, взглянув на невысокую, хрупкую девушку, предложили ей стать медсестрой. Маншук отрицательно покачала головой.
— Нам нужны радистки, телефонистки, писарь. Выбирайте, — сказали ей.
Но девушка снова отказалась.
— Так кем же хотите быть? — устало спросил ее один из командиров с покрасневшими от бессонницы глазами.
— Пулеметчицей, — коротко ответила Маншук.
Командир поднял тяжелые веки и снова взглянул на девушку, на ее тонкие, почти детские руки; затем перевел взгляд на лицо, полное решимости, и спорить не стал: почувствовал, что это бесполезно. «Но почему эта девочка хочет стать пулеметчицей? — думал он. — Десятки женщин выбрали бы что-нибудь полегче. А впрочем, на войне легких профессий не бывает. Всем одинаково трудно».
Маншук облегченно вздохнула. Она знала, что все равно стала бы пулеметчицей, если бы ей и возражали. Но тогда пришлось бы что-то объяснять, доказывать… То, что она увидела по дороге, пока добиралась в свою часть, укрепило ее в давно принятом решении. Она свято верила, что для того, чтобы полной мерой отомстить врагу за сожженные города, за обездоленных людей, надо биться с фашистами лицом к лицу, уничтожать их. А кто это может сделать лучше пулеметчицы? И еще была одна причина, почему Маншук стала именно пулеметчицей. В своих детских мечтах она не раз видела себя Анкой из Чапаевской дивизии.
…Одно желание было у Маншук и ее боевых товарищей — гнать врага с советской земли. И они дождались этой поры. К концу 1943 года советские воины, тесня гитлеровцев, продвинулись к рубежу, который занимали фашистские части из группы «Север», когда-то осаждавшие Ленинград, и немецкие дивизии, действовавшие в Белоруссии. К этому времени на счету у Маншук было много боев. Она в совершенстве владела оружием и десятки раз в упор расстреливала шедших в атаку гитлеровцев. О бесстрашной девушке-пулеметчице знали нс только в полку, где она служила, но и в других частях. Ее воинскую доблесть ставили в пример.
6 октября 1943 года советские танкисты ворвались в Невель. Бросок был настолько неожиданным для фашистов, что они не успели даже снять регулировщика на центральной улице, и тот, ничего не подозревая, некоторое время указывал направление нашим танкам. Гитлеровцы бежали, оставив город.
Через день столица нашей Родины Москва салютовала войскам, освободившим Невель. Это были радостные, незабываемые дни. На улицах Невеля тогда можно было встретить смуглую темноволосую девушку в серой солдатской шинели с нашивками старшего сержанта. Это была Маншук. Не подозревала отважная пулеметчица, что у стен этого города ее ждет подвиг, который откроет ей путь в бессмертие.
Фашисты сумели закрепиться на высотах вблизи Невеля. Снова разгорелись ожесточенные бои. Советские воины стояли насмерть и не отдали город врагу. В завершающем яростном бою за Невель пулеметчица Маншук Маметова выдвинулась вперед со своим пулеметом и кинжальным огнем косила гитлеровцев, поднимавшихся в атаку. После нескольких безуспешных попыток прорваться вперед фашисты залегли.
Вскоре они начали минометный обстрел высоты, где находилась отважная пулеметчица… Маншук почувствовала сильный толчок в голову, и сразу же теплая струя залила ее лицо.
«Ранена… кровь…» — подумала она и на несколько минут потеряла сознание.
Немцы, увидев, что пулемет молчит, снова двинулись по полю. Вражеская цепь приближалась все ближе, ближе… Маншук очнулась и, преодолевая острую боль, в упор стала расстреливать фашистов. Сокрушительным огнем она опрокинула цепь. Враги снова откатились назад.
И опять по бесстрашной пулеметчице немцы открыли минометный огонь. Она сменила позицию. Пулемет ее непрерывно строчил. Яростный огонь его открывал нашим воинам путь к победе… Последнее, что слышала Маншук, это громкое русское «ура!». Бойцы поднялись и пошли в контратаку…
Маметову нашли мертвой, крепко сжимавшей рукоятку пулемета. Это было 15 октября 1943 года.
* * *
Через улицу, почти напротив братского воинского кладбища, возвышается двухэтажное здание. Это средняя школа № 2. Появилась она уже после войны, как и белоколонное здание Дома культуры, что рядом со школой, как десятки новых домов на центральной улице Невеля. Сюда, за невысокую ограду, где вечным сном спят Маншук и ее товарищи по оружию, доносятся школьные звонки, разноголосый шум улицы. Жизнь бурлит, словно горный поток, спускаясь с вершины Алатау. Мимо проносятся машины. Они везут мирный груз — строительные материалы, хлеб, лен. Спешат после смены веселые девчата швейной фабрики, идут рабочие молочноконсервного завода.
Каждое утро мимо строгого обелиска шагают в белую школу ребята. Их пионерская дружина носит имя Маншук. А в пионерской комнате на видном месте висит большой портрет девушки с большими темными глазами, одетой в серую солдатскую шинель. Такой ее запомнили боевые друзья и люди, чьими руками поднят из пепла славный русский город на берегу живописного озера.
Это и твой город, Маншук! Потому что жители Невеля давно считают храбрую казашку своей родной сестрой. Имя Маншук звучит здесь теперь привычно, совсем как русское имя. Его произносят на улицах, в домах, на пионерских сборах… Героиня незримо идет по жизни. На нее, как на правофлангового, равняются люди труда и школьники. Верное, бесстрашное сердце Маншук стало символом любви и самоотверженности.
Е. Зайцев ШТУРМОВАЯ ПОГОДКА
Да, это было здесь. У этого самого капонира на аэродроме мы пережидали налет «юнкерсов». Наглые, с отвратительными черными паучьими крестами на крыльях и фюзеляжах они пикировали на наши самолетные стоянки. Гвардии капитан Федор Павлюченко нещадно чертыхался и яростно грозил кулаками вслед каждому «юнкерсу», когда тот выходил из атаки.
Капитан стоял в полный рост, и вид его был грозен. Просто не верилось, что до войны это был человек что ни на есть самой мирной профессии. Колхозник-хлебороб, потом председатель сельского Совета где-то в Белоруссии. Почти перед самой войной он, «презрев все права и нормы», как сам выражался, уже в солидном возрасте добился приема в авиационное училище. Окончил его как раз вовремя, чтобы с первого же дня Великой Отечественной войны занять свое место в боевом строю советских авиаторов.
На соседней стоянке вспыхнул самолет. К нему побежал механик, на полпути споткнулся, упал, да так и остался лежать. Павлюченко застонал.
— Ну, погоди, сволочь! — крикнул он, грозя опять массивными кулаками в небо.
С фашистами Павлюченко имел и личные счеты. Его жена и маленький ребенок находились в плену у врага, в оккупированной Белоруссии. И мы видели, как часто грусть заволакивала глаза Федора. Говорили, что он тайком продолжал писать им письма и прятал в чемодан.
— Что он делает, что он только делает! — вдруг во весь голос закричал Павлюченко, и отбежал от капонира.
Произошло нечто невообразимое. По летному полю, странно вихляя между воронками от взрывов бомб, на старт выруливал маленький, юркий истребитель. Порой он исчезал за черными фонтанами дыма и земли, и тогда казалось, что его накрыл, растворил в себе взрыв. Но он снова появлялся, словно по волшебству, и продолжал упорно пробиваться к старту.
Чудом спасаясь от пулеметных очередей, сыпавшихся, как град с неба, он рулил на максимальной скорости. Потом остановился, словно для того, чтобы набраться сил, и вдруг с задорным звоном сорвался с места. Вот он уже оторвался от земли и промчался над нашими головами. Мы онемели от неожиданности и восторга. Павлюченко сжал обе руки над головой в братском приветствии, как бы говоря: «Молодец, друг, жму твои руки за храбрость». Уже в следующую минуту истребитель скрылся за хмурой грядой леса. «Ушел», — облегченно вздохнули все, радуясь удаче неизвестного храбреца. Истребительная эскадрилья, в которой он служил, только утром прилетела на аэродром, и имени летчика мы не знали.
— Ну, что тут скажешь! — ликовал Павлюченко. — Бедовая голова. Ушел.
Но, оказывается, истребитель и не думал уходить. Набрав высоту, он снова появился над аэродромом. Как обозленные осы, закружили вокруг него «мессершмитты», прикрывавшие бомбардировщиков. Но храбрец прорвал их кольцо и начал «клевать» бомбовозы. Уклоняясь от пулеметных трасс и пушечного огня, летчик стремительно бросал машину то в одну, то в другую сторону, «крутил» головокружительные фигуры высшего пилотажа. В какой-то неуловимый момент он зашел в хвост одному из «юнкерсов» и тот, распустив шлейф черного дыма, рухнул в лес. Раздался взрыв.
— Все! — удовлетворенно подытожил Павлюченко.
Имени отважное пилота нам узнать, к сожалению, так и не удалось. Эскадрилья истребителей, временно приземлившаяся на аэродроме, сразу же после бомбежки улетела по назначению.
Утро следующего дня выдалось пасмурное, туманное. Погода — явно нелетная. Летчики нетерпеливо поглядывали в небо. И как было не понять их? Все эти дни они готовились к большому бою — до тонкостей изучали линию вражеской обороны, скрупулезно наносили на карты расположение фашистских огневых точек, систему противовоздушной обороны, места авиационных баз врага.
Но вот, наконец, свежий ветер немного разогнал сплошной туман, закрывавший аэродром. И сразу же на командном пункте раздался звонок. Павлюченко не торопясь поднялся и взял трубку.
— Слушает капитан Павлюченко… Так… Так… понятно. Уточните квадрат. Понятно.
Он говорил, внимательно глядя на карту.
— Все ясно, будет выполнено. Товарищи. обратился капитан к летчикам, находившимся в землянке, — пойдемте.
— Наконец-то! — с заблестевшими глазами воскликнул Осадчий.
— Штурмовая погодка! — подхватил Казаков.
— Да, это, видимо, начало широко задуманной и далеко идущей операции на всем фронте, — отвечая на возгласы друзей, сказал Павлюченко. — Словом, поработать придется.
И началась, как шутя говорили летчики, штурмовая погодка…
Девятка тяжелых самолетов штурмовиков, которые мы называли воздушными танками, а немцы — «шварце тодт» — черной смертью, возглавляемая гвардии капитаном Федором Павлюченко, взяла курс на аэродром, где базировалось несколько фашистских эскадрилий. Над целью появились внезапно. Пробившись сквозь сильный заградительный огонь фашистских зениток, «воздушные танки» устремились в атаку. Ни один самолет гитлеровцев не смог подняться в воздух. С высоты в тысячу метров «ИЛы» пикировали до бреющего, буквально «утюжили» стоянки. И едва от цели уходила одна группа, как на смену ей появлялась другая. Черная пелена дыма поднялась над аэродромом, закрывая исковерканные и горящие вражеские машины.
С утра и до позднего вечера гудел в те дни наш аэродром, звенел от напряжения воздух, стонали оглохшие от гула леса. Одни самолеты возвращались с боевого задания, другие поднимались в небо и ложились на боевой курс. Павлюченко был в ударе. Он делал в день по четыре, а то и по пять боевых вылетов. Едва успев передохнуть, он опять направлялся к своему «Ильюшину», на ходу посматривая в раскрытый планшет на карту, испещренную разноцветными кружками и линиями.
Только слегка осунувшееся лицо Федора и покрасневшие глаза выдавали его усталость. Нелегко ему было. Очень нелегко. После каждого полета я старался «перехватить» Павлюченко, расспросить, как идут дела, как «там». Но это было не так просто.
— О чем рассказывать, — обычно говорил Федор. — Дали прикурить. Вот здесь, видишь, — сердито тыкал он толстым пальцем здоровенной ручищи в карту, — видишь, тут была тяжелая дальнобойная батарея, обстреливавшая Ленинград. Пиши, что ее больше уже не существует. Понятно?
Но другие летчики рассказывали о Павлюченко настоящие чудеса. Он всегда был в самом пекле боя. Следя за результатами штурмовок Павлюченко, наблюдатели то и дело докладывали: взорван склад боеприпасов, уничтожено столько-то фашистских самолетов, столько-то зенитных и тяжелых орудий.
Гитлеровцам приходилось туго. Они несли огромные потери. Все меньше их самолетов появлялось в воздухе. А тем временем в окопах, в блиндажах наша пехота в последний раз проверяла свое оружие. Готовили к бою свои орудия артиллеристы, на исходных рубежах заводили моторы танкисты. Весь Ленинградский фронт, как огромная, туго сжатая пружина, готов был в любую секунду разжаться со страшной силой.
В январе 1944 года эта пружина разжалась. И опять с рассветом в направлении главного удара наших войск вылетел Федор Павлюченко со своими друзьями Осадчим, Казаковым и другими отважными штурмовиками. Стояла сплошная облачность, но летчики еще издали заметили вспышки фашистской батареи, которая вела огонь по нашим наступающим войскам. Вышли на цель точно, ударили стремительно. На месте четырехорудийной батареи остались куски искореженного металла и трупы гитлеровцев. Тогда же тяжелую батарею противника уничтожила и группа штурмовиков Григория Мыльникова, ставшего вскоре Героем Советского Союза. Возвратившись из полета, Мыльников ворвался в землянку с горящими от возбуждения глазами.
— Летим мы домой, — скороговоркой выпалил он, — а пехотинцы наши руками машут, шапки вверх бросают, благодарят за помощь.
— Чертовски это приятно — подсобить братьям-пехотинцам, — поддержал боевого соратника своим глуховатьгм баском Павлюченко. — Им-то достается покрепче, чем нам.
И он «подсоблял», да еще как! Однажды его вызвал к себе командир полка Свитенко (тоже боевой летчик, ставший наравне со всеми и, кстати сказать, первым вместе с Павлюченко освоивший ночные полеты на штурмовике) и, хитровато улыбаясь, сказал:
— Вот, читай о своих подвигах.
Подполковник подал Федору телеграмму от одной из пехотных частей.
«Передайте от нас, — писали пехотинцы — спасибо штурмовикам и особенно их ведущему. Здорово они обработали передний край».
В телеграмме указывалось время штурмовки. По нему и найден был адресат.
А как радовались летчики-штурмовики, когда в их боевую семью неожиданно возвращался тот, кого считали погибшим.
Так случилось с любимцем полка — подвижным, никогда не унывающим Георгием Паршиным. Однажды группа возвратилась с боевого задания, а Георгия нет… Посуровели лица его друзей, еще сильнее стала ненависть к врагу.
Прошло несколько дней. О Паршине не было никаких вестей. И вдруг он явился сам! Как всегда — веселый, жизнерадостный. Оказывается, он сумел посадить свою изрешеченную осколками машину на лес. Случайно встретился в тылу с советскими разведчиками. Вместе с ними добыл «языка». И еле вырвался от своих новых друзей, не отпускали.
— Оставайтесь у нас, вы же прирожденный разведчик, — говорили ему пехотинцы.
Паршин получил новый самолет и снова вылетел на задание. Тяжелым трудом, кровью завоевывалась наша победа. Не все возвращались домой. Во время штурмовки большой вражеской автоколонны на выходе из атаки была подбита машина летчика старшего лейтенанта Пантелеева и воздушного стрелка старшего сержанта Сологубова. Герои могли спастись на парашютах. Но в боевом порыве они снова ринулись в атаку, а когда весь боезапас был израсходован, направили горящий штурмовик на скопление гитлеровцев…
Возвращаясь с боевого задания, погиб и Федор Павлюченко. Проводив героя в последний путь, друзья вскрыли его чемодан и прочитали письма к жене. Они читали эти письма и другие записи этого замечательного человека, и глаза их блестели от слез. Какой чистой и нежной души был этот суровый с виду летчик! Как он любил людей, Родину!
* * *
Память сердца — святая память. Я стою на бывшем фронтовом аэродроме, закрыв на мгновение глаза, вижу, как живого, Федора Павлюченко, слышу его взволнованный ликующий голос:
«Что он делает, что он только делает?!.»
А что же, собственно, делал тот неизвестный летчик-истребитель? А то же самое, что каждый день, в каждом бою делал и он, Федор Павлюченко. Рисковал собой ради других, ради жизни и счастья своих соотечественников.
Н. Масолов СЫН ДРЕВНЕГО ОСТРОВА
В старинном русском городе Острове провожали на военную службу призывников. По вечерам на берегах Великой звучали то грустные, то буйно-веселые песни, допоздна тревожили душу певучие баяны.
Расставаясь с сыновьями, матери украдкой смахивали непрошеные слезы, а отцы взволнованно напутствовали:
— Так ты уж, сынок, смотри — служи как надо. Солдатское дело оно такое — честное, верное. Сам испытал…
Сыновьям становилось вдруг как-то неловко: ведь вот сколько лет прожили вместе, а все недосуг было расспросить по-настоящему отцов про бои да походы, в которых довелось им участвовать.
И вспоминали юноши день, когда несмышленышами, прижавшись к отцовской груди, разглядывали они висевшие на ней серебряные кружочки с непонятными тогда словами «За отвагу». Отвечали твердо:
— Не беспокойся, отец. Не подведем!
ОБЕЛИСК У ДОРОГИ
Утром перед отправкой на сборный пункт они не сговариваясь пришли на центральную площадь города. В густых кустах сирени здесь спят вечным сном солдаты Великой Отечественной войны. Постояли молча у невысокого обелиска. С фотографии из-под стекла на них смотрело молодое, очень молодое лицо. Юноша почти мальчик, а на груди четыре боевых ордена!
Молчание нарушил мужчина с седыми висками. Это был их учитель — человек, рассказывавший им в свое время об отваге суворовских солдат и героях Перекопа, о подвиге «Варяга» и мужестве комсомольцев Триполья. Он, как и отцы призывников, в тяжелый для Родины час воевал с фашистами. Только ему выпала судьба ходить дорогами не фронтовыми, а лесными партизанскими.
— Ребята, — учитель назвал собравшихся привычно, по-школьному. — Тот, кто похоронен здесь, всего лишь несколькими месяцами был старше вас. В тысяча девятьсот тридцать девятом году Тарас Рымар учился в школе, а спустя пять лет уже командовал батальоном. Все жители нашего города называют Тараса Степановича сыном древнего Острова. Его имя носят одна из городских улиц у нас и улица в далеком украинском селе Черна, где Тарас родился и вырос.

Тарас Рымар
Дважды видел я Рымара. Двадцать первого июля тысяча девятьсот сорок четвертого года около семи часов утра я и еще несколько товарищей прибыли в деревню Заньково — на командный пункт дивизии, освобождавшей наш город. Нам было поручено принять город от частей Советской Армии. Оказалось, что для этого мы должны встретиться с командиром одного из батальонов — майором Рымаром. Встреча это состоялась только на следующий день.
Накануне был бой за город, упорный, жестокий. Немцы дрались за каждый дом, цеплялись за каждую развалину… Еще дымились пожарища, еще за железнодорожной насыпью раздавались автоматные очереди, когда в Остров приехал командир сто сорок шестой стрелковой дивизии гвардии генерал-майор Карапетян. Поблизости от того места, где мы находимся сейчас, стояли в строю бойцы сильно поредевшего батальона Рымара. Батальон ворвался в город на плечах противника. Солдаты не успели еще отдохнуть, но лица их были радостными, как у людей, окончивших большую и нужную работу.
Генерал поздравил бойцов, по-отцовски обнял Рымара и, вручая ему орден Красного Знамени, сказал: «Молодец, Тарас. Лихо действовал. Лихо».
Молодой комбат, также не по-уставному, ответил: «Спасибо, товарищ генерал. Не я эту награду заслужил. Мне ее солдаты добыли. Они молодцы…»
Спустя месяц, когда в городе наладилась более или менее нормальная жизнь, мы послали письмо в политотдел армии с просьбой отпустить к нам ненадолго Тараса Степановича.
Он приехал прямо с боевой позиции. Дивизия, получившая наименование Островской, гнала гитлеровцев уже из Прибалтики. В день его приезда на этой площади шумело людское море. Трудящиеся района собрались на митинг, посвященный освобождению города от немецко-фашистских захватчиков. Взволнованно говорил Рымар:
«Тяжелая борьба, кровь моих героев солдат сроднили меня с вашим городом навеки. Дорогие островичи, прошу вас считать меня сыном вашего города. Отгремят сражения, я вернусь сюда, чтобы трудиться вместе с вами».
На трибуну полетели цветы. Тарас неожиданно нахмурился и тихо продолжал: «А если суждено пасть в бою, пусть мой прах примет островская земля».
Рассказчик замолчал. Было тихо. Казалось, что даже опавшие листья перестали шуршать под порывами легкого ветра…
ХОЗЯИН БОЯ
Воевать Тарас Рымар начал солдатом в апреле 1942 года. Все, что выпало на долю советского воина в тот тяжелый год, перенес и он — девятнадцатилетний украинский хлопец. Был бой, когда его окоп проутюжил немецкий танк. Была психическая атака на последний рубеж батальона. Бойцов в траншеях осталось не более двухсот, а фашистов было до тысячи. Впереди пьяных «фюреров» шел оркестр. Гитлеровцы на ходу вели ураганный автоматный огонь по красноармейцам.
Рымар и его товарищи поднялись в контратаку. Упал сраженный пулей командир роты. И тогда случилось самое страшное: бойцы вернулись в траншею. Необстрелянными солдатами овладел страх. Им хотелось лишь одного — лежать распластавшись, слиться с землей. Тарас понимал, как это опасно: минута, другая, и фашисты ворвутся в траншею. Медлить было нельзя. Он поднялся во весь рост и спокойно пошел с пистолетом в руке навстречу «психам», пошел не оглядываясь.
— Что же это, хлопцы?.. А-а-а… — Бросившийся вслед за Тарасом пожилой усатый солдат не успел договорить, — прошитый автоматной очередью, захлебнулся кровью. Но уже вновь гремело на околице деревни:
— Ура-а-а-а!
Не две сотни людей бежали вперед, за Рымаром — катилась лавина. С каким-то небывалым ожесточением, точно негодуя на свой минутный страх, врубились красноармейцы в колонны врага, опрокинули их, заставили в панике повернуть назад.
Были и другие большие и малые бои. Бывало и страшно, и очень трудно. Именно тогда научился Тарас в бою забывать себя, жить только одним желанием — выполнить приказ, разгромить врага.
Рымар не получил военного образования. Начало войны застало его на последнем курсе медицинского техникума. Но на поле битвы чувствовал Тарас себя уверенно. Он умел быть хозяином боя, умел своей волей соединять усилия всех солдат в единый порыв.
Сохранился наградной лист, заполненный в штабе 608-го стрелкового полка 6 сентября 1943 года. В графе «Изложение личного боевого подвига или заслуг» скупо написано:
«В наступательных боях 18–19 августа под деревней Суборовка, когда выбыли из строя командир батальона и его заместитель, Рымар принял командование батальоном на себя. Противник переходил неоднократно в контратаки, поддерживаемые танками, но под умелым командованием Рымара они были успешно отбиты… Уничтожено до 150 гитлеровцев, подбито два танка. Когда батальон был окружен немецкими автоматчиками, Рымар организовал стойкую оборону и вывел из окружения личный состав без потерь. Когда гитлеровцы атаковали штаб батальона, он с семью солдатами отразил атаку…»
Под стать Рымару были и бойцы батальона. На красноармейца Пахомова напали четыре фашиста. Двух из них он выстрелом уложил наповал, но и сам был ранен. Истекая кровью, Пахомов бросился в рукопашную схватку и уничтожил гитлеровцев. Старшина Коваленко заметил прятавшихся за углом хаты вражеских пулеметчиков: фашисты поджидали наступавших по огородам бойцов, чтобы расстрелять их в упор. Старшина по-пластунски подобрался к хате с противоположной стороны и… овладел пулеметом.
За сражение под Суборовкой Рымар был награжден первым орденом Красного Знамени. Докладывая командарму об этом многодневном бое, командир дивизии сказал о своем решении назначить Тараса комбатом.
— Уж больно молод твой герой, — заметил командующий, — но бесспорно — талант…
Март 1944 года дивизия генерала Карапетяна встретила в лесах между Невелем и Пустошкой. Еще стыли по утрам на полях и дорогах лужи, в оврагах лежали толстые пласты снега, но в полдни под ногами солдат уже хлюпала густая грязь.
Батальон Рымара стоял в резерве. А соседи справа топтались у высоты 169,8. Ох уж эта высота! Сколько у ее подножья полегло советских воинов! Она господствовала над полями, болотистыми низинами и перелесками. Более чем на десять километров просматривали с нее гитлеровцы все окрест. Обороняли высоту матерые, прошедшие огонь и воду фашистские войска. Соединение, противостоявшее здесь дивизии Карапетяна, было награждено Гитлером «за жестокую оборону» железным крестом.
Солдаты Рымара отдыхали. Днем чистились, мылись, несли караульную службу. А по ночам в березовой роще плясали огни костров. Бойцы часами могли сидеть около них, вести неторопливый разговор о прожитой жизни, мечтать вслух о возвращении домой.
Тарас любил эти ночи. Ухали вдалеке орудия. Где-то рядом строчил пулемет, а в долине речки за которой стеной стоял невысокий, но густой-густой ельник, плыла песня. Рымар часто появлялся у костров, подходил всегда незаметно, садился с солдатами рядом. У него был сильный, мелодичный голос. Когда он звучал в хоре, солдаты радовались: комбат разделял с ними не только трудности боя, но и грусть по родным
Иногда Тарас запевал, и тогда над русской рекой звенело и крепло:
— Тоскует Тарас Степанович, — уважительно говорили у костра пожилые солдаты, у которых сыновья были старше их комбата.
А Тарас в те дни действительно тосковал. Он не имел никаких вестей об отце и любимой сестренке Жене, которую вспоминал особенно часто. Это она принесла ему, двенадцатилетнему пареньку, в укромный уголок на чердак книжку «Приключении капитана Гаттераса». С тех пор Тарас пристрастился к чтению. Это Женя, умная, чуткая Женя, прочла его первое стихотворение, посвященное памяти горячо любимой матери, стихи о Красной Армии, о Павлике Морозове…
Не знал Тарас, что дома его давно похоронили: в село Черна через неделю после отправки добровольцев на фронт пришло сообщение: «Колонну разбомбили, почти никто не уцелел». Не знал он и того, что девять месяцев томился в застенках гестапо его отец: кто- то донес фашистам, что у него сын и дочь в Красной Армии…
Как-то ночью бродил Рымар в прифронтовом лесу, а когда растаяли утренние сумерки, пришел к командиру дивизии.
— Разрешите мне, товарищ генерал, атаковать завтра высоту. Мы ее возьмем, честное слово, возьмем! Только условие: не переносите огня с первой линии траншей в глубину до тех пор, пока не увидите моего сигнала.
Сутки ушли на подготовку. Рымар инструктировал командиров рот и взводов, лично проверял снаряжение и оружие, выступил на партийном собрании, побывал у артиллеристов, которых назначил генерал вести артогонь по высоте. Когда многим казалось, что приготовления к бою уже закончены, Рымар отдавал новые распоряжения, удивляя всех своей предусмотрительностью. Чувствовалась в нем какая-то внутренняя, сдержанная сила. Она подчиняла людей, вселяла уверенность в победу.
2 марта 1944 года батальон Рымара взял высоту. И добыл он эту большую победу малой кровью.
Комсорг 608-го стрелкового полка Иван Яковлевич Глыгало (ныне подполковник, партийный работник одной из частей Ленинградского военного округа) вспоминает:
«Рассвет наступил в то утро как-то особенно быстро, по-гвардейски, точно торопил бойцов… Пушки наши заговорили рано. Били долго. Рымар повел батальон на высоту за несколько минут дол окончания артподготовки.
Обычно с началом ее фашисты перемещались во вторую линию траншей. Когда огонь переносился в глубину, они возвращались. Вернулись и на этот раз. Только сегодня их ожидал здесь сюрприз в виде солдат Рымара. Они встретили хозяев траншей огнем в упор и погнали без остановки, пока не сбросили вниз. Над высотой, точно капля драгоценной крови, заалел красный стяг… До поздней ночи взбешенные гитлеровцы контратаковали высоту, но рымаровцы отбили все их атаки».
В донесении об этом бое командир полка подполковник Гига особо отмечал умелые действия Капитана Рымара как военачальника. Рымар был награжден орденом Александра Невского.
НА ПРОРЫВ «ПАНТЕРЫ»
Шоссе Киев — Ленинград. Вправо и влево от него убегают вдаль сотни проселочных дорог. Они пробиваются сквозь лесные чащобы, налетают на косогоры с медноствольными корабельными соснами, огибают тонкие болотистые низины. Сюда, в трудные дли наступательных боев места, в район реки Великой, пробилась летом 1944 года 1-я ударная армия, и составе которой действовал батальон Рымара.
Здесь у врага был заранее создан оборонительный пояс «Пантера». На десятки километров протянулись мощные инженерные сооружения, состоявшие из системы траншей, дотов, дзотов, железобетонных убежищ. Особенно укреплены были Псков и берега реки Великой около города Острова.
Однако советские войска после упорной подготовки двинулись в наступление и 12 июня, прорвав оборону фашистов, овладели поселком Идрица. Через два дня была освобождена Опочка, а затем форсирована Великая южнее Острова.
На пути наступавших войск в развалинах лежали города и села. Оккупанты по приказу Линдемана, Ферча, Хойзингера и других нацистских генералов уничтожили все, что можно было уничтожить. Оставались лишь дымные пепелища.
Советские воины рвались в бой. Пепел сожженных деревень, кровь тысяч замученных жертв звали к отмщению. У Тараса Рымара в те дни была большая радость: из освобожденного родного села пришло письмо от отца.
«Тарас по нескольку раз, — вспоминает бывший санинструктор полка Елена Семеновна Дворскова, — перечитывал отцовское письмо, читал его солдатам, радовался, как мальчик. И мы все радовались вместе с ним. Общее у нас в то время было все — и горе и радость».
Свое первое письмо в освобожденный родной край Рымар писал за час до атаки. Вот она, короткая солдатская весточка:
«Папа, пишу тебе в ночь перед боем, завтра пойдем освобождать нашу Родину до конца. Орлы мои горят стремлением в бой…»
Он сам был орлом, гордым и смелым…
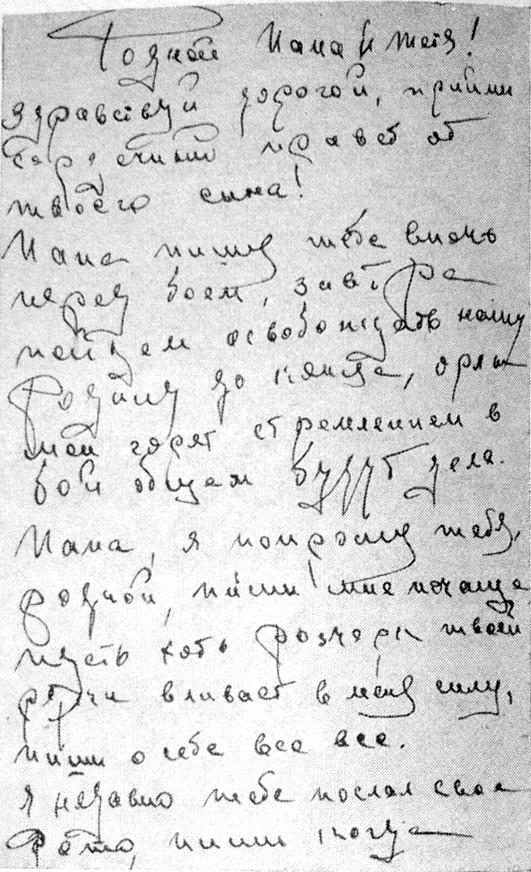
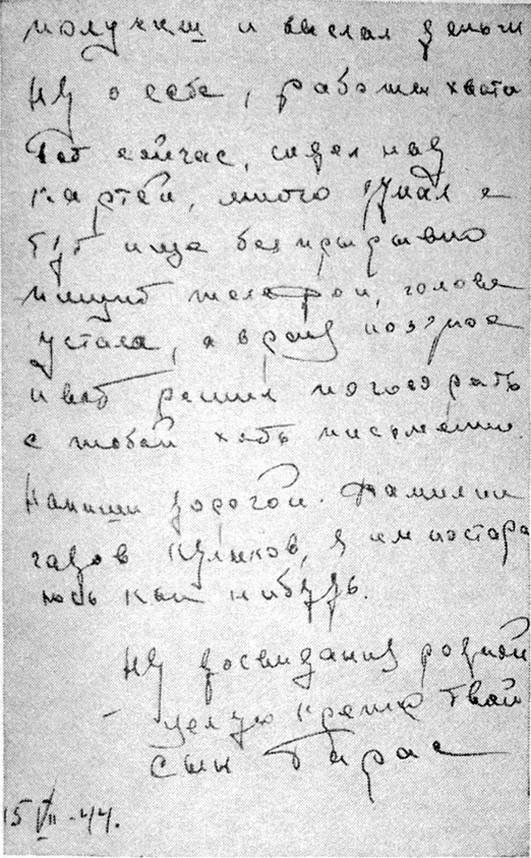
Письмо Тараса Рымара отцу
Остров — узел важнейших коммуникаций — считался ключом к Прибалтике. Вот почему ставка фюрера приказала оборонявшим город частям во что бы то ни стало удержать его в своих руках. После боя 17 июля фашистам удалось закрепиться на господствующих высотах от Горохового озера до реки Великой.
Прорывать немецкую оборону в центре хребта — значило брать город ценой больших потерь. Генерал решил предпринять обходный маневр. Часть капитана Клименко стремительным ударом с фланга пробила брешь в обороне гитлеровцев. Поддержанные огнем гвардейских минометов, солдаты завязали бой за высоты.
Батальон Рымара наступал с фронта и решительно теснил врага. Бойцы вклинивались в боевые порядки немцев настолько дерзко, что были случаи, когда гитлеровцы, заблудившись в тумане, заходили «в гости» к комбату. Один из таких «гостей», ошеломленный и подавленный случившимся, рассказал о том, что дорога к подвесному островскому мосту не заминирована.
Это была оплошность врага, и Рымар немедленно ею воспользовался. Подняв батальон по тревоге, он бросил его по шоссе к мосту. Фашисты заметили атакующих лишь в двухстах метрах, но было уже поздно: рымаровцы уже неслись по первому пролету моста. Единственное, что враги успели сделать, — это подорвать второй пролет. Он переломился и коснулся бурлившей от разрывов мин и снарядов реки. Погибла группа лейтенанта Бертела, первой ворвавшаяся на пролет. Но сотни солдат перебрались на другой берег.
Рассказывая о дальнейшем ходе боя, красноармейская газета «За победу» писала:
«Сразу же за мостом наши подразделения развернулись. Капитан Антонюк повел своих стрелков к железнодорожной станции, Рымар устремился направо. Немцы продолжали отстреливаться. Бойцы врывались в дома и очищали их от противника. Вскоре враг был дезорганизован. И хотя он имел численное превосходство, но уже не в силах был приостановить напора атакующих. К тому же наши бойцы и офицеры вошли в неудержимый азарт. На подразделение Рымара шел лобовой атакой полк немецкой пехоты. Наши расстреливали их в упор. А когда кончились патроны, Рымар сам повел своих стрелков на штурм. С ошеломляющим «ура» врезались в ряды неприятеля, дрались врукопашную. Сотни трупов остались на месте отчаянных схваток. И только небольшой группе немцев удалось уцелеть».
К полудню 21 июля Остров был полностью очищен от немецко-фашистских захватчиков.
За Островом последовал Тарту. Затем батальон Рымара из Эстонии был переброшен на болотистый участок шоссейной дороги Валга — Рига. Отсюда и совершил свой последний путь «сын древнего Острова» в город, ставший для него родным и близким… Пятьдесят солдат во главе с генералом сопровождали тело героя к берегам Великой.
Тарас Рымар погиб 20 октября 1944 года. Небольшой осколок разорвавшейся мины сразил насмерть героя, отдававшего последние распоряжения перед атакой.
В. Топильский НА ЗЕМЛЕ, ВОСПЕТОЙ ПУШКИНЫМ
Как бесконечно дороги и милы нашему сердцу пушкинские места! Села Михайловское, Петровское, Тригорское, река Сороть, гладь зеркальных озер, тишина зеленых дубрав. И над всей этой бескрайней широтой русских равнин возвышается на горе белокаменный, с устремленным в голубое небо остроконечным шпилем, Успенский собор. Этот уголок земли был для Пушкина олицетворением необъятной и страстно любимой им Родины. И где бы ни был поэт, куда бы ни забрасывали его превратности судьбы, он всегда мысленно возвращался к Михайловскому, Тригорскому. В альбоме П. А. Осиповой Пушкин писал:
Здесь, за стенами старинного Святогорского монастыря, выстроенного еще во времена Ивана Грозного, под сенью вековых дубов, тенистых лип и тополей, похоронен поэт.
Вместе с экскурсантами из Ленинграда поднимаемся мы по сложенной из огромных валунов лестнице, ведущей к Успенскому собору-музею, и останавливаемся на площади на восточной стороне собора. Края площади обрамлены белоснежной мраморной балюстрадой. В центре возвышается простой, изящный белый мраморный обелиск с нишей и урной посредине. На широком гранитном цоколе высечена золотыми буквами надпись:
«Александр Сергеевич Пушкин. Родился в Москве, 26 мая 1799 года, скончался в С.-Петербурге, 29 января 1837 года».
Торжественны и неповторимы эти минуты встречи с Пушкиным. Они тревожат и волнуют сердца. Невольно на память приходят пушкинские стихи. В них дерзновенный протест против рабства и угнетения, стремление увидеть свою родину свободной и счастливой, вера в русский народ. О, как любил Пушкин будущую Россию, и она всем сердцем полюбила его!
Больно было слушать нам рассказ экскурсовода о разбое фашистов, в годы войны осквернивших эти святые места: 2 июля 1941 года фашистские самолеты, словно черные вороны, стаей пролетели впервые над Пушкинскими Горами. Они сбрасывали бомбы на холм, на монастырь-музей, на вековой парк-заповедник. Они ни с чем не считались. Одна бомба разорвалась недалеко от могилы поэта, образовалась огромная воронка, осколками был поврежден священный пушкинский обелиск…
— Неужели они посмели тронуть могилу нашего Пушкина?! — восклицает взволнованная рассказом экскурсовода Ольга Муштукова — работница фабрики «Скороход».
— Посмели, милая девушка!
В подтверждение своих слов экскурсовод показывает небольшую дощечку со словами: «Могила Пушкина заминирована, входить нельзя. Ст. лейтенант Старчеус». Дощечка эта была поставлена у входа к могиле поэта передовым отрядом советских саперов утром 13 июля 1944 года.
Рассказ экскурсовода вернул меня вдруг к тому далекому, тревожно-радостному дню, когда мы после жаркого боя на заре собрались у могилы поэта…
«ТОВАРИЩ, ВЕРЬ…»
Оперативная сводка Советского Информбюро сообщала:
«В течение 13 июля западнее города Новоржев наши войска овладели районным центром Пушкинские Горы, а также с боями заняли более 30 других населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты Вороничи, Лугово, Натахново, Горино, Чухно и железнодорожную станцию Тригорское».
Долгой и тяжелой была дорога воинов-фронтовиков, прежде чем они поднялись на пушкинский холм и обнажили свои головы перед прахом великого человека…
В теплые июльские дни мы с командиром стрелковой роты старшим лейтенантом Сорокиным выходили на наблюдательный пункт и подолгу всматривались в ту, распростертую за передним краем, попавшую в беду родную сторону. Там лежала земля Псковщины, старинная, искони русская земля. Не по годам серьезный, неразговорчивый, старший лейтенант часами мог молча стоять у амбразуры. Иногда он откладывал бинокль, освещал тусклым светом карманного фонарика карту и наносил на нее какие-то, ему одному понятные, знаки. Этих знаков становилось все больше и больше. Ко дню наступления вся карта командира роты была испещрена красными стрелками и кружочками.
Несколько раз вместе с нами порывался пойти на наблюдательный пункт профессор Дмитрий Благой. Подвижной, очень общительный и милый, профессор просил командира взять его с собой хоть издали посмотреть на пушкинские места. Старшин лейтенант Сорокин возражал, категорически отказывал. Профессор сердился.
— Молодой человек, — сказал он однажды, — я же член Государственной чрезвычайной комиссии по расследованию злодеяний фашизма и послан сюда не сидеть в блиндаже под пятью накатами, а лично засвидетельствовать все преступления, кощунства и надругательства фашистов над пушкинскими местами.
— Знаю, знаю, профессор, — спокойно отвечал командир роты. — Понимаю все. Скоро мы пойдем в наступление, и тогда и вам найдется работа, а пока потерпите.
— Да поймите же вы, наконец, молодой человек, — не унимался профессор, — ведь там за колючей проволокой могила Пушкина!
Старший лейтенант рывком поднялся, остановился у стола, поправил коптящий фитиль в смятой гильзе от артиллерийского снаряда, и сдавленным, приглушенным голосом произнес:
— Понимаю. Но, между прочим, там же, за колючей проволокой, томятся мод мать, жена, сынишка Александр, названный, кстати, в честь своего великого земляка-поэта.
— Милый Петенька, извини, — бросился к старшему лейтенанту профессор. — Да что же ты молчал…
Больше профессор не просил взять его на НП. Он терпеливо ждал нашего возвращения и жадно, умело выспрашивал все, что мы могли заметить. Он брал у старшего лейтенанта карту и смотрел на появившиеся на ней новые знаки. Однажды профессор сильно встревожился, увидя на карте в районе села Михайловского черный крестик.
— А это что еще такое? — спросил он у командира.
— Тут замечено передвижение людей, слышны стук топора, шум мотора. Кажется, артиллерийская батарея прибыла.
— Да здесь же музей и домик няни Пушкина!
— Домик няни? — переспросили мы.
— Да, да, Арины Родионовны.
Профессор сел поближе к печурке, поправил старый теплый шерстяной шарф, засунул длинные и тонкие руки за пояс, быстро-быстро окинул всех нас добрым взглядом. Мы уже знали все эти привычки профессора, притихли, приготовились слушать. И он начал свой рассказ о Михайловском, о домике няни, о самой Арине Родионовне, о встречах Пушкина с другом юности Пущиным, о прогулках по аллеям Тригорского и встречах с Анной Керн. Говорил он долго, проникновенно, и перед нами, уставшими от бессонных ночей, огрубевшими в боях и походах, словно живой, встал сам Пушкин, добрая, гением воспетая няня — «подруга дней моих суровых», и каждый из нас в эту минуту вспоминал своих родных и близких, оставшихся где-то далеко-далеко… Профессор улыбнулся, заканчивая рассказ и певуче продекламировал: «Товарищ, верь, взойдет она, заря пленительного счастья…»
Мы верили в этот день и в эту звезду.
— Ничего, друзья, подбадривал нас профессор, скоро настанет день, и мы с вами сходим на свидание с Александром Сергеевичем. А там, гляди, и до полной победы рукой подать. И каждый возвратится к своим родным очагам. Это будет замечательное и чудное мгновение. И будет оно не мимолетным — счастье, любовь, покой навсегда придут в наши дома, в наши сердца.
И этот день настал.
«У ЛУКОМОРЬЯ ДУБ ЗЕЛЕНЫЙ…»
Полночь. Сержант Иван Кузьмич Фетисов возвращается из полка в роту. Ночь звездная, тихая, теплая. Пахнет сеном и ромашками. Все поле, от опушки березняка до извилистого, с ключевой водой, заросшего осокой ручья, по которому проходит наш передний край, покрыто цветами. Не будь здесь переднего края войны и подстерегающих со всех сторон огневых точек, на поляне веселилась бы молодежь. А сейчас над ней распростерлась черная зловещая тишина. И стоит случайно прокричать в лугах ночной птице, как вражеские пулеметы открывают огонь.
Дорога уходит влево. Сержанту не хочется делать лишний крюк, — он торопится в роту. И, не раздумывая, Фетисов пригибается и быстро бежит напрямик через белый луг. Когда в темную высь, брызгая искрами, взлетают ракеты, сержант падает и прячется в густой, мокрой от росы траве. В нос ударяет крепкий, дурманящий запах. Несколько минут Фетисов отдыхает и снова бежит…
В роте радушно встречают сержанта.
— Мы так и знали, что ты лугами пойдешь, — обращается к нему старшина и подает большую, наполненную до краев жестяную кружку.
Сержант сбрасывает каску, приглаживает рыжеватые волосы и долго, с наслаждением пьет. От удовольствия по его широкому, со шрамом над левой бровью лицу расплывается добрая улыбка.
— Хороша настоечка из бруснички: и холодит, и молодит, и сон как рукой снимает, — смеется Фетисов, ставя опорожненную кружку на ящик с патронами.
В землянке у ротного командира тесно и накурено. Шумит пламя трофейной карбидной лампы. У стола, сбитого из ящиков, склонившись над картой, сидят старший лейтенант Петр Сорокин, командиры взводов и незнакомый Фетисову артиллерийский офицер в чине лейтенанта. В сторонке, у телефона, с привязанной к голове телефонной трубкой дремлет солдат Николай Крапивин, весельчак, неутомимый затейник, один на всю роту гармонист. Он временно стал связистом. До ранения был санинструктором роты.
— А-а-а, Фетисов! — устало говорит командир роты, приглашает его сесть поближе и начинает объяснять сержанту боевую обстановку, задачи роты и его, фетисовского, взвода в наступлении.
Сержант слушает командира и смотрит на карту, где через ручей, болото и кустарник, пересекая проволочное заграждение и минное поле, к высотам пролегли красные стрелы. По этим маршрутам на рассвете пойдут в бой солдаты. Один из взводов поведет в атаку Фетисов.
Он волнуется, но скрывает свое волнение. Не впервые ему участвовать в наступлении, стрелять на ходу, забрасывать вражеские траншеи гранатами. Всякое бывало…
В бою под Красным Бором чуть не погиб. Рядом с ним снаряд разорвался. Фетисов пришел в себя уже под вечер. Лежит он в сараюшке на душистом сене, а над ним санитар Колька Крапивин что-то колдует. Позже сержант узнал, что Крапивин под пулями пробрался к свежей воронке, подобрал его и километра полтора волочил на плащ-палатке. Если бы тогда не Крапивин, не вести бы сейчас в атаку Фетисову взвод солдат.
Час назад начальник политотдела, вручая сержанту Фетисову партийный билет, по-отцовски напутствовал: «Воевали вы, Иван Кузьмич, хорошо, вон сколько орденов да медалей на груди сверкает. Но для коммуниста недостаточно только самому хорошо воевать, быть смелым и находчивым в бою. Член партии должен научить этому товарищей своих, опыт и знания передать им, поддержать и вдохновить людей в трудную минуту».
Почти то же самое сейчас говорит ему и командир роты:
— Вам доверен взвод, Иван Кузьмич, доверены люди. Это. если хотите, настоящий партийный экзамен. Подумайте еще раз, все ли готово у вас к бою. Оружие проверьте, боеприпасы, медикаменты. Поговорите с людьми по душам, по-товарищески, не забудьте напомнить им о местах, за которые мы будем драться.
И, подавая руку сержанту, Петр Сергеевич Сорокин неожиданно продекламировал:
Вернувшись от ротного, Фетисов проверил дозор, поговорил с пулеметчиками и, отойдя в сторону, прилег на сено.
Но отдохнуть не пришлось. В окоп спрыгнул солдат и вполголоса доложил:
— На правом фланге неспокойно. Стук, разговоры слышатся.
— Разговоры? А о чем же они говорят?
— Не разобрать, да я и не понимаю по-ихнему.
— Не понимаешь? А ведь в школе небось учил немецкий, — заметил сержант и приказал:
— Усильте наблюдение, товарищ Рязанцев, замечайте все.
Вслед за Рязанцевым Фетисов прошел на наблюдательный пункт, взял бинокль и долго смотрел в редеющий полумрак ночи. Справа блеснула узкой лептой тихая Сороть. За ней черной стеной вставали дубы- великаны, где-то там, в вековой роще, село Михайловское, за ним на возвышенности — Пушкинские Горы. Сержант никогда не был в этих местах, но со слов профессора, из рассказов командира роты знал и Михайловское, и домик Арины Родионовны, и Тригорский парк, где любил отдыхать Пушкин.
— Вон там, чуть правее того высокого дерева, слышался шум, — доложил Рязанцев.
— У дерева, говоришь?.. Вижу, — ответил сержант и, помолчав, неожиданно спросил:
— А ты знаешь эти слова: «У лукоморья дуб зеленый, златая цепь иа дубе том»?
— Помню. Пушкин написал.
— Верно, Александра Сергеевича Пушкина стихи. А написал он их про эти вот места, где мы с тобой сидим.
Фетисов через амбразуру долго ведет наблюдение.
— Кажется, миномет поставили, — сообщает он.
— Парочку снарядов туда бы! — говорит Рязанцев.
— Нельзя, командир полка запретил.
— Это почему же? — удивляется солдат.
— Зелен еще ты, Рязанцев, и, вижу, ничего не смыслишь. Как же это мы будем стрелять из орудий: там же могила Пушкина, домик его няни.
— И из пулеметов нельзя?
— Из пулеметов можно.
И командир взвода приказывает пулеметчику прочесать кустарник правее высокого дерева. Ночную тишину будит резкий лай пулемета.
От нашего окопа до кустарника пролегла огненная полудуга трассирующих пуль. Гитлеровцы ответили беспорядочным огнем. Окрестность осветилась на мгновенье десятками белых ракет. С холмов ударила вражеская артиллерия. Над головами с шипящим свистом проносятся снаряды и шлепаются далеко позади в болотах.
И снова тишина.
«И ГРЯНУЛ БОЙ»
На востоке заалела заря. Небо чистое, ни облачка. И ни ветерка. Воздух за ночь так и не успел остыть. «Жарко будет», — подумал Фетисов. Он еще раз прошелся по окопам, поговорил с солдатами. Никто из них уже не спал, люди сидели молча, — видимо, все переговорили, передумали. Сержант присел к солдату Лукину, протиравшему запасной ствол пулемета, поинтересовался:
— Готовишься?
— Я всегда готовлюсь перед боем, — спокойно произнес солдат, потом спросил: — Говорят, немцы сильно укрепились?
— Что, робеешь?
Солдат бережно положил ствол пулемета на шинель, улыбнулся.
— Мы, Лукины, не из робкого десятка. Нас трое воюют, и пока никто из нас в трусости не замечен. А про батю моего, Игната Селиверстовича, поди слыхали, он за Днепр орден Славы получил. Мне, как видите, не с руки робеть-то. — Взяв в руки пулеметные ленты, он принялся за чистку, продолжая прерванный рассказ об отце: — Батя наш первым Днепр переплыл. Ранен был, но до берега добрался, зацепился — и ну поливать из автомата. Коммунист…
— Коммунисты — народ особенный. Смотрю я на них и удивляюсь: откуда только у них сила берется? — вступил в разговор пожилой, с рябинками на широком лице солдат. — Помню, под Старой Руссой было дело. Дождь лил тогда как из ведра, дороги развезло, ноги из грязи не вытянешь, а идти далеко. В обход мы шли, — командир решил ударить внезапно, с фланга. Выбился я из сил, хоть ложись в грязь и помирай. Качаюсь из стороны в сторону, еле ноги переставляю, в глазах рябит. Подходит ко мне старший сержант Степан Петрович Косяков, парторг наш. Он точь-в-точь на вас, Иван Кузьмич, смахивает: и ростом, и обличьем, и голосом даже. Подходит ко мне Степан и душевно спрашивает: «Что, братишка, концы отдаем?» Я, вы ведь знаете, войну начинал моряком на Балтике, за Ленинград сражался. «Не привык я к маршам, посидеть бы чуток», — отвечаю. «Торопимся мы, — говорит парторг, — некогда нам рассиживать», — а сам берет у меня винтовку, мешок с патронами. Легко стало, и я бодрее зашагал рядом с парторгом.
И знаете, шагаю я с ним рядом, а сам от стыда сгораю: физически крепче его, а вот не выдержал испытания, раскис. И, как бы в свое оправдание, говорю парторгу:
«Видно, у вас, Степан Петрович, сердце крепче. На вид вы щупленький, а на деле выносливее меня оказались».
«Сердце у меня крепкое, партийное, — отвечает. — Устал я, может быть, больше твоего, но сердце не велит показывать усталость».
Как ножом полоснули меня эти слова, неловко стало, стыдно. Взял обратно свою винтовку, патроны. «Отдохнул я, — говорю Степану Петровичу, — спасибо, давайте теперь вам помогу». Зашагали мы плечо к плечу. И, поверь мне, как-то легче вдруг стало идти. И в бою мы шли рядом. Ничего мне не было страшно.
Слушая солдата, Фетисов радовался и гордился тем, что в его взводе служат такие люди. Он даже подосадовал на себя за то, что вот до сей поры как-то мало знал этого на вид медлительного и молчаливого солдата. Знал только что имя его Павел, фамилия Серегин, родом из Ленинграда.
…Атака началась на рассвете. Где-то далеко на флангах била артиллерия, земля гудела. А здесь, перед Пушкинскими Горами, воцарилась небывалая тишина, словно и войны нет никакой. Но вот затарахтели танки, застрочили пулеметы. Фашисты ответили. Стреляли они из орудий и минометов; снаряды падали за окопами.
Фетисов посмотрел на часы: оставалось несколько секунд до броска. Красная ракета подняла стрелков: первым из окопа выскочил солдат Рязанцев, за ним Лукин, Серегин.
Взводный видел, как бойцы один за другим метнулись вперед. Погружаясь в затхлую и теплую муть болота, разгребали плотный камыш, грудью пробивали дорогу. «Только бы проскочить болото, только бы не застрять в трясине», — думал сержант, следуя со взводом.
Гитлеровцы вначале молчали, потом полоснули по камышам из пулеметов. Это была не прицельная стрельба, она не приносила бойцам урона. Солдаты, пригнувшись, неудержимо шли вперед. Вдруг заговорил пулемет на высотке справа.
— A-а, гадина, ожил! — выругался Лукин и бросился в ту сторону, откуда стреляли фашисты. Вскоре раздался взрыв. Пулемет замолк.
Трудную схватку роте Сорокина пришлось выдержать за земляным валом, у проволочного заграждения: гитлеровцы открыли ожесточенную стрельбу. Взвод Фетисова залег. Сержант понимал: нужен новый бросок вперед, а затем и траншейный бой врукопашную, иначе взвод будет уничтожен минометным огнем.
— Коммунисты, вперед! — крикнул Фетисов.
Подбежав к заграждению, он упал на проволоку.
— Ребята, айда через меня!
Бойцы поднялись.
— За Родину! — раздался звонкий голос солдата Лукина. Он первым ловко и быстро перемахнул через лежавшего на проволоке сержанта…
На правом и на левом флангах ворвались в траншеи соседние взводы. Освободившись от проволоки, прихрамывая, Фетисов побежал догонять товарищей. Где-то за холмами скрылись танки. Бой уже шел за рощей. Тут и там полыхали пожары. Горели села, подожженные отступающим врагом.
«НЕ ЗАРАСТЕТ НАРОДНАЯ ТРОПА…»
На всю жизнь остается в памяти солдата день, когда он после долгого и жестокою боя входит в освобожденные от врага деревню или город. Все позади: тревожные и бессонные ночи, атаки под ураганным огнем, гибель товарищей. И как-то даже не верится, что вот тут, на этой примятой и запыленной траве, у обочины изрытой воронками дороги, у развороченного окопа только что была схватка не на жизнь, а на смерть, падали на проволочное заграждение смельчаки, вставали и снова шли, шли вперед, вперед…
Такое или примерно такое чувство охватило и нас, когда мы с Петром Сорокиным входили в Михайловское.
Но радостное настроение быстро исчезло. Перед нашими глазами предстала картина варварского разрушения. Пушкинский музей разграблен. Мы увидели израненное белое невысокое здание, с выбитыми стеклами, сорванными дверьми, с провалившейся крышей. Неподалеку в бурьяне лежала разбитая мраморная мемориальная доска. Под окнами валялись искалеченные скульптуры.
К полудню из лесов, из землянок к Михайловскому потянулись изможденные люди. От них мы услышали рассказы, которые и теперь, когда прошло уже столько лет после войны, невозможно вспомнить без гнева. Фашисты делали все, чтобы унизить национальное достоинство русского народа. На фамильное кладбище Пушкиных у стен собора гитлеровцы притащили убитого партизанами фашиста и закопали его рядом с могилой поэта. У подножья горы, на которой стоит Успенский собор, варвары повесили нескольких советских активистов. В здании средней школы имени А. С. Пушкина гестаповцы устроили тюрьму. Разобрали домик Арины Родионовны и бревна использовали для блиндажа. Библиотекой поэта растапливали печи.
Не пощадили оккупанты и Михайловский парк. Падали как сраженные на поле боя солдаты, могучие вековые дубы, ветвистые липы, воспетые Пушкиным.
— Больно и горько, сынки, было, — рассказывал солдатам местный старожил колхозник Егор Ерофеич Васильев. — Нас под ружьями сгоняли супостаты в парк и приказывали валить деревья. Стоим на коленях, руки дрожат, не поднимаются. На глазах слезы, а перед лицом — дуло автомата. Свалили одну сосну, сосчитали кольца, а ей сто семьдесят годков. Может быть, под ней отдыхал Александр Сергеевич… Спасибо нашим партизанам, они помогли сохранить старинный парк.
— Я видела, как немцы увозили вещи из музея, — продолжает рассказ Женя Воробьева. — На десять подвод они нагрузили старинную мебель, кресло Пушкина, книги, рукописи, все дорогие нам реликвии. У меня было такое чувство, словно увозят Пушкина на фашистскую каторгу, туда, где томится моя подруга Оля.
Слушали солдаты и крепче сжимали оружие.
В полдень у засыпанной полевыми цветами могилы Александра Сергеевича Пушкина состоялся митинг.
Тут были и пехотинцы, и танкисты, и саперы, и артиллеристы. Пришли жители окрестных деревень, партизаны. Над дорогой высоко взметнулось полотнище со словами: «Здравствуй, Пушкин!»
К Фетисову подошел начальник политотдела.
— Выступи, Иван Кузьмич.
Фетисов посмотрел на море обнаженных голов, шагнул к могиле. Замолк оркестр. Стало тихо.
— Мы долго шли сюда, шли с боями от самых стен Ленинграда. У твоей могилы мы собрались для того, чтобы сказать тебе, Александр Сергеевич, что русский человек не пал перед супостатами на колени. Мы помним и любим тебя и твои стихи, имя твое делало нас сильными в бою. — И, обращаясь к солдатам, сержант сказал, указывая забинтованной рукой вдаль: — Там, у лукоморья, под дубами, братская могила с прахом наших храбрых товарищей. В этих дорогих всем нам местах привелось им сложить свои молодые головы.
Потом выступали профессор Благой, старший лейтенант Сорокин, ученица Женя Воробьева.
Вечером рота старшего лейтенанта Сорокина прощалась с Михайловским. Впереди была земля Советской Прибалтики.
Война отступала на запад. По улицам Пушкинских Гор шли машины, грохотали орудия, мчались танки. У Святогорского монастыря они на несколько минут, задерживались. Воины торопливо поднимались по лестнице наверх, к могиле Пушкина…
В. Федоров ВОЗДУШНЫЕ ВИТЯЗИ
Шел 1944 год. Потрепанные фашистские части откатывались от Ленинграда к Пскову. Враг отступал, яростно огрызаясь. Большие надежды гитлеровцы возлагали на оборонительную линию «Пантера», сооруженную на псковской земле. Огонь сотен орудий, густая паутина проволочных заграждений преградили путь нашим войскам.
Но неудержим был порыв советских воинов. Они уничтожили «Пантеру». В этих боях неоценимую помощь нашим наземным войскам оказали авиаторы. О малоизвестных подвигах трех из них мы и хотим рассказать.
МИХАИЛ ПУСТОВАЛОВ
На столе лежит груда отсыревших документов, почерневших предметов. Откуда они?
Вблизи деревни Рогово Псковского района в двухстах метрах от дороги из болота был извлечен сбитый во время войны самолет. О его существовании местные жители знали и раньше. Но добраться туда удалось только после того, как топь осушили мелиораторы.
Первыми занялись поисками комсомольцы Леонид Воробьев, Иван Константинов — рабочие совхоза имени Кирова и девятиклассник Черской средней школы Валя Вихров. В воскресный день они подошли к месту, куда врезался самолет, и начали копать. Сначала извлекли из ямы несколько частей машины. И вдруг показалась кожаная тужурка… Перед юношами лежали останки летчика. В карманах одежды были документы.
Комсомольцы вернулись в совхоз и сообщили обо всем своему секретарю Владимиру Тихомирову. Тот немедленно позвонил в Псковский военкомат. Выехавшие на место сотрудники установили, что это боевой самолет. Все с волнением рассматривали предметы, документы, принадлежавшие летчику. В планшетке лежали полетный лист с подписью «командир Румянцев», масштабная линейка, карта северо-запада РСФСР. При летчике оказались также пистолет «ТТ» № 1711, часы. Удалось выяснить, что погибший — младший лейтенант авиации коммунист Михаил Иванович Пустовалов.
Где его родные? Как он погиб?
Данных было немного. На свидетельстве о браке в денежном аттестате все надписи уничтожила вода. А вот квитанции на отправленные переводы больше порадовали. Хотя и не осталось на них точных адресов, но зато отчетливо были видны фамилии получателей: И. Пустовалов из города Рассказово Тамбовской области и К. И. Богданова из села Устюжно Вологодской области.

Михаил Пустовалов
Останки Михаила Пустовалова с почестями похоронили на братском воинском кладбище. В последний путь его провожали рабочие местного льнозавода, колхозники.
В Москву, Вологду, Тамбов пошли многочисленные запросы. Вскоре стали поступать ответы из различных областей страны. Откликнулись мать героя — семидесятилетняя Екатерина Кузьминична, его сестра Любовь Ивановна — заведующая отделом Рассказовского горисполкома Тамбовской области, мать жены летчика — Ксения Ивановна Богданова из села Устюжно. Ценные сведения сообщили инструктор Устюженского райкома КПСС А. С. Сергеев, офицер запаса Андрей Васильевич Яковлев из колхоза «Путь к коммунизму» Вологодской области, Николай Андреевич Бурлаев со станции Савватия Северной железной дороги. Так открылись многие страницы короткой, но замечательной жизни военного летчика Михаила Ивановича Пустовалова.
Родился Михаил в тамбовском городке Рассказово в большой рабочей семье, состоявшей из восьми человек. После семилетки Миша пошел работать. Была у него заветная мечта. «Обязательно на летчика выучусь», — говорил он друзьям и отцу. И настойчиво добивался своего. Еще в школе Миша слыл заядлым авиамоделистом. Сделает, бывало, модель, и все диву даются: прямо копия самолета! Юношу охотно зачислили в гражданский аэроклуб. Курс обучения там он закончил с отличием. А однажды торжественно объявил дома:
— Меня принимают в летную школу. Уезжаю завтра!
Любили Михаила в городе за веселый характер, за умелые руки. Провожать его пришли и одноклассники, и товарищи по клубу, и учителя.
Хорошо начал службу молодой летчик. Он был среди тех, кто принес свободу населению Западной Украины и Западной Белоруссии, защищал подступы к городу Ленина от маннергеймовцев. Начало Великой Отечественной войны Михаил встретил в Белостоке. Без страха, с великой верой в победу вылетел он на первое боевое задание.
Екатерина Кузьминична получала от сына с фронта письма, полные бодрости. «Верь, мама, скоро, очень скоро побьем фашистских варваров, и над Родиной засияет солнце нашей победы…» — писал Михаил в перерыве между боевыми вылетами.
В апреле 1943 года он женился на учащейся второго курса Устюженского сельскохозяйственного техникума, скромной девушке Вере Богдановой. «Недолгим оказалось семейное счастье Веры и Миши, — рассказывает Ксения Ивановна Богданова. — Часть перебросили в район станции Хвойная Ленинградской области. В апреле 1944 года связь у моей Веры с мужем совсем прервалась. Очень переживала дочка о пропавшем без вести Михаиле. Это сильно подорвало ее здоровье, и она через год скончалась…»
Нет, не пропал без вести мужественный пилот.
31 марта 1944 года летчик 287-го истребительного авиационного полка Волховского фронта коммунист Михаил Иванович Пустовалов вылетел на задание. Враги обнаружили его самолет. Началось преследование. Пустовалов успел передать по радио важные сведения о «Пантере» и вступил в неравный бой. Местные жители видели, как загорелись фашистские самолеты — один, второй, третий… Но вдруг и краснозвездная машина Пустовалова начала стремительно падать.
Летчик был убит еще в воздухе. В мелкокалиберной пушке его боевой машины осталось всего лишь три снаряда, а в пулемете три патрона.
МИХАИЛ СЕЛИЩЕВ
В то раннее мартовское утро младший лейтенант Селищев отдыхал в землянке на фронтоном аэродроме. Лежа на нарах, он перематывал письмо от брата, вспоминал родной Куйбышев. Послышались быстрые шаги, распахнулась дверь, и на пороге появился посыльный.
— Младшего лейтенанта Селищева срочно к командиру эскадрильи!
Через несколько минут штурмовик «ИЛ-2» взмыл в воздух и направился на запад, в район деревень Шевино, Зашевенье и Рябово. Здесь, по данным разведки, разместился штаб воинской части гитлеровцев. Командование приказало летчику Селищеву и стрелку-радисту Коврижину уничтожить его.
Селищев нанес первый бомбовый удар. Выходя из пике, он заметил две стремительно приближающиеся точки. Это были фашистские истребители, вызванные из поселка Идрица. Пришлось сманеврировать. Когда преследователи отстали, летчик снова нанес удар по цели. Фашистский штаб и остановившийся около него обоз были уничтожены.
Теперь можно и уходить. Но наперерез из облаков вновь вынырнули самолеты противника. «Что ж, угостим и этих», — подумал Михаил и ринулся навстречу
врагу. Один из немецких самолетов задымился. Не выдержав атаки, отвалил в сторону другой. Но остальные продолжали бой.
Михаил не почувствовал боли. Только вдруг руки стали непослушными.
— Прыгай, друг, — услышал Коврижин хриплый, приглушенный голос пилота.
Стрелок-радист заколебался.
— Прыгай, я приказываю! — повторил командир.
От самолета оторвалась черная точка. С земли увидели. как над ней раскрылся купол парашюта. Селищев попытался выровнять самолет, дотянуть до своих. Но силы иссякли, и советский штурмовик вошел в крутое пике…
Стояло засушливое лето. На поле, полого спускающемся к болоту, работали механизаторы совхоза «Просвет». Плуги с трудом вгрызались в пересохшую землю.
— Стойте, братцы, отдохнем, — сказал Иван Аполченков, — а то моторы загоним.
Прилегли в тени, закурили. Василий Федотенков решил побродить по болоту, в котором прежде всегда стояла мутная рыжеватая вода, а в это лето буйно разрослась осока. Пройдя несколько десятков метров, он увидел в густой траве торчащую из тины трубку. Василий вспомнил рассказ об упавшем в болото самолете. Он поспешил к друзьям.
Подогнали трактор, накинули трос. Мотор зарокотал, и вдруг из торфа медленно стала вылезать, все утолщаясь, огромная сигара. Показалась кабина, плотно закрытая колпаком.
Парни были не из трусливых. Но когда они очистили колпак от слоя грязи, то невольно отшатнулись: в кабине сидел человек, свесив голову на грудь. Он словно вздремнул, даже не снял руки со штурвала. На правом боку висела расстегнутая кобура с взведенным на боевой взвод пистолетом: пилот готовился драться, если бы ему суждено было на земле встретиться с врагом.
В нагрудном кармане летчика лежала бережно завернутая в целлофан красная книжечка. Развернув ее, трактористы прочитали:
«Партийный билет № 5293976. Селищев Михаил Фролович. Время вступления в партию 31 июля 1943 года. Выдан политотделом 225-й штурмовой авиационной дивизии. Начальник политотдела Соловьев».
А в планшетке лежала карта. На ней была обозначена линия фронта, проходившая весной 1944 года через город Пустошку и села Морозово, Павлово. Некоторые населенные пункты были обведены карандашом: здесь гвардии старший лейтенант Селищев наносил удары по врагу.
Сохранилась записная книжка летчика. Ее записи убедительно говорят, что он был не только отважным воином, но и заботливым наставником молодежи. Вот одна из записей:
«Введено в строй три молодых летчика: Казимиров с оценкой «отлично», Костин с оценкой «четыре» и Лемешко — «четыре». Состав эскадрильи: летчиков — 8, стрелков — 6». Другая пометка «Побеседовать с…»
Во многих боях участвовал младший лейтенант Селищев. Брат героя — Василий Селищев, тракторист одного из куйбышевских совхозов, прислал письмо, в котором Михаил сообщал: «Я уже совершил 56 боевых вылетов. Недавно командование наградило меня орденом Красного Знамени за успешное выполнение боевых заданий…»
Тепло отзывается о Михаиле Селищеве секретарь Сасыкольского райкома партии Астраханской области Г. Байкин, в прошлом тоже авиатор. Вместе с Селищевым он совершил 44 боевых вылета.
«Я хорошо помню, — рассказывает Г. Байкин, — высокого смуглого парня, всегда подвижного, остроумного. Он был образцом дисциплинированности и настоящим боевым другом. Ему доверили командовать авиазвеном и часто поручали исполнять обязанности командира эскадрильи. Вот почему в его книжке велся учет полетов… В дни летнего наступления Красной Армии в 1943 году Селищеву было поручено шестью самолетами нанести удар по крупному железнодорожному узлу. Задание это он выполнил отлично».
Взволнованное письмо прислал бывший стрелок 118-го полка Борис Михайлович Бобин, ныне работник Великолукского гражданского аэропорта:
«Полк наш стоял на Великолукском аэродроме… Сюда нас перебросили срочно, чтобы поддержать наступление наземных войск, освобождавших Псковщину. Полком командовал тогда энергичный, деятельный подполковник Верещинский. Под его руководством летчики-штурмовики на прекрасно вооруженных грозных машинах «ИЛ-2» наносили сокрушительные удары по врагу. Фашисты не выдерживали этих ударов, в страхе называли гвардейские штурмовики «черной смертью».
Легендарная слава шла в полку о подвигах боевого друга Селищева — летчика Николая Костина. Сигнал «Костин в воздухе» означал у фашистов: «Спасайся, кто может». Гитлеровские истребители боялись подходить к самолету Костина в одиночку. От рядового пилота до командира эскадрильи вырос в полку Николай Костин. После ликвидации Курляндской вражеской группировки ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Отлично выполняли боевые задания и летчики Владимир Майстрович, Николай Рядошапка, Леонид Лемешко Их машины подчас приходили с задания в таком виде, что возвращение на них казалось просто чудом. Владимир Майстрович, рослый белорус, был штурманом полка. Отвага и мужество этого человека были исключительными. Однажды в 1944 году он получил задание нанести бомбовый удар по железнодорожным станциям, где сосредоточивались большие силы противника. При возвращении с задания его самолет был сбит. Майстрович вместе со своим стрелком попал в плен к фашистам. Допросы, издевательства, которым подверглись советские воины в концентрационном лагере под Ригой, не сломили их воли. Тогда фашисты решили отправить измученных летчиков в Берлин. Когда железнодорожный состав, в котором находились пленные, проходил по территории Польши, Майстрович ночью, воспользовавшись тем, что охрана заснула, выпрыгнул на полном ходу поезда из вагона и бежал. Польские партизаны помогли ему перейти фронт, и вскоре он снова был в родном полку, бил врага на новом самолете.
Такими были однополчане Михаила Фроловича Селищева, таким был и он сам. В полку М. Ф. Селищев считался одним из самых смелых и отважных летчиков. Ему поручались сложные и ответственные задания, часто связанные с большим риском для жизни. И он всегда их выполнял блестяще…»
Нашелся и еще один очевидец. Рабочий Великолукских авторемонтных мастерских Евгений Сергеенков был свидетелем поединка между штурмовиком «ИЛ-2» и гитлеровскими истребителями. Сергеенков рассказал о судьбе выпрыгнувшего с парашютом по приказанию Селищева стрелка Коврижина: его поймали фашисты, по по пути в Идрицу ему удалось бежать. Коврижин с помощью местных жителей добрался до партизанского отряда.
ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВ
Пассажирский поезд приближается к станции Идрица. Смолкает перестук колес, и состав останавливается у небольшого, но красивого здания железнодорожного вокзала. Человек, впервые приехавший в Идрицу, сразу обратит внимание на бронзовый бюст молодого воина с волевым лицом, установленный на полированном гранитном постаменте перед вокзальным помещением. На пьедестале сверкает в солнечных лучах позолоченная надпись:
«Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии лейтенанту Евгению Витальевичу Михайлову присвоено звание Героя Советского Союза».

Памятник на могиле Героя Советского Союза Евгения Михайлова в Идрице.
Однажды сюда приехала из Подмосковья большая группа гостей. Это были земляки Евгения — рабочие Перовского завода по ремонту электроподвижного состава. Некоторые из них занимались в организованном Евгением военном кружке.
— Очень способным человеком он был, — рассказывали гости. — Среднюю школу закончил с отличием, а потом поступил в Качинское авиационное училище. Его оставили там инструктором. Работал он с увлечением, подготовил немало хороших авиаторов.
Десятки рапортов об отправке на фронт подал Евгений, когда грянула Отечественная война. Однажды дело дошло до крупного объяснения с начальником училища. Тот терпеливо выслушал Евгения, говорившего, что фронту очень нужны летчики, что он больше ни дня не может спокойно спать в тылу, когда идут кровопролитные бои, а потом, не сдержавшись, крикнул: «А я могу?! Кто кадры фронту готовить будет?»
Просьбу Евгения Михайлова удовлетворили только в 1943 году. Молодой лейтенант стал летчиком фронтового истребительного полка. За год на его счету было уже 92 боевых вылета, пять лично сбитых самолетов. О Михайлове писали фронтовые газеты, боевые листки. «Бесстрашный», «Хозяин неба», «Мастер стремительного удара», «Враг бежит» — вот заголовки зарисовок и хроникальных корреспонденций об отважном лейтенанте. За мужество и отвагу он был награжден орденом Красного Знамени. Коммунисты полка приняли Михайлова кандидатом в члены партии.
…17 марта 1944 года Михайлов получил задание прикрыть сосредоточение наших наземных войск. Лейтенант поднялся в воздух на истребителе «Лавочкин-5». Вместе со своим ведомым младшим лейтенантом Титовым Евгений, несмотря на облачность, патрулировал над прифронтовой полосой. Воздушного противника в этом районе не было. Тогда летчики повели свои машины к сильно укрепленной железнодорожной станции Идрица. Здесь находился гитлеровский аэродром, и Михайлов решил именно тут ждать возможного взлета фашистских бомбардировщиков. И вдруг шквал огня — это заговорила зенитная артиллерия противника.
Михайлов увидел языки пламени, охватившие мотор его машины. К своим не дотянуть. Выброситься с парашютом? Нет, лучше смерть, чем плен. Внизу, на железнодорожных путях, лентами стояли длинные составы с вражеской техникой, боеприпасами. В самую их гущу Евгений и направил объятый пламенем самолет. Взрыв оглушительной силы потряс все окрест. «Станция парализована, русский летчик подорвал наши склады, пожег эшелоны. Прошу немедленной помощи», — телеграфировал комендант.
«За Михайлова!» — написали на фюзеляжах боевых машин летчики полка, в котором служил Евгении Михайлов. И враг ощутимо почувствовал их священную месть.
Н. Мосолов ВЕСНА НАШЕЙ ПОБЕДЫ
В 1945 году залпы советских орудий гремели от скалистых фиордов Норвегии до золотистых лагун Адриатики. Советская Армия отмеривала последние версты своего героического пути.
Ту незабываемую весну довелось мне встречать вдали от родного Ленинграда…
ЗАЛПЫ ГВАРДЕЙЦЕВ
Свинцовые, необозримые просторы. В миле от берега над бушующими волнами торчат мачты потопленного фашистского корабля. Шел он в Клайпеду на помощь войскам, прижатым к морю в районе Мемельской косы. Днем отстаивался в бухтах. Разыгрался шторм, но наши дозорные заметили на горизонте силуэт транспорта. Снаряды балтийских артиллеристов накрыли вражеский корабль. Гитлеровцы покинули его. Вскоре мокрые, обледеневшие шагали они в колонне пленных.
Морская гвардия, артиллеристы гвардии полковника Кобеца пришли сюда — к самому синему морю — вместе с передовыми частями Советской Армии. На прибрежных высотах, на опушках небольших лесных массивов расположили они свои наблюдательные пункты, командные посты. Десятки проводов, извиваясь змейками, протянулись с переднего края туда, где в ожидании команды «К бою!», застыли балтийские пушки. Стволы тяжелых орудий подняты вверх.
…На заснеженном берегу наблюдательный пункт батареи капитана Лачина. Девятый вал стучится в бревенчатый накат землянки. Окуляры стереотруб направлены в сторону порта, занятого врагом. За входом в него непрерывно наблюдают матросы Комов и Ковшиков.
В руках гвардии полковника Кобеца, с которым я приехал на позицию балтийских артиллеристов, карта авиасъемки порта: отмечены на ней линии причалов, важнейшие портовые сооружения, черточками обозначены корабли на рейдах. Это предстоящие цели. О них и докладывает Лачин командиру 1-й гвардейской Краснознаменной железнодорожной Красносельской морской артбригады. Полковник, как всегда, требователен: неторопливо проверяет секторы обстрелов, интересуется данными разведки. Сергей Спиридонович доволен, — Лачин справился с задачей.
Энергичный, подвижной, с мальчишескими огоньками в глазах, Лачин пришел на флот по комсомольской путевке. Он славно воевал под Ленинградом, десятки боевых стрельб провел уже и в Восточной Пруссии. За короткий срок батарея Лачина подбила три транспорта врага, потопила сторожевой катер, помешала немецким тральщикам протралить подходы к бухте.
Фашисты, прижатые к морю, сопротивляются ожесточенно. В один на январских дней они предприняли сильную контратаку. Им удалось потеснить наши части. Несколько немецких танков появилось в 800 метрах от орудий гвардии старшего лейтенанта Проскурова. Не растерялся гвардеец — дал команду:
— Прямой наводкой по танкам!
Стена огня встала на пути вражеских машин. Поспешили на помощь армейцы, ударили из противотанковых орудий. Контратака врага была отбита. Несколько фашистских танков горело около позиции балтийцев.
— Моряки дают жару фрицам, — с любовью говорят соседи — артиллеристы Советской Армии.
Мы покидаем батарею Лачина. В стороне, за разъездом трехцветный шлагбаум. Здесь проходила граница с фашистской Германией. Передний край освещается вспышками ракет. В воздухе шуршат снаряды. Это гвардейцы обрушиваются на порт огневыми налетами. Земля содрогается от залпов. Сопровождающий нас матрос Егоров (до службы он жил в Ленинграде) говорит:
— Вот мы и пришли до немца!
— Да! Пришли! Ленинградцы на земле врага!
Шумит море. Резкие порывы ветра усиливают рокот прибоя, далеко разносят артиллерийскую канонаду. Днем и ночью гремит она над побережьем. Днем и ночью бьют фашистов балтийские артиллеристы. А над землей врага грозно движутся на запад воздушные корабли балтийских летчиков Манжосова и Курочкина. Они летят бомбить Кенигсберг.
…Вот он опять перед нами, потопленный фашистский корабль. Морская пучина засасывает его. Набегающие волны вот-вот захлестнут верхушки мачт.
БАЛТИКА НАСТУПАЕТ
Теплые и влажные ветры дуют с моря. Порывы их шевелят прибрежные дюны. В густом тумане, повисшем над бухтой, кажутся они живыми существами с горбатыми щетинистыми спинами. Над обломками портовых сооружений, над развороченной землей, смешанной с кровью, встает солнце. Торпедные катера, на которых провели мы ночь в море, один за другим осторожно подходят к берегу, где вчера еще кипел жаркий бой. Радуясь солнцу, изрядно продрогшие, матросы спрыгивают на землю.
Отсюда осенью 1941 года фашисты отправились на штурм Ленинграда. Здесь часто с речами выступал нацистский адмирал Дениц, напутствуя экипажи подводных лодок в пиратские рейды.
— Мы в южной Балтике! — громко, точно рапортуя, говорит комдив Осецкий. Немного помолчав, вполголоса добавляет: — Добрались наконец.
Штеттин, Свинемюнде — далекие базы фашистского флота. До них теперь рукой подать. Как мы мечтали о походе от Невы к Одеру, от Ленинграда к Штеттину в годы, когда борта наших кораблей сливались с невским гранитом!
Невольно вспоминалась одна из первых встреч с Осецким в блокированном Ленинграде. Было это 6 ноября 1943 года. Рабочие судостроительного завода пришли в клуб на торжественное собрание, посвященное годовщине Великого Октября. Почетными гостями судостроителей были катерники, в их числе — Евгений Вячеславович Осецкий. Моряков попросили выступить. Речи их были короткими: они поблагодарили ленинградцев за построенные корабли и обещали привести их во вражеские воды.
Нелегок был путь к берегам фашистской Германии. Катерники храбро дрались с врагом в Выборгском и Нарвском заливах летом 1944 года, первыми ворвались в бухты Таллина, смело высаживали десанты, участвуя в освобождении Моонзундского архипелага. На траверзе армии, наступавшей по южному берегу моря, корабли Осецкого появились тогда, когда над Балтикой еще гуляли снежные метели. Катера обледенели, льдом забивало кингстоны, перемерзли и утомились экипажи, но приказ о перебазировании был выполнен. Торпедные катера боевой счет 1945 года открыли в зимнем море.
Атаки советских торпедных катеров на немецкие суда западнее Лиепаи были совершенно неожиданными для врага. Действовали катерники отважно и дерзко
Вытянувшись в двухкилометровую колонну, транспорты противника ночью вышли в открытое море. В трюмах — танки, орудия, боеприпасы. Сильный и большой конвой сопровождает караван. Наперерез ему устремляются наши торпедные катера. Четыре катера против восемнадцати хорошо вооруженных кораблей!
Мелькают опознавательные сигналы, — фашисты не верят в появление советских катеров почти у самого Лиепайского порта. Не отвечая, наши катера мчатся к цели. Бледные полосы света падают на воду, — противник сделал залп осветительными снарядами. Вслед за тем разом заговорили пушки, автоматы, пулеметы.
— Вырваться из огневого кольца! — приказывает командир отряда Чебыкин.

Михаил Григорьевич Чебыкин
Дана предельная скорость. В ушах свистит ветер. Гулко колотятся сердца. Враг недоумевает: почему нет атаки? Но вот катера резко вырываются вперед, одно звено идет вдоль колонны, другое обходит слева головные корабли. Первым атакует Беляев. Обе выпущенные им торпеды почти одновременно попадают в крупный транспорт.
На курс атаки ложится катер Самарина. Он несется прямо на сторожевой корабль. Дистанция почти таранного удара. Нервы у фашистов сдают, и сторожевик резко уклоняется в сторону. Самарин прорывается в центр колонны. Залп — и второй транспорт гитлеровцев разделяет участь первого. Слева еще взрыв. Это топит врага Герой Советского Союза Афанасьев.
Старший лейтенант Петр Михайловский медлит, хотя его катер идет под интенсивным огнем неприятеля.
— Нет! Этот не годится! — кричит он боцману, приблизившись к одному из немецких кораблей. — Шаланда какая-то, а не транспорт.
Торпедный катер мчится к более крупной цели. У борта рвутся снаряды. Есть пробоины, появились раненые… Но курс атакующего верен, выстрел — и торпеда попадает в цель. Над четвертым фашистским кораблем смыкает свои воды седая Балтика.
С пробоинами, с поврежденными моторами катер Михайловского ушел в открытое море. Внезапно он остановился, — моторы заглохли. Начался дрейф. Моряков несло к немецкому берегу; на горизонте показались вражеские суда…
На катере было одиннадцать отважных и смелых: командир Петр Михайловский, в прошлом ленинградский рабочий, парторг Зыков, старшина мотористов Мураховский, боцман Помпушкин, торпедист Еремеев, пулеметчик Пирогов, мотористы Булычев, Токмачев, Пименов, Кожевников и Леша Баранов — самый молодой из экипажа. Дружным огнем встретили они фашистов. Но что мог сделать катер, потерявший ход, против трех вражеских кораблей? Тогда балтийцы решили взорвать свой катер. На какой-то миг они прекратили огонь.
И тут неожиданно корпус корабля вздрогнул, — заработал мотор.
От врага удалось оторваться. Но нагрянула новая беда: отработанный газ стал заполнять отсек. Полуживого вытащили оттуда Зыкова. И все-таки коммунист дважды вновь спустился к моторам, работал, пока не заделал пробоину.
Наступило утро, день, снова вечер и опять ночь. Раненые еле держались на ногах; у Мураховского начался бред, почернела рука у командира. Люди не смыкали глаз, обессилели, но продолжали бороться. И они победили смерть: на третьи сутки довели до косы, занятой нашими разведчиками, еле державшийся на плаву, израненный осколками и снарядами катер.

Петр Михайловский
«ОНИ ЕЩЕ ВЕРНУТСЯ!»
В дни боев за литовское побережье Балтийского моря довелось мне услышать легенду о матросской бескозырке и зеленой фуражке. На поверку оказалась эта легенда настоящей былью…
Начало этой удивительной истории относится к первым часам Великой Отечественной войны. Немецко-фашистские захватчики прошли уже несколько пограничных поселков и вели бои за Лиепаю. А в 10–15 километрах от небольшого курортного городка Паланги, у берега моря все еще гремели выстрелы.
Здесь, на рубеже советской государственной границы, стойко держалась небольшая группа пограничников и балтийских моряков. Фашисты окружили храбрецов, предлагали им сдаться. Но решимость наших воинов была непреклонна — до последнего патрона, до последнего дыхания поклялись они биться и клятву сдержали.
Когда смолк неравный бой, десять раненых воинов попали в руки озверевших фашистов. На утро следующего дня их гнали по улицам Паланги. Гнали в Клайпеду, где героев ждали пытки, тюрьма, смерть. Впереди гитлеровцы несли на штыках пробитые пулями три зеленые фуражки и три бескозырки. У дома, возле которого на каменном пьедестале стояла фигура ангела, один из пленных упал. Конвоиры стали бить его прикладами. Тогда рванулся один из матросов, поднял окровавленного товарища и грозно крикнул, обращаясь к врагам:
— Ну погодите, гады! Вернутся еще наши…
Зима посеребрила прибрежные дюны. В Паланге находился небольшой гарнизон гитлеровцев. Часто приезжали сюда на отдых эсэсовские офицеры. В канун нового, 1942 года в доме с ангелом давался бал. Опьяненные успехами на фронте, фашисты пировали широко: гремела музыка, рекой лилось французское вино.
А когда утром гитлеровцы вышли на улицу, то не поверили своим глазам: ангел «держал» в одной руке бескозырку, а в другой — зеленую фуражку. В стороне лежали три убитых эсэсовца, известные своими зверствами на всю округу. Внизу, у пьедестала, кровью по снегу было выведено: «Они еще вернутся!»
Ветер трепал ленточки бескозырки, и в лучах нещедрого зимнего солнца искрилась надпись: «Краснознаменный Балтийский…» Фашисты стояли в оцепенении. Наконец комендант бросился к фигуре ангела и, сорвав страшные символы, стал топтать их в пушистом снегу.
А тем временем собрались жители. Надо было показать твердость прусского духа, и эту роль взялся выполнить почетный гость — оберст из штаба эсэсовского корпуса барон фон Берлинг. Обращаясь к собравшимся, он кричал на ломаном русском языке:
— Корабли большевистских найн. Этих (барон указывал на растерзанную бескозырку) мы Кронштадт все пуф-пуф…
Отдав приказание найти и сегодня же расстрелять партизан, комендант пригласил гостей продолжать веселье.
Весь день бесновались фашисты. С утра и до поздней ночи рыскали гестаповские ищейки по городу. Было схвачено несколько десятков русских и литовцев. На допросе их зверски избили. Однако найти народных мстителей не удалось.
На другой день комендантский патруль в пяти километрах от Паланги обнаружил сгоревшую машину и рядом с ней труп застреленного барона фон Берлинга, возвращавшегося к месту службы. На снегу кровью было выведено: «Они еще вернутся!»
Прошло ровно двенадцать месяцев. 31 декабря 1942 года в доме с ангелом, где по-прежнему размещался комендант, вновь было шумно и весело. Эсэсовцы и летчики, «отличившиеся» в бомбежках жилых кварталов Ленинграда, справляли новогодний вечер. Но и на этот раз фашистского коменданта навестило «привидение». Ранним утром 1 января 1943 года ангел на пьедестале снова «держал» в руках зеленую фуражку и матросскую бескозырку. Ознаменовалась эта ночь и другими событиями: были уничтожены вражеские часовые у склада с оружием, похищено много автоматов, пулеметов и гранат.
И пошла гулять у самого синего моря молва о вещих символах прихода освободителей — о балтийской бескозырке и зеленой фуражке пограничника. Она летела быстрее птицы по литовским поселкам, по рыбацким хатам, разбросанным в прибрежном ивняке. И верили в нее, и ждали прихода освободителей измученные фашистским игом советские люди.
Поздней осенью 1944 года вблизи Паланги вновь зазвучала канонада. Каждую ночь теперь огненные языки пожаров лизали небо, а дувший с востока ветер доносил звуки боя. Советские воины прорвались к морю. Первыми сюда пришли люди в бескозырках — балтийские моряки и воины в зеленых фуражках — советские пограничники.
Однажды в боях за небольшое рыбацкое селение нашему отряду большую помощь оказали литовские партизаны. Вечером один из них подошел ко мне и передал потрепанную тетрадь — дневник их командира, павшего неделю назад смертью героя.
Командиром партизан был отважный балтиец Валерий Батенин, один из моряков, попавших в плен под Палангой в первые дни войны, а затем бежавший с двумя товарищами из клайпедской тюрьмы.
Много интересных записей о борьбе бесстрашных советских людей в тылу врага сделал Батенин. Говорилось в дневнике и об участии партизан в событиях, которые имели место в Паланге в новогоднюю полночь 1942 и 1943 годов.
ЗВЕЗДОЧКА
В один из апрельских дней 1945 года, высадившись с группой десантников-моряков в небольшой бухте вблизи Одера, я познакомился с разведчиком лейтенантом Сизовым. В начале войны он служил во флоте. Был старшиной второй статьи и как память о морской службе хранил в нагрудном кармане ленточку с бескозырки.
После ранения Сизов попал в армейскую дивизию, с которой и прошел путь от Москвы до Штеттина. Повстречав случайно на границах Польши земляка, разведчик узнал о гибели отца и сестры, повешенных гитлеровцами за связь с партизанами. Мать Сергея фашисты угнали в Германию.
Сизов был любимцем отряда. О нем рассказывали немало интересных историй. Это он, возвращаясь однажды из разведки, неожиданно был атакован десятью фашистами, вышел из поединка победителем и взял «языка». В другой раз Сизов, захватив в плен гитлеровского офицера, под огнем переправился с ним вплавь через Вислу.
Уходя в разведку, Сергей всегда брал с собой фотографию девушки. Когда мы подружились, он рассказал мне про свою любовь. Звали ее Оксана. Была она родом из небольшого поселка, затерявшегося в неоглядном просторе льняных полей Смоленщины. Последний раз они виделись в Москве. Морозным январским вечером 1942 года Михаил Иванович Калинин вручил младшему лейтенанту Сизову и Оксане Петренко боевые ордена.
Оксана была радисткой разведгруппы армии, в которую входила дивизия Сизова. Но встретиться им больше не пришлось. В одном из боев Сергей получил тяжелое ранение, а вернувшись из госпиталя, узнал: сержант Петренко не вернулась с территории врага, куда была послана со специальным заданием.
— Вот она, моя Звездочка, — заканчивая рассказ, сказал Сергей и протянул мне фотографию. На обороте была надпись: «Любимому от его Звездочки».
Однажды мы готовились к десантному броску через Одер. Поздней ночью ко мне привели старого чеха, бежавшего, по его словам, из баронского поместья. Узник гитлеровских концлагерей с 1941 года, Ромул Жижка хорошо говорил по-русски. Он рассказал, что летом прошлого года в их лагерь, находившийся в то время еще в Восточной Пруссии, была доставлена раненая русская девушка-парашютистка. Надзиратели лагеря обращались с ней люто, и она бы погибла, если б не пани Петровна, — так звали в лагере старую русскую женщину, пользовавшуюся у узников исключительным уважением. До лагеря Петровна работала на военном заводе. За колючую проволоку ее бросили за то, что она отказалась везти в экипаже пьяного фашистского ублюдка — сына начальника завода. Он хлестал ее кнутом, исступленно крича: «Повезешь?» — «Нет…» — тихо, но упрямо отвечала она.
Парашютистка держалась с людьми просто. И словом и делом поддерживала слабых. По вечерам в темном бараке, когда при свете мерцающей коптилки едва были различимы мертвенно-бледные лица узников, девушка говорила о том, что близко освобождение, рассказывала про силу наступавшей Советской Армии, вполголоса пела песни своей Родины, радостные и привольные.
Когда Советская Армия перешла границы Восточной Пруссии, лагерь расформировали Жижка, Петровна, парашютистка и еще тридцать узников были направлены на работу в расположенное у моря поместье барона фон Зикенфридта. Вскоре и сюда докатился грохот боев; барон бежал. Вечером того же дня в замок ворвалась большая группа эсэсовцев. Рабы барона так и не успели воспользоваться свободой.
Почти весь вечер провозились гитлеровцы с рацией: им требовалось передать куда-то сведения о продвижении советских войск. Но радист их по дороге в замок был убит, и аппарат не повиновался неумелым рукам. Тогда эсэсовцы вызвали к себе парашютистку. О том, что она радистка, им сказали два американских летчика, жившие в поместье на правах полугостей-полупленных.
Что произошло в ту кошмарную ночь в кабинете барона, никто не знает. На утро пьяные гитлеровцы вывели оттуда парашютистку. На ее груди кровью сочилась вырезанная ножом пятиконечная звезда. У старого дуба старший из эсэсовцев, злобно сверкнув глазами спросил. «Передашь?» Ответа не последовало. Тогда палачи привязали девушку к дереву и начали стрелять в нее.
— Как звали девушку? — перебил чеха мичман Ткачук.
— Пани Петровна звала ее странным именем Звездочка, — ответил чех. — И мы все так ее звали.
Вошел вызванный мною Сизов.
— Как звали твою мать? — спросил я его.
— Пелагея Петровна, — ответил Сергей.
Через несколько минут мы уже следовали за старым чехом.
Десять километров на машине, а затем столько же пешком вдоль берега моря по зарослям камыша — и мы у цели. Гитлеровцам не удалось бежать. Бой был коротким, но ожесточенным. Разведчики и матросы уничтожили эсэсовцев всех до единого В этом же бою мы потеряли и нашего друга: Сергей Сизов, первым ворвавшийся в замок, был убит.
Похоронили мы Сергея и Оксану поздно вечером. Оксана лежала в гробу такая же прекрасная, как была при жизни. Лучи заходящего солнца золотили длинные пряди ее чудесных волос. Казалось, она задремала, и в сладком забытьи ей слышен шелест родных смоленских березок. Могилу вырыли вблизи дороги, под сенью вековых буков, откуда хорошо был слышен рокот моря, так горячо любимого Сергеем, и видна скала, где в темные ночи часами простаивала Оксана, вглядываясь в сторону родной земли.
Долго стояли у дорогой могилы русские воины, французские и чешские девушки. Попытались приблизиться к ней и американские летчики с букетами роз из баронской оранжереи. К ним навстречу вышел Жижка. Гневом сверкнули его глаза:
— Уходите. Здесь место свято. Уходите немедленно. Иначе…
На могиле Петровна не плакала. Казалось, она окаменела от горя.
— Не терзай себя так, мама. Не терзай. Мы все теперь сыны твои, все, — говорил ей мичман Ткачук, и скупые слезы катились, впервые за всю войну, по лицу этого бывалого воина.
Никто не спал в ту ночь. Нам хотелось невозможного: хотелось воскресить, вернуть к жизни Звездочку и Сергея. А еще… еще нам всем очень хотелось в бой.
Мы вышли в поход утром. С моря тянуло теплым, чуть солоноватым ветром. Впереди лежал широкий, дышащий морским простором Одер — последний рубеж обороны обреченной гитлеровской Германии. Позади высились острые крыши полуразбитого замка. У дороги стояла Петровна. Подняв руку над головой, она благословляла нас на победу.
ТАЙНА ЗАКОЛОЧЕННЫХ БАРЖ
Последняя неделя апреля. Победа наша близка. Достаточно постоять несколько минут на перекрестках фронтовых дорог, у столба с указателями десятков пунктов вражеской земли, всмотреться в возбужденные лица солдат, в лица большой разноголосой толпы — поляков, русских, голландцев, чехов, освобожденных советскими воинами из неволи, — и становится ясным: история отсчитывает последние часы проклятого фашистского режима.
На берегах Одера еще шло сражение, а по многочисленным рукавам устья реки уже пробирались к морю десятки речных кораблей немцев. Нашему отряду было приказано вылавливать этих беглецов, охранять суда от диверсий. Отряд был небольшой, и действовать приходилось днем и ночью. На вес золота ценился каждый человек. Дозорную вахту матросы несли по двенадцать — четырнадцать часов.
Большую помощь в те дни нам оказывал одиннадцатилетний русский парнишка, приставший к отряду под Кольбергом. Фашисты угнали семилетнего Славика с матерью из-под Ленинграда. Названия поселка, где жила семья, он не помнил, и матросы окрестили его «Славик из Шувалова». Эсэсовцы убили на глазах подростка мать, и он возненавидел, как только мог, всех, кто носил форму гитлеровской армии. Славик хорошо знал немецкий язык, местность, где мы базировались и часто выполнял в отряде обязанности переводчика и разведчика.
Однажды под вечер он прибежал к Ткачуку перепуганный и взволнованно сказал:
— В протоке две баржи какие-то прибило к берегу. Они заколоченные, а внутри какой-то шум.
Мы поспешили к зарослям ивняка. В трюмах барж оказались люди. Связанные, с кляпами во рту, здесь ожидали смерти узники одного из концлагерей. Опоздай мы, и от барж ничего не осталось бы, — они были заминированы.
Шатаясь, еле волоча ноги, поддерживаемые матросами. выходили спасенные на берег. Долго не могли прийти в себя. Стояли молча и смотрели на горевший вдали Штеттин.
Вдруг от толпы отделилась девушка-полька. Как узнали мы после, Ванда Полонецкая была осуждена за то, что вступилась за малолетнюю сестру, изнасилованную гитлеровским офицером. Девушка подошла к бойцам и сказала:
— Спасибо, братья, что пришли! Спасибо!
И сразу заговорили все, перебивая друг друга, смеясь и плача. Звучала фанцузская, польская, итальянская речь…
* * *
Вот, наконец, последняя ночь войны. По улицам Кольберга шагает балтийский патруль.
На втором этаже полуразрушенного здания бывшего штаба авиационной части врага собралось несколько десятков человек. У радиоприемника ленинградец, политработник Волынский. Он ловит Москву. Сквозь шорохи и трески, заглушая музыку, прорывается голос советского диктора:
— Говорит Москва. Победа!
А. Кочетков НАВЕЧНО В СТРОЮ
Танки, меся разбитую лесную дорогу, вздымая фонтаны воды и грязи, долго преследовали отступающего «противника». Дорогу пересекала река. Была она неширокая, но бурная, с крутым, почти отвесным берегом. Танкисты искусно переправились через каменистые пороги, о которые, грохоча и пенясь, билась вода. Затем атаковали высоту и добили «противника».
Вскоре был объявлен привал. Солдаты расположились плотным кольцом у костра. шутили, смеялись, жадно, с упоением затягивались едким махорочным дымом. Лишь один из них сидел в сторонке, узкоплечий, с маленькими лукавыми глазками. Вздыхая и кряхтя по-стариковски, он стаскивал сапог, что-то бормоча себе под нос, браня все сразу — и дождь, ливший ночью, и грязь, и самого себя.
— Ковыряемся в земле, как кроты… Только один окоп отрыли — смотришь, другой нужно… Ведь не война тут, а учение!
— Ну, заныл, дед Данил, — не выдержал кто-то из солдат. — А еще пулеметчик.
— Какой он пулеметчик!
— А кто же, по-твоему? — в узеньких щелках глаз блеснул злой огонек.
— Кто хочешь, только не пулеметчик. Единую ночь не поспал и раскис, занемог… — говоривший немного помолчал, затем беззлобно усмехнулся и уже дружелюбно напомнил: — Помнишь, как наш старшина рассказывал о фронтовиках, о Злыгостеве? Вот герой был!
…Злыгостев!.. Старшина Разумов часто слышал это имя. От ветеранов полка Алексей узнал, что Иван Злыгостев, окончив семилетку, избрал себе самую мирную профессию — работал пчеловодом на колхозной пасеке. И уже тогда, до войны, о его редком трудолюбии знала вся округа. Сейчас в правлении колхоза над председательским столом висит точно такой же портрет однополчанина, как и в солдатской казарме. И колхоз отныне зовется его именем: «Память Злыгостева». Хороший, богатый колхоз, славится на Пермщине высокими урожаями и большими надоями молока.
…Из отчего дома по накатанному большаку уходил жарким летним днем 1941 года на фронт колхозный пчеловод. Осенью того же года уральский паренек сражался у стен Ленинграда; в тех самых местах, где ныне находится его родная часть.
То было трудное время. Ценой огромных потерь врагу удалось вплотную подойти к стенам города. Стрелковая часть, в которой служил Злыгостев, обороняла одну из Пулковских высот. Передний край нашей линии обороны проходил так близко, что стрелки, сидя в своих траншеях, отчетливо слышали голоса вражеских солдат. Враг делал отчаянные попытки сбить наших воинов с занимаемого ими важного рубежа.
23 сентября 1941 года фашисты после сильной артиллерийской и авиационной подготовки трижды атаковали высоту одновременно с двух направлений — с юга и запада. Но высота осталась неприступной. Ее защитники сражались с невиданным мужеством.
Иван Злыгостев, сидя в своем узком окопчике, видел, как танки с паучьей свастикой на бортах устремились к пологой, поросшей мелким кустарником балке, намереваясь незаметно проскочить по ней в тыл нашим стрелкам. «Не выйдет!» — крикнул Злыгостев и, приготовив противотанковые гранаты, замер в ожидании. Чтобы бить наверняка, он решил подпустить танки как можно ближе. Вот уже слышен их неистовый рев. Остаются считанные метры — сто, пятьдесят, тридцать…
Злыгостев с силой швыряет связку гранат, вторую… Один из танков, приземистый, тупорылый, завертелся на месте, выбросив из-под себя перебитую гусеницу. Кто-то из товарищей подбил вторую вражескую машину. А третья идет прямо на него, Ивана Злыгостева. Стрелок пригнулся, и танк перевалил через окопчик, обдав красноармейца едким дымом. Злыгостев вслед ему швырнул гранату. Одновременно почувствовал, как острая боль пронизала все тело. Однако он продолжал стрелять в наступавших за танками фашистов; стрелял до тех пор, пока, его, окровавленного и обессилевшего не унесли санитары.
Подошел парторг батальона, склонился над Злыгостевым.
— Ленинградец? Где живёшь-то? Может, что передать твоим?
Иван покачал головой: нет, не ленинградец.
— В этом бою, друг, ты действовал, как настоящий ленинградец.
Прошло два месяца, раны зажили. Командование послало Ивана Злыгостева учиться. Смышленый уралец быстро овладел специальностью механика-водителя танка и уже в начале 1942 года успешно вел бои с фашистскими «тиграми» и с «пантерами».
После прорыва блокады Ленинграда часть Злыгостева перебросили на другой фронт. В лесах вблизи Орши в жаркой схватке с врагом танкист потерял своих боевых друзей: весь экипаж погиб, пытаясь вывести с поля боя подбитую машину. Со слезами на глазах Злыгостев смотрел в лес, куда, пятясь как раки, уходили гитлеровские танки. Он погрозил им кулаком.
— Не уйдете… сволочи… Все равно не уйдете.
Вечером, когда бой затих, Иван Злыгостев пришел в землянку парторга батальона и сказал:
— Хочу стать коммунистом. Вот мое заявление. Написал еще там, у Пулковской высоты.
И снова, как в тот день, когда Ивана ранило, парторг сказал:
— Молодчина… Настоящий ленинградец.
Друзья уже давно называли Ивана «братцем-ленинградцем». Он очень гордился этим. Когда предстояло послать кого-либо на самое трудное, самое рискованное дело, где нужны и несгибаемая воля, и непревзойденное мастерство, командир обычно говорил:
— Пошлите «братца-ленинградца». Он не подведет…
И Злыгостев не подводил. В трудных поединках он уничтожил 10 вражеских танков. А сколько раз он выручал из отчаянных положений пехотинцев! Сколько раз пробивал им дорогу вперед!
Когда развернулось сражение на Днепровском плацдарме, танк «братца-ленинградца» первым ворвался на огневые позиции неприятеля. Злыгостев сбил орудие, в упор стрелявшее по нашей пехоте. Затем бросил танк па высоту, откуда свинцовые струи пулеметного огня преграждали путь советским стрелкам. Вскоре над высотой взвился красный флаг.
После боя в лесочек, где танкисты заправляли машины, прибежал офицер-пехотинец, запыленный, возбужденный.
— Где тут найти мне танкиста, что помог нам высоту взять?
Ему показали на Злыгостева.
Офицер молча стиснул в своих объятиях Ивана и трижды поцеловал его.
— Да знаешь ли ты? Нет, ты не знаешь… Ну, в общем, благодарю от имени пехоты.
…Это произошло незадолго до конца войны, на территории Восточной Пруссии. Советские танкисты атаковали противника. Используя лощины, перелески, они вышли во фланг гитлеровцам. Бой длился весь день, не прекратился и вечером. В наступающих сумерках Злыгостев и его товарищи, находившиеся в засаде, видели, как горели вражеские танки. Кто-то начал считать их, насчитал пятнадцать, но потом сбился — так их было много.
Но вот в небо взлетела зеленая ракета. Это был сигнал атаки. Танк старшего сержанта Злыгостева первым вышел из-за укрытия и сразу оказался в самом пекле боя. Он подбил один танк, потом другой. Но вскоре и танк Злыгостева был подбит. Иван окликнул товарищей, никто не отозвался. Все были убиты…
Злыгостев попытался подняться, но не смог: левая рука перебита. Танкист, превозмогая боль, придвинулся ближе к смотровой щели. И в эту минуту он увидел, что рядом стоит фашистский танк, его пушка угрожающе разворачивается, сейчас ударит в борт, в упор…
Трудно сказать, как мог человек, контуженный, с перебитой рукой, управлять машиной. Но он, собрав всю волю, нашел еще в себе силы, включил скорость, дал газ до отказа и ринулся на таран…
В полевой сумке Злыгостева товарищи нашли маленький портрет Владимира Ильича Ленина. Рядом с ним хранилась листовка о боях на Пулковских высотах, в которой большими буквами напечатаны ленинские слова:
«…Мы побеждаем и будем побеждать…»
Сохранилась и записная книжка «братца-ленинградца». В ней — десятки записей о самом памятном о самом главном в боевой жизни. Многие из них сделаны Злыгостевым в боях за Ленинград. Под Пулковом он записал:
«Смелость, смелость и еще раз смелость, доведенная до риска, всегда побеждает». И тут же рядом: «Земля — крепость твоя. Остановись, окопайся и ничего тебе не страшно, хоть землетрясение…»
И еще запись:
«Побеждает тот, кто в минуту смертельной опасности думает о победе. Наш комбат сражался даже и тогда, когда его подбили, и тогда, когда танк превратился в живой факел… Вот пример, которому хочется следовать, подражать!»
И как бы в подтверждение этой мысли — следующая, более подробная запись:
«Многие говорят, что мне везет. Почти в каждом бою мне сопутствует победа. Но, видимо, мало кто знает, как много, терпеливо надо учиться, осваивать опыт других фронтовиков. Как иной раз устанешь, как намотаешься, что и ног под собой не чувствуешь. А командир роты свое: тренироваться, тренироваться, тренироваться. Вот и тренируемся, используя каждую минуту между боями. И стрелять учимся, и машину водить, и землю рыть…»
…Не видел, не мог видеть Разумов, как воевал Иван Злыгостев… Но каждый раз, слушая о нем рассказы ветеранов или читая историю части, он спрашивал себя: «А как бы поступил ты? Нашлось бы у тебя столько смелости, мастерства? Сумел бы и ты вот так же, как на той высотке, помочь товарищам в минуту трудную?»
Вопросы эти были не праздными. Сама суровая армейская жизнь ставила их каждодневно. И не только перед ним, Алексеем Разумовым, мастером вождения, командиром лучшего в роте танкового экипажа, — перед всеми солдатами полка. Ведь каждый из них несет эстафету героя.
Ивану Злыгостеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Он навечно зачислен в списки родной части. В первой роте каждый день на вечерней поверке старшина первым выкликает фамилию Ивана Злыгостева.
После поверки рота уходит на прогулку. Вслед ей с портрета смотрит мужественное, волевое лицо, добрые и в то же время суровые глаза героя… «Я с вами, — как бы говорит этот взгляд, — я всегда буду вместе с вами».
И верится солдатам, что так оно и есть: он с ними всегда, везде, в трудностях, в радости и даже в этой песне, что звенит сейчас над притихшим городком в ласковой весенней тишине:
Да, навечно остался Иван Злыгостев в боевом строю и в сердцах воинов-ленинградцев.
В. Топильский ДОРОГОЙ ОТЦОВ
Его имя не выбито золотом на мраморе и не занесено в книгу истории, но кровь его горит в пламени боевых знамен. Он не ленинградец, не знал и не видел нашего прекрасного города в мирном труде. Он повстречался с великим Ленинградом в грозные дни войны. Повстречался — и встал насмерть у его стен.
Если вы захотите отдать дань светлой памяти этого солдата, придите на Пулковские высоты, обнажите голову и постойте в безмолвии у братской могилы. Здесь он спит вечным сном. Сюда часто приходит стройный, молодой солдат с погонами артиллериста. Он строг и молчалив. Не удивляйтесь. Это пришел на свидание со своим отцом-солдатом сын-солдат.
* * *
Юрий Лопырев не помнит своего отца. Мальчику шел третий год, когда отец — ветеринарный врач колхоза имени В. И. Ленина Иван Романович Лопырев ушел на фронт. Но по рассказам матери сын хорошо представляет своего отца, знает его привычки, характер, даже голос и улыбку. Стоит Юрию сосредоточиться, на мгновение закрыть глаза, как в его воображении тотчас встает живой и родной образ.
И тут нет ничего удивительного. С детских лет Юрий любил и уважал отца. Бывало, долгими зимними вечерами мать, а чаще всего бабушка, большая выдумщица, рассказывали маленькому и любопытному Юре удивительные истории. От иных сказок у мальчика пугливо разбегались быстрые огоньки-глазенки, от страха дрожали губы… Но тут всегда вовремя поспевал отец. Высокий, в длинной серой шинели, в шапке с красной звездой. Он выхватывал из ножен блестящий стальной меч и, размахивая им, отгонял прочь всех сказочных недругов-супостатов.
…Шел третий год войны. С фронта домой приходили от отца ласковые, добрые, ободряющие письма-треугольники. Федосия Дмитриевна — мать Юры — возвращалась с работы, не раздеваясь садилась ближе к свету, бережно раскрывала конверт и, читая письмо с далекой, объятой огнем боев и пожаров стороны, улыбалась и плакала.
— Да перестань ты, дочка, — добродушно говорила бабушка, — ты же знаешь, Ванюшка видеть не мог плаксивых. Иди-ка лучше к столу, щец горяченьких поешь, оно и на душе враз полегчает.
Но вот с фронта пришло последнее письмо. И было оно не от отца, а от его командира. Сообщалось в нем о том, что «командир орудия коммунист старший сержант Иван Романович Лопырев погиб смертью героя, защищая от врагов колыбель революции — Ленинград».
Прошло несколько лет. Однажды Юра возвратился из школы сияющий и радостный, с красным галстуком на шее — в этот день его приняли в пионеры. Мать обняла сына, крепко прижала к груди:
— Поздравляю тебя, сынок. Будь настоящим человеком, каким был твой отец.
Федосия Дмитриевна подошла к комоду, открыла левый верхний ящик и достала со дна большую пачку перевязанных голубой тесьмой пожелтевших от времени конвертов.
— Возьми, посмотри, это от отца… — Мать не закончила фразу, мягкий и добрый голос ее сорвался, задрожал. Она отвернулась, чтобы скрыть слезы, и быстро вышла из комнаты.
* * *
На улице давно сгустились сумерки, пригнали с лугов стадо, с веселой песней прошли с работы девчата; мать суетилась около печки, готовя ужин. Ничего этого не замечал Юра. Взволнованный, он сидел у распахнутого в сад окна, как когда-то сидела его мать, и, не отрываясь, листок за листком читал фронтовые отцовские письма.
«…С группой товарищей из нашей батареи, — писал отец, — я на днях был в Смольном, награды за бои нам вручали. Все переволновались больше, чем на передовой, когда отбивали налет гитлеровских стервятников. Да и как не волноваться. Впервые мы увидели Смольный, поднялись по светлым мраморным лестницам дворца в большой зал. Сели и не дышим. Тишина, словно перед боем. Слышу, толкает меня в бок сосед, наводчик наш, и осторожно, шепотом: «Знаешь, командир, тут же сам Ленин выступал». От этих слов я вздрогнул: ведь и зал, и колонны, и большие светлые окна видели и слышали Ленина. Здесь, в этом светлом зале, звучал его голос, здесь, по этим мраморным лестницам шел он, окруженный матросами и солдатами, в незабываемом 1917 году — первом году революции. И поверь, мне так захотелось, чтобы в эту вот минуту рядом со мной была ты с сыном, чтобы вы вместе со мной разделили чувства радости и гордости. Гордости за то, что я, деревенский доктор-ветеринар из глухой деревни, стою в зале Смольного, в штабе революции, и в руках моих винтовка, и ею я защищал и Смольный, и революцию, и Ленина. Мне в это счастливое мгновение казалось, что я и есть тот солдат революции, который шел на штурм Зимнего. Только теперь мы штурмовали не дворец, а грудью встали на защиту Ленинграда и всех его исторических памятников, его жителей — страдальцев и героев.
Потом я услышал свою фамилию. Не знаю, как я подошел к столу, как мне прикрепили на пропахшую по́том гимнастерку и орден Славы. И вновь мне так захотелось, чтобы рядом со мной встал мой сын, Юра. Я знаю — сын подрастет, возмужает и поймет мои настроения, мое волнение. Я буду бесконечно счастлив, если увижу, что сын пошел по моим стопам. А моя дорога — это дорога чести. Может быть, пишу я и высокопарно, но на это есть основания. Когда всем нам вручали награды, мы услышали такие слова, которые взволновали нас до глубины души. Оказывается, те три самолета, которые мы вчера сбили на подступах к Ленинграду, летели бомбить нашу «Дорогу жизни», по которой эти минуты переправлялись на машинах в тыл сотни ленинградских мальчишек. И я вновь вспомнил о нашем Юрке…»
Следующее письмо, неоконченное и наспех написанное перед боем:
«…Только что похоронили боевого товарища Кузьму Прохорова из-под Рязани. Это наш парторг. Человек исключительной души и отваги. Он и погиб на боевом посту, отражая напор танков врага. Похоронили мы его недалеко от огневых позиций, на небольшом старинном кургане, говорят, что тут в старину был сторожевой пост, охраняющий город от недругов. Коммунист Кузьма Прохоров остался вечно на посту у стен великого города — колыбели Октября… На холмике мы поставили небольшую пирамидку с пятиконечной звездой. Пройдет время, и народ поставит величественный памятник героям, защищавшим Ленинград. Мы, воины, верим, что так и будет».
…И только об одном умолчали листки фронтовых отцовских писем: они ничего не рассказали Юрию о том, как воевал его отец на фронте, как он вел себя в бою. Отец был скромным человеком и ничего не сообщал в письмах домой о своих трудных и больших фронтовых путях-дорогах. Да и зачем было ему писать, тревожить жену, сына. Под Воронежем, недалеко от родных мест, где на берегу небольшой реки Вороны расположилось его село, шли бои. Село тоже чуть не стало боевым рубежом. Вот, видимо, поэтому каждое письмо кончалось словами: «За меня не беспокойтесь. Утром услышите по радио слова «Ленинград сражается, Ленинград победит», значит это сражаюсь и я, и тысячи таких, как я, и мы обязательно победим».
А как хотелось сыну во всех подробностях узнать о сражавшемся у стен Ленинграда отце, открыть эту очень нужную ему, сыну, сторону жизни отца — коммуниста, бойца. Юрий посылал во все концы страны письма с надеждой найти ту воинскую часть и людей, с которыми служил отец. Но не так-то просто было напасть на отцовский след, затерянный на дорогах большой войны.
Годы шли. И вот уже Юрий Лопырев приколол к своей груди красный эмалевый флажок с дорогими буквами — ВЛКСМ. В его комсомольском билете всегда хранилось одно из писем отца, в котором Иван Романович писал:
«Когда ты, Юрий, подрастешь, а я верю и знаю, что ты будешь хорошим советским человеком, тогда все сам узнаешь о той суровой, справедливой войне нашего народа, узнаешь о нас, простых солдатах, бесстрашно сражавшихся в бою за родной народ, за Родину, за тебя, мой дорогой и любимый сын…»
На призывной комиссии у Лопырева была одна просьба: послать его в ту часть, где служил в годы войны его отец. Военный комиссар одобрил намерение Юры и обещал сделать все возможное, чтобы удовлетворить просьбу. Наверное, не совсем легко это было сделать военному комиссару, и службу молодому солдату Лопыреву пришлась начинать вдали от фронтовых дорог отца.
Вскоре Юрий послал в Ленинград два письма: одно в обком комсомола, другое — командующему войсками Ленинградского военного округа. Участливо отнеслись в Ленинграде к его просьбе. Лопырев был переведен в часть, под боевым знаменем которой в годы войны стойко и самоотверженно сражался за Ленинград его отец.
С нескрываемым волнением ходил Юрий Лопырев по военному городку. Все ему здесь казалось родным, близким. В каждом встреченном офицере он видел товарища отца. Проходя в штабе мимо первого поста, Лопырев подтянулся, на секунду замер, приветствуя боевое знамя.
— Здравствуйте, товарищ Лопырев! — услышал в ответ на свой рапорт о прибытии Юрий. Навстречу ему шел, улыбаясь, командир части. — А мы вас ждем, в штабе округа нам рассказали про вас.
Командир долго беседовал с молодым солдатом интересовался его жизнью, расспрашивал про мать. Офицеру понравился Юрий. «Хорошая смена вступила на дорогу отцов», — с удовлетворением подумал он.
Приняли Лопырева на батарее радушно. Молодой солдат с первых дней почувствовал, что попал в боевую и дружную семью, где хранят добрую славу тех, кто когда-то служил здесь.
В Ленинской комнате части висит большой, в золотой рамке щит. На нем выписаны фамилии и имена солдат, сержантов и офицеров, которые в тяжелые блокадные годы оставались бессменно на боевом посту. Есть тут и фамилия храброго зенитчика Лопырева Ивана Романовича.
В части Юрий наконец встретился с человеком, который близко знал его отца, вместе с ним участвовал в боях. Старший лейтенант Виталий Голубев как только увидел рядового Лопырева, так радостно воскликнул:
— Весь в отца, ну ни дать ни взять Иван Романович! Я о тебе, дорогой мой, еще в памятные блокадные дни услышал. Бывало, в минуты затишья соберемся в окопе, закурим одну самокрутку на весь расчет и сидим — греемся, разговариваем, «стратегические» планы строим, как бы нам скорее блокаду снять, врага разбить, к родным возвратиться.
«Юрка меня ждет», — говорил нам твой отец. Он доставал из потертой сумки письмо, принимался читать. А в письме-то все больше сообщалось о тебе, о том, как ты растешь, как улыбаешься, как тянешься ручонками к отцовским письмам. Сильно любил тебя отец.
Однажды Иван Романович узнал, что неподалеку от наших огневых позиций находился детский дом. В одном из старинных особняков за толстыми стенами жили оставшиеся в городе ребятишки. Они так же, как и все ленинградцы, испытывали беду, нуждались зимой в топливе, недоедали. Отец твой, он был парторгом, поговорил с коммунистами. И мы взяли шефство над ребятишками, носили им дрова, делились с ними нашим солдатским пайком. Был там один бойкий мальчишка, тоже Юркой звали. Иван Романович дружил с ним. Бывало, возвратится после такой встречи в батарею, сидит задумчивый. Больно было на душе, тревожились мы за судьбу ленинградских ребятишек. «После войны, — говорил, бывало, Иван Романович, — обязательно найду этого бойкого Юрку и увезу к себе под Воронеж, пусть растут вместе с моим Юркой как братья».
А когда появилась «Дорога жизни», наших ребятишек посадили в машины и увезли из осажденного города на Большую землю, куда-то в Сибирь. Мы с Иваном Романовичем собирались проводить своих юных друзей, но не смогли. Ранним утром по тревоге встали у орудия и весь день не отходили, отражая вражеские самолеты. Стреляем, а на душе тревога: «Как там наши мальчишки и девчонки, успеют ли проскочить машины?» «Успеют, — успокаивал нас командир, — надо только стрелять нам без промаха по стервятникам». А стреляли мы метко, такая кипела злость в груди, что не могли мы промахнуться. Нас за тот бой орденами наградили. Иван Романович потом говорил всем: «Это награда у меня за Юрку».
Старший лейтенант Голубев в годы войны был солдатом в зенитном орудийном расчете, которым командовал сержант Иван Лопырев. Он помнит, как в одном из боев их командир вышел победителем из поединка с пикирующим на орудие фашистским самолетом. Тогда Иван Романович был награжден медалью «За отвагу».
Многое узнал Юрий из рассказов старшего лейтенанта. Когда Голубев заторопился уходить (его срочно вызвали в штаб), рядовой Лопырев встал и просяще заглянул в лицо офицеру. Старший лейтенант обнял солдата.
— Я все понимаю, Юра, но об этом ничего сказать не могу. Погиб твой отец под Пулковом в январе 1944 года. В том бою я не был, на курсы уезжал… Но дрался, писали потом мне товарищи, сержант Лопырев храбро. Иван Романович выкатил свое орудие на прямую наводку и в упор расстреливал гитлеровские танки. Он и раненым остался у орудия. И тогда, когда весь расчет выбыл из строя, продолжал бить метко по врагу. Гордись, у тебя был хороший отец, настоящий солдат.
* * *
В батарее рядовой Юрий Лопырев показал себя образцовым, или как любит говорить старший лейтенант Голубев, настоящим солдатом. Лучше всего о его службе и о том, как он хранит память об отце, говорят три нагрудных знака солдатской доблести, которыми награжден комсомолец. Хорошо сказал об этом командир:
— В этих наградах есть частица тех боевых орденов и медалей, которыми был награжден здесь, на ленинградской земле, твой отец. И я рад прикрепить значок отличника на гимнастерку сыну солдата-фронтовика.
…В далекой воронежской деревне Федосия Дмитриевна по-прежнему с волнением ожидает и с радостью читает солдатские письма. И кажется ей, что написаны они тем же знакомым почерком, та же рука, только может быть, немного покрепче, помоложе.
