Том 3. Верноподданный; Бедные (fb2)

Генрих Манн Сочинения в 8 томах. Том 3. Верноподданный; Бедные
* * *

ВЕРНОПОДДАННЫЙ{1}{2}
ГЛАВА ПЕРВАЯ

Страшнее гнома и жабы был отец, а ведь его еще полагалось любить. Дидерих и любил. Если он, бывало, позарится на лакомство или солжет, то потом так долго юлит, чмокая и пугливо ерзая, около отцовской конторки, пока папаша Геслинг не спохватится и не снимет со стены трость. От всякой нераскрытой проделки в смиренную доверчивость сына вкрадывалась тень сомнения. Однажды, когда отец, прихрамывавший на одну ногу, скатился с лестницы, сын исступленно захлопал в ладоши и тут же убежал.
Каждый раз, когда Дидерих, после очередной порки, весь опухший от слез, с воплями проходил мимо мастерской, рабочие смеялись. Он сразу же переставал плакать, показывал им язык и топал ногой. Про себя он с гордостью думал: «Меня высекли, но кто? Мой папа! Вы-то небось рады были бы, чтоб он вас выпорол, да где уж вам — мелкота!»
С рабочими он вел себя, точно капризный паша: грозил наябедничать отцу, что они бегают за пивом, но тут же поддавался на лесть и, поломавшись, рассказывал, в котором часу отец обещал вернуться. С хозяином рабочие держали ухо востро: он видел их насквозь, — сам некогда работал у хозяев. Геслинг был формовщиком на старых бумажных фабриках, где каждый лист бумаги вырабатывался вручную; проделав все войны своего времени, он, после окончания последней, когда деньги сами шли в руки, сумел приобрести бумажную машину. Голландер{3} и бумагорезка довершили оборудование фабрики. Он сам пересчитывал листы готовой бумаги и требовал, чтобы все пуговицы, срезанные с тряпья, сдавались лично ему. Его маленький сын выпрашивал у женщин пуговицы, обещая за это не выдавать тех, кто уносил с собой несколько штук. Как-то раз Дидерих накопил столько пуговиц, что ему пришло в голову обменять их у лавочника на конфеты. Так он и сделал. Но вечером, в постели, досасывая последний леденец, он, весь трепеща от ужаса, на коленях молил грозного боженьку не раскрывать его преступления. Но боженька не внял мольбе.
На этот раз у отца, который всегда взмахивал тростью ровно и методично, сохраняя на своем обветренном фельдфебельском лице выражение человека, неукоснительно выполняющего свой почетный долг, дрогнула рука и слеза, прыгая по морщинам, скатилась на щетину серебристых усов.
— Мой сын украл, — задыхаясь, глухо сказал он и поглядел на собственного ребенка, как на некое подозрительное, неизвестно откуда взявшееся существо. — Ты обманщик и вор. Тебе еще только остается стать убийцей.
Фрау Геслинг хотела заставить сына кинуться отцу в ноги и молить о прощении — ведь отец из-за него плакал! Но инстинкт подсказал Дидериху, что это лишь рассердило бы отца еще больше. Против сентиментальных повадок жены Геслинг решительно восставал. По его мнению, она калечила ребенка на всю жизнь. Господин Геслинг ловил жену на лжи совершенно так же, как Диделя. Вместо того чтобы пошевеливаться, жена судачила со служанкой… Да и чему тут удивляться, если женщина читает романы! По субботам часто выяснялось, что заданная ей на неделю работа недоделана. А ведь Геслинг не знал, что она еще и лакомится тайком, совсем как их сын. Не отваживаясь досыта поесть за столом, фрау Геслинг после обеда прокрадывалась к буфету. Посмей она заглянуть в мастерскую, так и пуговицы крала бы.
Вместе с сыном она молилась «словами, идущими от сердца», пренебрегая каноническими молитвами, и на скулах у нее вспыхивали красные пятна. Иной раз она тоже била ребенка, но с остервенением, трясясь от жажды мести. Дидериху часто попадало от нее несправедливо. Тогда он грозился пожаловаться отцу. Он делал вид, будто идет в контору, и, спрятавшись за угол, радовался, что нагнал страху на мать. Приливы ее нежности он умел обращать себе на пользу, но не питал к ней никакого уважения. Слишком много у них было общего! А себя он не уважал, ибо проходил по жизни далеко не с чистой совестью и дела его в глазах господних никак не могли считаться праведными.
Все же иной раз, в сумерки, матери и сыну выпадал часок умильнейших радостей. Песнями, игрой на рояле, рассказыванием сказок они умели до последней капли выжать из праздничных дней желанное настроение. Когда Дидерих впервые усомнился в легенде о Христе-младенце, мать без особого труда убедила его еще хоть недолго верить. И Дидерих сразу повеселел, вот он какой набожный и хороший. Упорно верил он и в привидение, якобы обитавшее в замке на горе, а отца, который о нем даже слушать не желал, готов был заподозрить в гордыне, достойной кары. Мать пичкала Дидериха сказками. Она заразила его своим страхом перед новыми оживленными улицами, перед конкой и водила за городской вал, к замку. Там, созерцая его, оба млели от сладостного ужаса.
На углу Мейзештрассе постоянно торчал полицейский, а он ведь хоть кого мог отвести в тюрьму! Сердце у Дидериха отчаянно колотилось; с каким удовольствием он сделал бы любой крюк! Но тогда полицейский догадается, что совесть у него не чиста, и сцапает его. Нет, лучше уж прикинуться честным и ни в чем не повинным… И Дидерих дрожащим голосом спрашивал у полицейского, который час.
После этого сонмища страшных сил, от которых нет спасенья, после сказочных жаб, отца, боженьки, призрака, обитавшего в замке, после полицейского, после трубочиста, который может до тех пор волочить тебя через дымовую трубу, пока ты не превратишься в такое же черное чудище, как он сам; после доктора, которому разрешается смазывать тебе горло и, когда ты кричишь, трясти тебя за плечи, — после всех этих неодолимых сил Дидерих угодил во власть силы, еще более страшной, живьем и без остатка проглатывающей человека, — во власть школы. С ревом переступил он ее порог и не мог ответить даже того, что знал, потому что ревмя ревел. Мало-помалу он наловчился пускать слезу, когда уроки не были выучены, ибо все страхи, вместе взятые, не сделали его прилежней и не отбили охоты фантазировать. Так ему удавалось избегнуть многих неприятных последствий, пока учителя не разгадали его системы. К первому учителю, который ее раскрыл, Дидерих проникся величайшим почтением: внезапно перестал плакать и с собачьей преданностью посмотрел на него из-под согнутой в локте руки, которой загораживал лицо. Перед строгими учителями он всегда благоговел и беспрекословно слушался их. Добродушным — досаждал мелкими каверзами, ловко заметая следы и остерегаясь хвастаться. С несравненно большим удовлетворением живописал он очередной разгром, произведенный в табелях учеников, и последующую жестокую расправу. За столом он сообщал:
— Сегодня господин Бенке опять выпорол троих. И на вопрос, кого же, отвечал:
— В том числе и меня…
Ибо так уж был создан Дидерих, что его делала счастливым принадлежность к безликому целому, к тому неумолимому, попирающему человеческое достоинство, автоматически действующему организму, каким была гимназия; и эта власть, эта бездушная власть, частицей которой, пусть страдающей, был он сам, составляла его гордость. В день рождения классного наставника кафедра и классная доска украшались гирляндами. Дидерих обвивал зеленью даже карающую трость.
На протяжении школьных лет его дважды повергали в священный и сладостный трепет катастрофы, разразившиеся над головами людей, наделенных властью. В присутствии всего класса директор отчитал и уволил младшего преподавателя. Один из старших преподавателей сошел с ума. Еще более могущественная власть — директор и сумасшедший дом безжалостно расправились с тем, кто сам еще так недавно был неограниченным властелином. Приятно было, оставаясь, можно сказать, в ничтожестве, но целым и невредимым, созерцать трупы и приходить к более или менее утешительному выводу относительно собственного положения.
Ту власть, которая завладела Дидерихом и перемалывала его между своими жерновами, для младших сестер олицетворял он сам. Он заставлял их писать диктант и нарочно делать побольше ошибок, чтобы свирепо черкать красными чернилами и придумывать наказания. Они были жестоки. Девочки начинали вопить, и тогда унижаться приходилось Дидериху: он боялся, как бы сестры его не выдали.
Для игры в тирана не обязательно нужны были люди; их вполне заменяли животные, даже вещи. Дидерих останавливался у края голландера и смотрел, как барабаны крошат тряпье.
— Так тебе и надо! Ага! Поговорите у меня тут! Мерзавцы! — бормотал он, и в его бесцветных глазах тлел огонек.
Заслышав чьи-нибудь шаги, он втягивал голову в плечи и чуть не сваливался в раствор хлора. Проходивший мимо рабочий, вспугнув мальчика, прерывал непотребное наслаждение, которому тот предавался.
Но зато, когда его самого били, он чувствовал себя прекрасно, здесь ничто и ниоткуда ему не грозило. Он почти никогда не сопротивлялся. Только просил товарища:
— По спине не бей. Это нездорово.
И не то чтобы он не способен был отстаивать свое право или не стремился к выгоде. Но Дидерих считал, что побои, которые он получал, не приносили бьющему материальной выгоды, а ему — убытка. Гораздо больше, чем эти чисто отвлеченные ценности, его интересовала трубочка с кремом, давно уже обещанная кельнером из «Нетцигского подворья» и до сих пор не полученная. Бесчисленное множество раз Дидерих деловым шагом направлялся вверх по Мейзештрассе к рынку, чтобы напомнить своему приятелю, человеку во фраке, о его обязательствах. Когда же тот вдруг заявил, что знать ничего об этом не желает, Дидерих, честно возмутившись, топнул ногой и крикнул:
— Мне это, наконец, надоело! Если вы сейчас же не вынесете пирожного, я все расскажу вашему хозяину.
Жорж расхохотался и принес ему трубочку с кремом.
Это был осязательный успех. К сожалению, Дидерих мог насладиться им только впопыхах, в волнении: он опасался, как бы Вольфганг Бук, дожидавшийся на улице, не вошел и не потребовал обещанной доли… Все же Дидерих успел даже насухо вытереть губы и, выйдя за дверь, принялся с ожесточением ругать Жоржа, этого обманщика, у которого никаких трубочек с кремом и в помине нет. Чувство справедливости, так громко заговорившее в Дидерихе, когда его права оказались ущемленными, замолчало, как только дело коснулось прав другого, — хотя тут, конечно, следовало действовать осторожно, ведь отец Вольфганга пользовался всеобщим почетом и уважением. Старый господин Бук не носил крахмальных воротничков, а только белый шелковый шарф бантом, на котором покоилась окладистая седая, подстриженная клином борода. Как неторопливо и величественно опускал он на плиты тротуара трость с золотым набалдашником! И ходил он в цилиндре, а из-под пальто нередко высовывались фрачные фалды. Среди бела дня! Ведь он бывал на разных собраниях, он беспокоился обо всем, что касалось города. О бане, о тюрьме, обо всех общественных учреждениях. Дидерих думал: все это его собственное. Он, наверно, страшно богат и могуществен. Все, даже господин Геслинг, почтительно обнажали перед ним голову. Отнять что-нибудь у его сына значило нажить невесть какие неприятности. Для того чтобы сильные мира сего, перед которыми Дидерих так благоговел, не стерли его в порошок, надо было действовать хитро, исподтишка.
Лишь однажды, уже в старшем классе, случилось так, что Дидерих, забыв всякую осторожность и не думая о последствиях, превратился в упоенного победой насильника. Он, как это было принято и дозволено, всегда дразнил единственного еврея, учившегося в его классе, и вдруг отважился на необычайную выходку. Из деревянных подставок, которыми пользовались на уроках рисования, он соорудил на кафедре крест и заставил мальчика стать перед ним на колени. Он крепко держал паренька, хотя тот отчаянно сопротивлялся: Дидерих был силен. Он был силен одобрением окружающих, толпы, из которой на подмогу ему высовывались руки, да и огромного большинства внутри этих стен и за их пределами. В его лице действовал весь христианский мир Нетцига. Как отрадно было это чувство разделенной ответственности, сознание, что вина общая!
Правда, когда угар рассеялся, стало немножко страшно, но первый же учитель, которого Дидерих увидел, вернул ему мужество: лицо учителя выражало сдержанную благосклонность. Другие преподаватели открыто выказывали свое одобрение. Дидерих отвечал им смиренной улыбкой. С этих пор положение его изменилось — он вздохнул свободнее. Класс не мог отказать в уважении тому, кто пользовался благосклонностью нового наставника. При его содействии Дидерих был возведен в ранг первого ученика и тайного наушника. Из этих почетных званий второе он сохранил и впоследствии. Он со всеми водил дружбу, а когда гимназисты болтали о своих проделках, смеялся простодушным, сердечным смехом серьезного молодого человека, извиняющего легкомыслие других; на перемене же, вручая наставнику классный журнал, доносил обо всем, что услышал. Он сообщал о прозвищах, данных учителям, о бунтарских речах, которые велись против них. В голосе его, когда он повторял эти речи, еще дрожала нотка сладострастного испуга, с каким он, потупив глаза, выслушивал их. Ибо при любом посягательстве на авторитет властителей Дидерих испытывал некое кощунственное удовлетворение, возникавшее где-то на самом дне души, — почти ненависть, стремившуюся разок-другой исподтишка куснуть, чтобы утолить свой голод. Донося на других, он как бы искупал собственные греховные помыслы.
Обычно Дидерих не чувствовал неприязни к тем соученикам, будущность которых ставил на карту. Он вел себя как исполнитель суровой необходимости, связанный долгом службы. Предав товарища, он мог подойти к нему и почти искренне пожалеть. Однажды при его содействии пойман был ученик, которого давно подозревали в списывании. С ведома учителя Дидерих передал мальчику решение задачи по математике; в ходе решения он умышленно допустил ошибку, ответ же, несмотря на это, вывел правильный. Вечером, после того как обманщик был изобличен, старшеклассники собрались в саду одного ресторана, — что разрешалось им по окончании гимнастических игр, — и распевали песни. Дидерих постарался сесть рядом со своей жертвой. После одного из тостов он отставил кружку и, положив правую руку на руку юноши, преданно посмотрел ему в глаза и затянул вязким от прилива чувств басом:
Сам он, год за годом преодолевая школьную премудрость, учился удовлетворительно, хотя зубрил только «отсюда досюда» и ничего на свете не знал, кроме того, что полагалось по программе. Труднее всего ему давались сочинения по немецкой литературе, и тот, кто хорошо писал их, вызывал в нем смутное недоверие.
С переходом Дидериха в последний класс никто уже не сомневался, что он благополучно кончит курс. У отца и педагогов все чаще возникала мысль, что ему следует продолжать образование. Старик Геслинг, дважды — в 1866 и 1871 годах — вступавший в столицу через Бранденбургские ворота{5}, послал Дидериха в Берлин.
Поселиться далеко от Фридрихштрассе он не решился и снял комнату на Тикштрассе. Отсюда в университет вела прямая дорога, и заблудиться уж никак нельзя было. От скуки он ходил в университет два раза в день, а в промежутках, случалось, плакал, тоскуя по родному Нетцигу. Отцу и матери он написал письмо, в котором благодарил за счастливое детство. Без необходимости Дидерих редко выходил из дому. Он не отваживался досыта поесть; все боялся израсходовать деньги до конца месяца. То и дело он щупал карман, проверял, целы ли они.
Как ни сиротливо было Дидериху, он все никак не мог собраться на Блюхерштрассе, к господину Геппелю, владельцу целлюлозной фабрики, хотя у него и было к нему рекомендательное письмо от отца. Геппель, родом из Нетцига, поставлял Геслингу целлюлозу. На четвертое воскресенье Дидерих собрался с духом, и, как только к нему вышел, переваливаясь с ноги на ногу, коренастый краснолицый человек, которого Дидерих так часто видел в конторе отца, он уже и сам не мог понять, что его заставляло откладывать этот визит. Геппель расспрашивал обо всем Нетциге и главным образом о старике Буке. Невзирая на то, что у Геппеля тоже была седая борода, он, как и Дидерих. — только, вероятно, по другим мотивам, — с детства благоговел перед стариком Буком. Вот человек — шапку долой перед ним! Один из тех, кого немецкий народ обязан высоко ценить, куда выше известных господ, что хотят все и вся лечить железом и кровью, а народ потом плати по их чудовищным счетам. Старик Бук уже в сорок восьмом показал себя, был даже к смерти приговорен.
— Да, да, если мы сегодня сидим здесь и беседуем, как свободные люди, то этим мы обязаны таким личностям, как старик Бук, — сказал господин Геппель. И откупорил еще одну бутылку пива. — Если б не они, быть бы нам нынче под солдатским сапогом.
Господин Геппель открыто признавал себя вольнодумцем, противником Бисмарка. Дидерих поддакивал всему, что говорил Геппель; у него не было собственного мнения ни насчет канцлера, ни насчет свободы, ни насчет молодого кайзера. Вдруг он мучительно покраснел: в комнату вошла молодая девушка, с первого взгляда почти испугавшая его своей красотой и изяществом.
— Моя дочь Агнес, — сказал Геппель.
Дидерих, в своем мешковатом сюртуке напоминавший тощего кадета, стоял перед ней, залившись краской. Девушка подала ему руку. Она, как видно, хотела быть любезной, но о чем с ней говорить? Дидерих ответил «да», когда она спросила, понравился ли ему Берлин, а на вопрос, побывал ли он уже в театре, ответил «нет». Он почувствовал себя так неловко, что даже взмок; он был твердо убежден, что девушку сейчас интересует только одно: когда он уйдет? Но как унести отсюда ноги? На счастье, явился новый гость, плотный субъект по фамилии Мальман, говоривший оглушительно громким голосом, с мекленбургским акцентом; он был, по всей видимости, студентом-технологом и состоял как будто в квартирантах у Геппелей. Мальман напомнил Агнес, что она обещала пойти с ним погулять. Дидериха тоже пригласили. В ужасе он отговорился тем, что его будто бы дожидается на улице знакомый, и тотчас же начал прощаться. «Слава богу, — подумал он, хотя сердце у него и екнуло, — у барышни уже кто-то есть».
Господин Геппель, провожая его в темную переднюю, спросил, знает ли его приятель Берлин. Дидерих тут же сочинил, что приятель — берлинец.
— Если вы оба не знаете города, сядете еще, чего доброго, не на тот омнибус. Вам уже, наверное, не раз случалось заблудиться в Берлине? — Дидерих ответил утвердительно, и господин Геппель выразил явное удовлетворение. — Это вам не Нетциг. Тут как заблудишься, полдня проходишь. Что вы думаете, ведь за то время, что вы от вашей Тикштрассе доберетесь до Галльских ворот, вы три раза можете пройти через весь Нетциг из конца в конец… Да, вот так-то! А в следующее воскресенье приходите к обеду.
Дидерих обещал. Воскресенье приближалось; он с удовольствием отказался бы от этого визита и, только боясь ослушаться отца, пошел к Геппелям. На сей раз пришлось выдержать такой искус, как пребывание с глазу на глаз с фрейлейн Геппель. Дидерих напустил на себя вид делового человека, не склонного развлекать девиц. Она было опять завела разговор о театре, но он грубо перебил ее: некогда ему заниматься такой дребеденью. Ах да, ведь папа говорил ей: господин Геслинг как будто изучает химию.
— Да! Это вообще единственная наука, имеющая право на существование, — заявил Дидерих, сам не понимая, откуда это у него вдруг взялось.
Фрейлейн Геппель уронила сумочку; нагнувшись, он так замешкался, что она опередила его. Тем не менее она кротко, чуть ли не сконфуженно поблагодарила. Дидериха это разозлило. «Что может быть хуже кокетки?» — подумал он. Она порылась в сумочке.
— Так-таки потеряла. Английский пластырь потеряла, понимаете? А все еще кровоточит.
Она сняла с пальца носовой платок. Палец был такой снежной белизны, что кровь на нем, казалось Дидериху, должна просочиться внутрь.
— У меня пластырь с собой, — сказал он, опомнившись.
Он завладел ее пальцем, и не успела она вытереть кровь, как он слизнул ее.
— Что это вы?
Он и сам испугался.
— Ведь я химик, а химики и не такие еще вещи пробуют, — сказал он, строго сдвинув брови.
Она улыбнулась.
— Ах да, вы ведь в некотором роде доктор. Как это хорошо у вас выходит, — продолжала она, следя за тем, как он наклеивает пластырь.
— Прошу, — сказал он сдержанно и отступил на шаг. Его бросило в жар, он думал: «Не надо было только прикасаться к ее коже. Ужасно мягкая, до отвращения».
Агнес не смотрела на него. Помолчав, она сделала новую попытку втянуть его в разговор.
— У нас с вами в Нетциге найдутся, должно быть, общие родственники. Не правда ли?
Волей-неволей ему пришлось перебрать с ней несколько знакомых нетцигских семейств. Выяснилось, что они с Агнес состоят в каком-то дальнем родстве.
— Ваша матушка, кажется, жива? Какой вы счастливец! Моя-то давно умерла. И мне, наверное, тоже недолго осталось жить. Предчувствуешь ведь… — И она улыбнулась грустно и виновато.
Дидерих ничего не ответил, решив про себя, что это глупая сентиментальность. Еще помолчали — и как только оба торопливо заговорили, неожиданно явился мекленбуржец. Победно улыбнувшись и заглянув Дидериху в глаза, он стиснул ему руку с такой силой, что Дидерих поморщился. Мекленбуржец решительно придвинул стул чуть не к самым коленям Агнес и принялся весело и самоуверенно расспрашивать ее о том, что могло интересовать только их двоих. Предоставленный самому себе, Дидерих сделал открытие, что Агнес, если смотреть на нее спокойными глазами, не так уж потрясающе хороша. И, пожалуй, даже вовсе некрасива. Нос у нее слишком маленький, чуть-чуть вогнутый, правда, тонкий, но обсыпан веснушками. Золотисто-карие глаза посажены близко друг к другу и щурятся, когда она взглядывает на кого-нибудь. Губы чересчур тонкие, все лицо узкое. «Если бы не пышно взбитые рыжие волосы, оттеняющие белую кожу…» Он чувствовал удовлетворение оттого, что ноготь на ее пальце, который он облизал, был не очень чист.
Вошел господин Геппель со своими тремя сестрами. Одна из них была с мужем и детьми. Отец и тетки по очереди обнимали и целовали Агнес, проявляя преувеличенную горячность и бережность. Девушка выделялась среди них своим высоким ростом и стройностью; она рассеянно смотрела сверху вниз на тех, кто обнимал ее хрупкие плечи. В ответ она поцеловала лишь отца, медленно и серьезно. Дидерих наблюдал за всей сценой, он даже видел на виске у Агнес, под сеткой рыжих волос, светло-голубые жилки, попавшие в солнечный луч.
Ему пришлось вести в столовую одну из теток. Мекленбуржец взял под руку Агнес. Вокруг длинного семейного стола зашуршали шелковые воскресные платья. Мужчины аккуратно укладывали на колени полы сюртуков, откашливались, потирали руки. Наконец подали суп.
Дидерих сидел поодаль от Агнес; чтобы увидеть ее, пришлось бы наклониться вперед, а этого он старательно избегал. Соседка оставляла его в покое, и он поглощал невероятные количества телячьего жаркого с цветной капустой. Подаваемые кушанья подвергались детальному обсуждению, Дидериху тоже пришлось подтвердить, что все очень вкусно! Агнес убеждали не увлекаться салатом, советовали выпить красного вина и допытывались, не гуляла ли она сегодня утром — упаси боже! — без калош. Господин Геппель, повернувшись к Дидериху, рассказывал, что как-то раз он и его сестры бог весть каким образом потеряли друг друга на Фридрихштрассе и встретились потом только в омнибусе.
— Да, это вам не Нетциг! — воскликнул он, гордо поглядывая через стол на Дидериха. Мальман и Агнес заговорили о каком-то концерте. Ей ужасно хотелось пойти, и она не сомневалась, что папаша разрешит ей. Геппель мягко отговаривал ее, а тетки хором подпевали. Агнес нужно пораньше ложиться и поскорее выехать за город, на свежий воздух: за зиму она переутомилась. Агнес не соглашалась.
— Вы держите меня взаперти, ужасные вы люди!
Дидерих мысленно стал на ее сторону. В нем вспыхнул порыв героизма: ему захотелось сделать так, чтобы Агнес вольна была поступать как ей заблагорассудится, чтобы она была счастлива и всем этим обязана ему… Тут господин Геппель спросил, не пойдет ли он тоже в концерт?
— Не знаю, — сказал он небрежно и взглянул на Агнес, напряженно подавшуюся вперед. — Что это за концерт? Я бываю только на таких, где можно пить пиво.
— Вполне резонно, — заметил шурин Геппеля. Агнес откинулась назад, и Дидерих пожалел о своих словах.
Крем, которого все ждали с нетерпением, все еще не был подан. Геппель посоветовал дочери поглядеть, в чем дело. Не успела она отставить свою тарелочку с компотом, как Дидерих вскочил — стул его отлетел к стене — и решительным шагом двинулся к дверям.
— Мария! Крем! — крикнул он в коридор. Багровый, ни на кого не глядя, вернулся он на свое место. И все же отлично видел, что все перемигнулись. Мальман даже презрительно фыркнул. Шурин наигранно простодушным тоном сказал:
— Галантность прежде всего! Похвально!
Геппель нежно улыбался Агнес, а она не отводила глаз от своей тарелки. Дидерих с такой силой уперся коленом в стол, что доска начала подниматься. Он думал: «Господи боже, и как это меня угораздило!»
Когда встали из-за стола, он всем пожал руку. Только Агнес старательно обошел. В гостиной, куда перешли пить кофе, он постарался сесть так, чтобы широкая спина Мальмана заслонила его от Агнес. Одна из теток пожалела Дидериха и решила занять его разговором.
— Что вы изучаете, молодой человек? — спросила она.
— Химию.
— Ах так, физику?
— Да нет же, химию.
— Ах, так.
Как ни торжественно она начала, на большее ее не хватило.
Дидерих мысленно обозвал ее безмозглой дурой. Все общество было не по нем. Он тоскливо и неприязненно разглядывал всех, пока не распрощались последние родственники. Агнес с отцом проводили их. Вернувшись, Геппель удивленно взглянул на одиноко сидящего Дидериха. Он вопросительно помолчал и вдруг сунул руку в карман. Когда же молодой человек, не попросив у него взаймы, собрался уходить, Геппель очень тепло пожал ему руку.
— Непременно передам от вас дочери привет, — даже сказал он, а в дверях, чуть-чуть замявшись, прибавил: — Приходите же в следующее воскресенье!
Дидерих твердо решил никогда больше не переступать порог этого дома. И, однако, на следующий день, забыв все на свете, кинулся разыскивать магазин, где можно было бы купить для Агнес билет в концерт. Первым делом ему пришлось прочитать все афиши, чтобы вспомнить имя музыканта, о котором говорила Агнес. Тот или не тот? Как будто названа была именно эта фамилия. Дидерих решился. Но услышав, что билет стоит четыре марки пятьдесят, он широко раскрыл глаза от ужаса. Потратить такую уйму денег, чтобы лицезреть музыканта! Если б можно было незаметно удрать! Заплатив и очутившись на улице, он прежде всего вознегодовал: какой грабеж! Но затем спохватился, что это для Агнес, и был потрясен собственной щедростью. Он двигался среди уличной сутолоки, умиленный и счастливый. Это были первые деньги, потраченные им не на себя.
Он сунул билет в пустой конверт, ничего больше не вложил в него и для маскировки вывел адрес каллиграфическим почерком. Когда он стоял у почтового ящика, вдруг показался иронически улыбающийся Мальман. Дидерих почувствовал, что пойман с поличным, отдернул руку от ящика и посмотрел на нее. Но Мальман только сказал, что ему хочется поглядеть, как устроился Дидерих. Однако! Можно подумать, что здесь живет старая дева. Даже кофейник привез с собой из дому. Дидериху стыдно было до слез. Глядя, как Мальман, перебирая его учебники, раскрывает и захлопывает их с презрительной гримасой, он почувствовал, что стыдится и своей специальности. Мекленбуржец развалился на диване и спросил:
— Как вам понравилась Геппель? Пальчики оближешь, а? Ну вот, опять покраснел! Да флиртуйте с ней, сделайте милость! Честь и место. У меня пятнадцать других на примете.
И в ответ на пренебрежительное замечание Дидериха:
— Зря это вы. Тут пожива вполне возможна. Или я ничего не понимаю в женщинах! Эти рыжие волосы! А как она строит тебе глазки, когда думает, что никто не видит! Вы заметили?
— Мне она не строит глазки, — еще пренебрежительнее сказал Дидерих. — Да и плевать мне.
— Вам же хуже! — Мальман оглушительно загоготал, а затем предложил кутнуть. Пошли странствовать по пивным. Когда вспыхнули первые огни газовых фонарей, оба уже едва держались на ногах. Немного спустя, на Лейпцигерштрассе, Мальман ни с того ни с сего влепил Дидериху здоровенную оплеуху. Дидерих сказал:
— Ну, знаете, это уже… — Слово «нахальство» он проглотил. Мекленбуржец похлопал его по плечу.
— По дружбе, детка! Только по дружбе! — крикнул он и в довершение всего занял у Дидериха его последние десять марок… Четыре дня спустя он застал Дидериха ослабевшим от голода и великодушно выделил ему из денег, которые опять где-то призанял, три марки. В воскресенье у Геппелей, — если бы Дидерих так не отощал, он, быть может, и не пошел бы к ним, — Мальман доложил за столом, что Геслинг все свои деньги прокутил и сегодня ему надо наесться до отвала. Господин Геппель и его шурин сочувственно рассмеялись, но Дидерих, поймав на себе пытливый и грустный взгляд Агнес, не знал куда деваться — уж лучше бы ему не родиться на свет божий. Она его презирает. В отчаянии он утешал себя: «Не все ли равно, ведь она всегда презирала меня». Вдруг Агнес спросила, не он ли прислал ей билет в концерт. Все повернулись к нему.
— Вздор! С чего вдруг я стал бы этим заниматься! — сказал он так нелюбезно, что все ему поверили. Агнес не сразу отвела от него глаза. Мальман обнес дам конфетами и поставил коробку перед Агнес. Дидерих словно забыл о ее присутствии. Он ел еще больше, чем в прошлый раз. Все равно они думают, что он только затем и пришел! Кофе решили пить в Груневальде, и Дидерих тотчас же заявил, что у него свидание. Он даже прибавил:
— С человеком, которого я никак не могу заставить напрасно ждать.
Геппель положил ему на плечо плотную руку, наклонился и, прищурившись, сказал вполголоса:
— Будьте покойны, вы, разумеется, наш гость.
Но Дидерих возмутился и заверил, что причина вовсе не в этом.
— Тогда по крайней мере обещайте, что запросто придете когда вздумается, — сказал на прощанье Геппель, и Агнес кивнула, как бы в подтверждение. Она даже сама собиралась что-то сказать, но Дидерих не стал дожидаться. Остаток дня он склонялся по улицам, самодовольно упиваясь грустью, сознанием принесенной жертвы. А вечером сидел в переполненной пивной и, подперев голову руками, время от времени кивал своему одинокому стакану, будто теперь только постиг предначертания судьбы.
Что он мог поделать с наглым и бесцеремонным Мальманом, который занимал у него деньги? В воскресенье мекленбуржец явился с букетом для Агнес, и Дидерих, пришедший с пустыми руками, вправе был бы сказать: «Цветы, фрейлейн, если хотите знать, от меня». Но он промолчал и разозлился больше на Агнес, чем на Мальмана. Мальманом он невольно восхищался: тот, например, мог ночью подбежать сзади к прохожему и хлопнуть его по цилиндру, — хотя Дидерих ясно сознавал, что такие выходки — предостережение ему самому.
В конце месяца он неожиданно получил из дому деньги, которые мать скопила ко дню его рождения, и появился у Геппелей с букетом, не слишком пышным, чтобы не показаться смешным и не раздразнить Мальмана. Молодая девушка, принимая букет, растроганно взглянула на Дидериха, и он улыбнулся ей покровительственно и в то же время смущенно. Это воскресенье представлялось ему каким-то удивительно праздничным; его ничуть не удивило предложение пойти всем вместе в зоологический.
Двинулись в поход. Мальман сосчитал, что их было одиннадцать. Женщины, попадавшиеся им по пути, как и сестры Геппеля, были одеты совершенно не так, как в будни: сегодня все они казались дамами из высшего общества. Или они получили наследство? На мужчинах были сюртуки; лишь немногие носили к ним гладкие черные брюки, как Дидерих; почти все были в соломенных шляпах. Когда сворачивали в боковую улицу, она простиралась перед ними широкая, ровная и пустынная, — ни прохожего, ни кучки конского навоза. И только в одной из таких улиц маленькие девочки в черных чулках и белых платьях, увешанных бантами, водили хоровод и пели пронзительными голосами. На главных улицах потеющие матроны штурмовали омнибусы; рядом с их пунцовыми лицами приказчики, без всяких церемоний воевавшие с ними за места, казались обморочно-бледными. Все устремлялись вперед, все неслись к единой цели, туда, где они, наконец, вкусят от радостей жизни. На лицах была написана решимость: «Эй, посторонись, мы вдосталь потрудились!»
Дидерих изображал перед дамами бывалого берлинца. В вагоне городской железной дороги он взял с бою несколько мест. Господину, который метил на одно из них, он сильно наступил на ногу. Господин крикнул: «Нахал!» Дидерих не остался в долгу. Тут выяснилось, что это знакомый Геппеля, и оба, как только их представили друг другу, начали наперебой выставлять себя ревнителями рыцарских нравов. Ни один не желал садиться, пока другой стоит.
За столом Дидерих очутился рядом с Агнес — почему это сегодня все так счастливо складывалось? — и когда она сразу же после кофе захотела пойти смотреть зверей, он бурно поддержал ее. Его распирало от избытка предприимчивости. Дойдя до узкого прохода между клетками хищников, дамы повернули назад. Дидерих предложил Агнес сопровождать ее.
— Уж лучше возьмите в провожатые меня, — сказал Мальман. — Если из какой-нибудь клетки выскочит прут…
— То и вам его не водворить на место, — отпарировала Агнес и двинулась по проходу. Мальман разразился своим оглушительным хохотом. Дидерих шел за Агнес. Ему было страшно оттого, что слева и справа без единого звука, только шумно дыша, на него кидались хищники, и оттого, что впереди, распространяя благоухание, шла молодая девушка. Вдруг она повернулась к нему и сказала:
— Не люблю бахвалов!
— В самом деле? — спросил радостно взволнованный Дидерих.
Вы сегодня милый, — сказала Агнес; а он:
— Хотелось бы всегда быть таким.
— Правда? — И ее голос едва заметно дрогнул.
Они взглянули друг на друга с одинаковым выражением: словно каждый подумал, что всего этого не заслуживает.
Агнес пожаловалась:
— Звери ужасно скверно пахнут.
И они повернули обратно. Их встретил Мальман.
— Мне было интересно, не сбежите ли вы. — Он отвел Дидериха в сторону. — Ну-с, как наша милашка? Дело на мази? Я вам сразу сказал, что тут особого искусства не требуется.
Дидерих онемел.
— Вы, видно, ринулись в атаку? Ну, так слушайте! Я пробуду в Берлине еще только один семестр: когда я уеду, пожалуйста, принимайте наследство. А до тех пор будьте любезны подождать… — На его маленьком по сравнению с громоздким торсом лице вдруг появилась ехидная гримаса: — Дружок!
И он отпустил Дидериха. Тот насмерть перепугался и уже не смел даже близко подходить к Агнес. Она рассеянно слушала Мальмана и, повернувшись к отцу, шедшему позади, крикнула:
— Папа, какой замечательный день! Сегодня я себя прекрасно чувствую.
Геппель обеими руками обхватил ее руку выше локтя и сделал вид, будто хочет крепко прижать к себе дочь, но он едва ее касался. Его смеющиеся блестящие глазки увлажнились. Как только родственники попрощались и ушли, он подозвал к себе Агнес и обоих молодых людей и заявил, что этот день надо отпраздновать: он предлагает погулять по Унтерденлинден, а затем где-нибудь поужинать.
— Папа становится ветреником! — воскликнула Агнес и оглянулась на Дидериха. Но он шел, опустив глаза. В вагоне городской железной дороги он по своей неловкости оказался отрезанным от остальной компании, а на Фридрихштрассе, в людском водовороте, вместе с Геппелем отстал от Мальмана и Агнес. Вдруг Геппель остановился, растерянно пошарил по животу и воскликнул:
— Где часы?
А от часов с цепочкой уже и след простыл. Мальман спросил:
— Сколько лет вы живете в Берлине, господин Геппель?
— Да-а, — протянул Геппель и обратился к Дидериху — Тридцать лет живу в этом городе, но такого со мной ни разу не случалось! — И с гордостью добавил — Видите? В Нетциге таких происшествий не бывает.
Вместо того чтобы идти в ресторан, пришлось отправиться в полицейский участок и заявить о пропаже. Агнес начала кашлять. Геппель вздрогнул и пробормотал:
— Пожалуй, все мы очень устали.
Он преувеличенно весело распрощался с Дидерихом. Тот, казалось, не заметил протянутой руки Агнес и неловким движением приподнял шляпу. Не успел Мальман оглянуться, как Дидерих с удивительным проворством вскочил в проходящий омнибус. Удрал! И каникулы уже начинаются! Дома он, правда, с шумом и треском пошвырял на пол толстые учебники химии и уже схватился за кофейник. Но где-то хлопнула дверь, и он быстро все подобрал. Потом тихо сел в угол дивана, опустил голову на руки и заплакал. Сначала все шло так прекрасно! А оказывается, он угодил в расставленные сети. Так делают все девушки. Завлекают только затем, чтобы поиздеваться над жертвой вместе со своим милым. Дидерих отлично понимал, что не ему тягаться с таким типом. Он мысленно поставил рядом себя и Мальмана. Нет, он не понял бы девушки, которая остановила бы выбор на нем, Дидерихе. «Что я возомнил о себе? — думал он. — Только дура могла бы в меня влюбиться». Он изнемогал от страха, как бы не явился мекленбуржец. «Да на что она мне сдалась! Унести бы только поскорее ноги!» Целые дни он сидел взаперти, каждый нерв у него дрожал от отчаянного напряжения. Получив деньги, он немедленно уехал. Мать не узнала своего Дидериха, она подвергла его ревнивому допросу. В такой короткий срок он из мальчика превратился в мужчину.
— Да, вот что значит берлинская улица!
Дидерих горячо поддержал мать, когда она потребовала, чтобы он перевелся в какой-нибудь маленький университетский городок и не возвращался более в Берлин. Отец же полагал, что тут есть и «за» и «против». Он подробно расспрашивал Дидериха о Геппелях. Видел ли он геппелевскую фабрику? Побывал ли у других деловых знакомых? Геслинг хотел, чтобы на каникулах Дидерих познакомился с производством бумаги на отцовской фабрике.
— Годы мои уже не мягкие, а мой гранатный осколок здорово щекочет меня.
Дидерих, когда только мог, старался улизнуть из дому. Он бродил по Геббельхенскому лесу или по берегу Руггского ручья, близ Гозе, и находил в природе отклик на свои чувства. Он научился этому. Впервые в жизни ему представилось, что холмы на горизонте как будто грустят, томятся великой тоской, что солнце — это солнце его любви, а дождь — это слезы, которые небо проливает вместе с ним. Он много плакал теперь. Даже пытался сочинять стихи.
Однажды, зайдя в аптеку, он увидел за прилавком своего школьного товарища Готлиба Горнунга.
— Этим летом я изображаю из себя аптекаря, — сказал Горнунг. Он уже успел как-то по недосмотру отравиться, и его скрючило, как угря. Весь город об этом говорил! Но осенью он собирается в Берлин, чтобы, так сказать, теоретически подковаться в своем деле. А что, в Берлине, наверное, здорово интересно? Дидерих, воодушевленный сознанием своего превосходства, не жалея красок, стал расписывать свои берлинские похождения. Аптекарь пообещал:
— Вместе с тобой мы перевернем весь Берлин.
И Дидерих малодушно поддакнул. Мысль о маленьком университетском городе была отброшена. В конце лета Дидерих вернулся в Берлин. Горнунгу до окончания практики оставалось еще несколько дней. Дидерих и заходить не стал на свою прежнюю квартиру. От Мальмана и Геппелей он бежал на другой конец города, в Гезундбруннен. Там он засел в ожидании Горнунга. Но Горнунга, хотя и сообщившего о своем выезде, все не было… Наконец он явился в какой-то зелено-желто-красной шапочке. Оказалось, что один из коллег тотчас же завербовал его в некое объединение, куда обязательно надо вступить и Дидериху. Это «Новотевтония», высокоаристократическая корпорация, — сказал Горнунг. Фармацевтов там всего шестеро. Дидерих скрыл свой страх под маской пренебрежения, но от Горнунга не так-то просто было отделаться. Он не допускал и мысли, что Дидерих, о котором он уже говорил, поставит его в неловкое положение; придется сходить туда хотя бы гостем.
— Но только разок, — решительно заявил Дидерих.
Этот «разок» тянулся до тех пор, пока Дидерих не упал под стол и его не уволокли. Когда он проспался, его опять затащили в кабачок — на «утреннюю кружку пива»; он уже был внесен в списки «собутыльников».
Казалось, что Дидерих рожден для этой роли. Он вступил в широкий круг людей, которые не причиняли ему зла и требовали только одного: чтобы он пил. За всех, кто предлагал ему чокнуться, он благодарно и дружелюбно поднимал свою кружку. Пить или не пить, сидеть или стоять, говорить или петь — все это в большинстве случаев не от него зависело. Это делалось под громогласную команду, и если точно ее выполнять, можно жить в полном согласии с собой и с миром. Когда Дидерих впервые не упал под стол после очередного искуса — осушить три кружки пива подряд в трижды три глотка, — он улыбнулся собутыльникам, едва ли не конфузясь собственной виртуозности.
Но это было ничто по сравнению с его совершенством в пении. Еще в школе он принадлежал к числу лучших певцов и знал наизусть, на какой странице песенника находится та или иная песня. И теперь было так же: ему стоило только ткнуть пальцем в раскрытый корпорантский песенник, лежащий на подставке в луже пива, и он раньше всех находил тот номер, который надо было петь. Часто он весь вечер почтительно глядел в рот вожаку в надежде, что тот, наконец, произнесет название его любимой песни. Если это случалось, Дидерих залихватски рявкал: «Черта с два они знают, что свободой зовется»; он слышал, как рядом с ним гудит толстяк Делицш, и испытывал блаженство от чувства сладостной безопасности в полумраке этого низенького старонемецкого кабачка, с корпорантскими шапочками на стене, в атмосфере, насыщенной запахами пива и разгоряченных человеческих тел, видя вокруг отверстые рты, поющие и пьющие одно и то же. В поздние ночные часы ему даже чудилось, что все они — единое потеющее тело.
Он растворился в корпорации, думавшей и желавшей за него. И в то же время здесь он был мужчиной, который вправе уважать себя, ибо имеет честь принадлежать к своей корпорации. Никто на свете не в силах вырвать его из этого круга, причинить зло ему одному. Пусть бы сунулся сюда Мальман, пусть бы посмел насесть на него: вместо одного Дидериха двадцать человек поднялись бы против Мальмана. Дидерих даже хотел, чтобы тот явился, — таким неустрашимым он чувствовал себя. Пусть даже вместе с Геппелем. Пусть бы они посмотрели теперь на него, Дидериха, и он был бы отомщен.
Особой симпатией проникся Дидерих к самому добродушному из всех, к своему соседу, толстяку Делицшу. Нечто глубоко успокоительное, располагающее к доверию было в этом всегда юмористически настроенном человеке, в этой гладкой белой глыбе жира, которая широко переваливалась через края стула, нагромождением подушек поднималась до уровня стола и, словно достигнув желанного предела, неподвижно застывала, и только рука равномерно поднимала и опускала кружку с пивом. Делицш, как никто другой, был здесь на своем месте; кто видел его за столом, забывал, что он может и на ногах стоять. Он был словно создан для сидения за столом, уставленным бутылками. Его брюки, обычно уныло обвисавшие на заду, мощно вздувались, словно расцветали улыбкой, как только он садился. Только с этого мгновенья расцветало и лицо его. Он сиял радостью жизни, блистал остроумием.
Если какой-нибудь новичок в шутку отбирал у него кружку, разыгрывалась целая драма. Делицш, не трогаясь с места, следовал взглядом за похищенной кружкой с таким выражением, точно в ней заключалась вся жизнь с ее бурями и треволнениями. Он кричал шутнику своим пронзительным саксонским тенорком:
— Смотри, мальчик, не пролей! И вообще, как ты смеешь отнимать у меня единственную усладу жизни? Ты же подло, злонамеренно подрываешь мое здоровье! Имею полное право вчинить тебе иск!
Если шутка заходила слишком далеко, пухлое белое лицо Делицша вытягивалось, он просил, молил. Но едва только пиво возвращалось к нему, какое всепрощение светилось в его улыбке, как прояснялось его лицо! Он говорил:
— Ты все-таки добрая душа, живи же и будь здоров! — Он выпивал пиво до последней капли и стучал крышкой, подзывая служителя-студента — Прошу, господин оберкорпорациус!
Случалось, что спустя несколько часов Делицш вместе со стулом поворачивался к водопроводной раковине и наклонял над ней голову. Журчала вода. Изо рта у Делицша вырывались клохчущие звуки, точно он вот-вот задохнется, и несколько человек, заразившись, выскакивали в туалет. Еще болезненно морщась, но уже с новым запасом юмора Делицш придвигался к столу.
— Ну, теперь можно начинать сызнова, — говорил он. — О чем вы тут толковали без меня? Нет у вас, вижу, Других тем, как только о бабах болтать? А что от них проку? — И все повышая голос — Меньше, чем от кружки прокисшего пива. Прошу, оберкорпорациус!
Дидерих был совершенно того же мнения. Он узнал женщин и не желает с ними иметь дела. Несравненно более идеальные ценности несло в себе пиво.
Пиво! Алкоголь! Сиди и пей сколько влезет, пиво не то что кокетки, оно не изменит, не смутит твой покой. Оно не требует от тебя никаких поступков и решений, не надо ни хотеть, ни добиваться, как с женщинами. Все происходит само собой. Глоток-другой — и ты уже чего-то достиг, ты уже вознесен на вершины жизни, ты уже свободный человек, внутренне свободный. Пусть пивную оцепит хоть целый отряд полицейских, — пиво, которое ты глотаешь, обращается в твою внутреннюю свободу. Ты словно уже защитил докторскую диссертацию. Ты уже «готов», уже доктор! Занимаешь положение, богат, влиятелен. Ты владелец крупной фабрики художественных открыток или туалетной бумаги. И труд твоей жизни не пропадает даром: то, что ты производишь, попадет в тысячи рук. Сидя за столом в пивной, ты охватываешь весь земной шар, начинаешь понимать великую взаимосвязь вещей, сливаешься воедино с мировым духом. О, пиво так поднимает человека над самим собой, что он видит бога!
Жить и жить бы так целые годы. Однако новотевтонцы требовали еще и другого. Чуть не с первого дня они твердили ему о великих моральных и материальных выгодах полной принадлежности к корпорации; постепенно они все откровеннее заявляли, что пора уже ему подвергнуться боевому крещению. Напрасно он ссылался на свое, всеми признанное, звание собутыльника, с которым он свыкся и которое его вполне удовлетворяет. Ему возражали, что одними только попойками, как они ни плодотворны, еще не достигается цель студенческого сплочения, воспитание мужества и идеализма. Дидерих дрожал: ему было очень хорошо известно, что это значит. Он должен драться на рапирах! Давно уже у него неприятно ёкало сердце, когда корпоранты, размахивая палками в воздухе, показывали ему, как наносятся удары рапирами, или когда кто-либо из новотевтонцев являлся в черной шапочке, распространяя запах йодоформа. И удрученный Дидерих думал: «Зачем я поддался уговорам и сделался собутыльником! Теперь мне не отвертеться!»
И не отвертелся. Но с первого же раза страх его прошел. На него надели шлем, очки и так тщательно укутали, что большой беды с ним не могло приключиться. У него не было оснований не подчиняться команде с такой же готовностью и послушанием, как и в кабачке, а поэтому он постиг искусство фехтования скорее, чем другие. При первом же порезе у него закружилась голова: он почувствовал кровь на щеке. Но когда ему зашили рану, он готов был танцевать от счастья и упрекал себя в том, что приписывал этим славным людям злой умысел. Именно тот, кого он больше всего боялся, взял его под свое покровительство и стал его доброжелателем и воспитателем.
Вибель был юрист. Этого одного уже оказалось достаточно, чтобы Дидерих ему беспрекословно подчинялся. Не без самоуничижения смотрел он на костюмы из английского сукна, в которые одевался Вибель, и на множество цветных рубашек, которые тот менял одну за другой, пока все они не отправлялись в стирку. Но больше всего Дидериха ошеломляли манеры Вибеля. Когда тот с легким изящным поклоном предлагал ему чокнуться, лицо Дидериха страдальчески морщилось от напряжения, он весь съеживался, половину пива расплескивал, а остаток выпивал, давясь. Вибель разговаривал тихим надменным голосом феодального суверена.
— Как хотите, но манеры, изящная ф-форма — это не пустой предрассудок, — изрекал он часто.
Произнося «ф» в слове форма, он складывал рот воронкой и медленно выталкивал звук из ее черной глубины. Дидериха каждый раз заново прохватывала дрожь от такой изысканности. Все в Вибеле казалось ему утонченно аристократическим: и то, что рыжеватая щетина усов росла высоко на губе, и то, что длинные ногти у него загибались книзу, а не кверху, как у Дидериха, и исходивший от него сильный мужской запах, и оттопыренные уши, подчеркивавшие эффект прямого пробора, и глаза, по-кошачьи прятавшиеся под нависшими надбровьями. На все это Дидерих смотрел с неизменным сознанием собственного ничтожества. Но с тех пор как Вибель с ним заговорил и даже стал его покровителем, Дидериху казалось, что только теперь подтверждено его право на существование. От переполнявшей его благодарности хотелось вилять хвостом. Сердце ширилось от блаженного восторга. Если бы у него хватило дерзости, он пожелал бы, чтобы у него тоже была такая красная шея, чтобы он тоже всегда потел. А предел мечтаний — пришепетывать, как Вибель!
И вот Дидериху позволено служить ему, он — лейб-фукс, телохранитель Вибеля! Он постоянно присутствовал при его утреннем вставании, собирал принадлежности его туалета, и так как Вибель неаккуратно платил за квартиру и не пользовался расположением хозяйки, варил ему кофе и чистил штиблеты. В награду ему разрешалось повсюду следовать за Вибелем. Когда Вибель уединялся в уборной, Дидерих стоял снаружи на часах и жалел, что при нем нет ружья, которое можно взять на плечо.
И Вибель стоил того, чтобы ему поклонялись. Никто с таким блеском, как он, не отстаивал честь корпорации, в которой заключались также честь и достоинство Дидериха. Вибель с кем угодно мог подраться за новотевтонцев. Однажды он, говорят, здорово вздул члена корпорации «Виндоборуссия», чем поднял престиж «Новотевтонии». Кроме того, во втором гвардейско-гренадерском полку имени кайзера Франца-Иосифа служил его родственник, и когда бы Вибель ни называл имя своего кузена фон Клапке, все новотевтонцы, польщенные, неизменно склоняли головы. Дидерих старался представить себе кого-либо из рода Вибелей в форме гвардейского офицера, но это было уже за пределами человеческого воображения. И вот однажды, когда Дидерих и Готлиб Горнунг шли, благоухая одеколоном, из парикмахерской, где ежедневно брились, они заметили на углу Вибеля с каким-то казначеем. Нет, они не ошиблись — то был казначей, и как только Вибель завидел их, он повернулся к ним спиной. Они тоже отвернулись и молча, решительно пошли в другую сторону, не обменявшись ни единым взглядом, ни единым словом. Каждый подозревал, что другой тоже уловил сходство между казначеем и Вибелем. Быть может, остальные давно уже были осведомлены на этот счет? Но все они так дорожили честью корпорации, что молчали, больше того, готовы были забыть виденное собственными глазами. Когда Вибель сказал как-то: «Мой кузен фон Клапке», — Дидерих и Горнунг, польщенные, как всегда, склонили головы вместе с другими.
Дидерих научился уже владеть собой, блюсти приличия и дух корпорации, стремиться к возвышенному. С жалостью и отвращением думал он о шатком существовании неприкаянных одиночек, каким раньше был он сам. Теперь в его жизни господствовали порядок и чувство долга. В определенный час, минута в минуту, он являлся на квартиру к Вибелю, к парикмахеру, в фехтовальный зал, на «утреннюю кружку пива». После обеда, послонявшись по городу, шел в кабачок новотевтонцев; и каждый шаг совершался на глазах всей корпорации, с педантичным соблюдением целого кодекса приличий и взаимного почитания, не исключавшего добродушной грубости. Однажды Дидерих натолкнулся у входа в туалет на одного из корпорантов, с которым был лишь едва знаком; и, хотя оба уже еле держались на ногах, ни один не желал войти первым. Они долго и учтиво уступали друг другу дорогу, пока не ринулись, света невзвидев, к дверям, и в туалет протиснулись как два сцепившихся кабана, так что кости затрещали. Это было началом дружбы. Сблизившись в чисто человеческой ситуации, они затем уселись рядом за официально отведенным их корпорации столом и выпили на брудершафт. Один сказал: «Свинья», другой ответил: «Осел».
Жизнь в корпорации не всегда поворачивалась к ним своей веселой стороной. Она требовала искупительных жертв; она прививала мужество, умение сносить удары. Сам Делицш, так часто веселивший их, стал источником скорби для «Новотевтонии». Как-то утром Дидерих и Вибель зашли за ним. Он стоял, склонившись над умывальным тазом:
— А, это вы? Меня сегодня ужасно мучает жажда… — пролепетал он только и рухнул наземь — они даже не успели поддержать его, — увлекая за собой все, что стояло на умывальнике. Вибель ощупал его. Делицш был недвижим.
— Разрыв сердца, — коротко сказал Вибель. Вытянувшись по-военному, он подошел к звонку. Дидерих подобрал осколки и вытер пол. Несдержанность хозяйки, огласившей комнату горестными воплями, лишь подчеркивала их суровую собранность. На то они и корпоранты! По дороге в полицию, где надо было выполнить ряд формальностей, они шагали в ногу, и Вибель говорил с непоколебимым презрением к смерти:
— С каждым из нас может такое случиться. Бражничать — дело не шуточное. Поверьте мне.
И вместе со всеми Дидерих испытывал гордость за Делицша, исполнившего свой долг и павшего на поле чести. Корпоранты шли за гробом с высоко поднятыми головами: «Наше знамя — Новотевтония», — говорили их лица. На кладбище все стояли, склонив рапиры, задрапированные черным крепом, и углубившись в себя, словно воины, которых каждое следующее сражение так же может выхватить из рядов, как минувшее выхватило их соратника. А первый староста, превознося усопшего, сказал, что он завоевал высшую награду в школе мужества и идеализма. Эти слова потрясли всех, точно относились к каждому в отдельности.
На этом кончилось обучение Дидериха — Вибель покинул корпорацию; он готовился в референдарии — в кандидаты на судебную должность. Отныне Дидериху надлежало самостоятельно проводить усвоенные принципы, внедрять их в молодое поколение. И он строго проводил их, с чувством высокой ответственности. Горе новичку, заслужившему штраф — осушить жбан до дна. Не проходило и пяти минут, как проштрафившийся, держась за стену, торопливо пробирался к выходу. Но самая страшная кара постигла того, кто однажды позволил себе пройти в дверь первым, не уступив дорогу Дидериху. Его на целую неделю отлучили от пивных возлияний. Не гордыней и не самолюбием руководствовался при этом Дидерих, а лишь высоким представлением о чести корпорации. Он был всего лишь человек и, стало быть, нуль; все права, авторитет, вес сообщала ему она — корпорация. И физически он всем был обязан ей — полнотой белого лица, брюшком, поднимавшим его престиж в глазах новичков, и привилегией в торжественных случаях появляться в высоких сапогах, с шарфом через плечо и в корпорантской шапочке, упиваясь сознанием, что на нем форма. Правда, ему, например, все еще приходилось отступать перед лейтенантом, ибо корпорация, в которую имели доступ лейтенанты, была выше дидериховской; но зато с кондуктором конки можно было обращаться бесцеремонно, не опасаясь отпора. Мужественность была написана на его лице грозными письменами-шрамами; они исполосовали подбородок, щеки и врубались даже в череп под коротко остриженные волосы. А как приятно было ежедневно доказывать свою мужественность кому только вздумается! Однажды подвернулся счастливый случай. Дидерих и Готлиб Горнунг отправились вместе с горничной своей хозяйки на танцы в Галензее. Вот уж несколько месяцев, как друзья поселились в одной квартире, привлеченные хорошенькой горничной. Оба делали ей маленькие подарки, а по воскресеньям ходили с ней гулять. Дидерих мог лишь строить догадки насчет того, добился ли Горнунг такого же успеха в своих домогательствах, как сам он. Официально и по мотивам корпоративной чести он считал, что это ему неизвестно.
Роза была неплохо одета и пользовалась успехом на балу. Дидериху, которому хотелось протанцевать с ней еще одну польку, пришлось напомнить, что он подарил ей перчатки. Он уже отвесил учтивый поклон — необходимое вступление к танцу, — как вдруг между ним и Розой вырос кто-то третий и унесся с ней в польке. Смущенный Дидерих смотрел вслед танцующей паре, и в душе у него шевелилось неясное чувство, что такой поступок требует возмездия. Но, раньше чем он тронулся с места, какая-то девушка бросилась в гущу танцующих, влепила Розе затрещину и довольно неделикатно разлучила ее с партнером. Дидерих в тот же миг ринулся к похитителю Розы.
— Милостивый государь, — сказал он, твердо глядя ему в глаза, — ваш поступок не имеет названия.
— Ну и пусть, — ответил тот.
Озадаченный неожиданным оборотом столь официального разговора, Дидерих буркнул:
— Грубиян!
— Мужлан! — живо ответил тот и хихикнул.
Дидерих окончательно растерялся от такой безграничной невоспитанности и уже хотел было поклониться и отступить, но незнакомец вдруг пнул его в живот, и в то же мгновение оба, сцепившись, покатились по полу. Под визг и улюлюканье окружающих они дрались до тех пор, пока их не разняли. Готлиб Горнунг, шаривший по полу в поисках пенсне Дидериха, крикнул: «Да он улепетнет!» — и побежал вдогонку. Дидерих — за ним.
Они успели увидеть, как незнакомец в сопровождении еще одного молодого человека вскочил в наемный экипаж. Они тоже сели в пролетку и помчались за своими противниками. Горнунг заявил, что корпорация не примирится с таким пятном на ее чести.
— Ничтожество! Дал стрекача, а даму оставил на произвол судьбы.
Дидерих объявил:
— С Розой у меня все копчено.
— У меня тоже.
Ехали и волновались:
— Догоним ли? Нам попался какой-то одёр.
— А что, если это плебей? Если он не способен дать сатисфакцию?
Решили: в таком случае эпизод официально не имел места.
Первый экипаж остановился перед богатым домом, в западной части Берлина. Не успели Дидерих и Горнунг подъехать, как дверь захлопнулась. Они решительно стали на часы у подъезда. Было холодно, они принялись шагать возле дома — двадцать шагов налево, двадцать направо, — ни на секунду не выпуская из виду двери и без конца повторяя энергично и воинственно одно и то же. Драться только на пистолетах. Дорого заплатит обидчик за попрание чести «Новотевтонии»! Только бы он не оказался пролетарием!
Наконец появился швейцар, и ему учинили допрос. Пытались описать ему наружность молодых людей, но особых примет ни у того, ни у другого не могли припомнить. Горнунг, горячась еще больше Дидериха, утверждал, что надо ждать, и они битых два часа вышагивали по улице. Но вот из дома вышли два офицера. Дидерих и Горнунг смотрели на них, вытаращив глаза: те или не те? Офицеры были неприятно поражены. Один из них как будто даже побледнел. И тогда Дидерих решился. Он подошел к тому, что побледнел.
— Милостивый государь…
Голос у него сорвался. Лейтенант растерянно сказал:
— Вы, вероятно, ошиблись.
— Отнюдь нет, — с трудом выжал из себя Дидерих. — Я требую удовлетворения. Вы осмелились…
— Да я вас не знаю, — пробормотал лейтенант. Но его спутник шепнул ему на ухо: «Так же нельзя», потребовал у него визитную карточку и, достав свою, вручил обе Дидериху. Дидерих подал карточку в свой черед и затем прочитал: «Альбрехт, граф Тауэрн-Беренгейм». Он уже не стал тратить время на то, чтобы прочесть вторую карточку, а принялся усердно отвешивать частые поклоны. Второй офицер между тем обратился к Горнунгу:
— Мой друг разрешил себе пошутить без всякого злого умысла. Само собой, он готов дать вам любое удовлетворение; я хотел лишь сказать, что у него не было намерения обидеть вас.
Он взглянул на своего спутника; тот только пожал плечами. Дидерих пробормотал:
— О, благодарю, благодарю!
— Будем считать, что инцидент исчерпан, — прибавил второй офицер, и оба удалились.
Дидерих все еще не трогался с места. Лоб у него был влажен, мысли путались. Вдруг он глубоко вздохнул, и лицо его медленно расплылось в улыбке.
Вечером, во время выпивки, разговор вертелся только вокруг этого эпизода. Дидерих расхваливал перед своими коллегами подлинно рыцарское поведение графа.
— Истинный аристократ никогда не изменяет себе.
Он сложил рот воронкой и, медленно выталкивая слова, изрек:
— Говорите что угодно, но хороший тон, ф-форма — не пустой предрассудок.
Через каждые два слова он призывал Горнунга в свидетели великой минуты, пережитой им.
— И ни малейшего чванства, верно? Шутка как-никак рискованная, но на них и не обидишься. Держатся б-безукоризненно, могу вам сказать. Объяснения его сиятельства были безусловно удовлетворительными, так что я счел невозможным… Вы понимаете, ведь я не какой-нибудь невежа.
Все понимали и все уверяли Дидериха, что «Новотевтония» вышла с честью из этого дела. Визитные карточки обоих аристократов передавались новичками из рук в руки, а затем были приколоты под скрещенными рапирами к портрету кайзера. В этот вечер не осталось ни одного новотевтонца, который бы не напился до потери сознания.
На этом кончился семестр, но ни у Дидериха, ни у Горнунга не было денег на дорогу домой. Да и вообще денег давно уже не было. Обязанности, налагаемые корпоративной жизнью, требовали таких расходов, что сумма, высылаемая Дидериху, достигла двухсот пятидесяти марок. И все же долги одолевали его. Казалось, все источники иссякли, вокруг раскинулась, на сколько хватает глаз, высохшая, изнемогающая от жажды земля… Волей-неволей пришлось, хоть это и не по-рыцарски, подумать о взыскании денег, данных некогда взаймы собутыльникам. Несомненно, кое-кто из «стариков» теперь уже ворочает большими, деньгами. У Горнунга таких должников не нашлось. Дидерих вспомнил Мальмана.
— У этого деньги водятся, — пояснил он. — Но ни в одной корпорации он не был; мужлан из мужланов. Надо взять его за бока.
Увидев Дидериха, Мальман с места в карьер разразился своим громоподобным хохотом, который Дидерих почти забыл; и ему сразу стало не по себе. Как он бестактен, этот Мальман! Ведь надо же понимать, что вместе с Дидерихом здесь, в бюро патентов, незримо присутствует вся «Новотевтония», уже во имя ее Мальману следовало бы проникнуться уважением к Дидериху. У него было такое чувство, точно его грубо вырвали из какого-то животворящего целого и вот он один стоит лицом к лицу с противником. Положение непредусмотренное и невеселое! Тем развязнее приступил он к делу. Он, разумеется, не просит вернуть ему долг. С приятелем так не поступают. Он лишь просит Мальмана о маленькой любезности: поручиться за его вексель. Мальман откинулся на спинку кресла и отчеканил твердо и просто:
— Нет.
Дидерих в замешательстве спросил:
— То есть как это — нет?
— Не в моих правилах ручаться за чужие векселя, — заявил Мальман.
Дидерих побагровел от негодования.
— Но ведь я поручился за вас, а потом мне предъявили вексель, и я выложил сто марок. Вы-то уклонились.
— Вот видите? А если бы я сейчас согласился дать за вас поручительство, вы бы тоже не уплатили.
Дидерих только глазами хлопал.
— Нет, дружок, если я решусь на самоубийство, я обойдусь без вас.
Дидерих овладел собой и с вызовом бросил:
— Вы не имеете понятия о рыцарской чести, сударь.
— Нет! — подтвердил Мальман и оглушительно захохотал.
— В таком случае вы попросту мошенник. Известно, что где патенты, там и мошенники, — сказал Дидерих, выразительно подчеркивая каждое слово.
Мальман уже не смеялся. Глаза на маленьком лице загорелись злым огоньком; он встал.
— А теперь я попрошу вас выйти вон, — произнес он, не повышая голоса. — Меня мало трогают ваши благоглупости, но рядом сидят мои подчиненные, им незачем слушать такие вещи.
Схватив гостя за плечи, он повернул его спиной к себе и стал толкать к двери. За каждую попытку вырваться Дидерих получал увесистый удар кулаком.
— Я требую удовлетворения! — кричал он. — Вы должны драться со мной!
— А я и дерусь. Не чувствуете? Тогда я позову еще кого-нибудь. — Он открыл дверь. — Фридрих!
Дидерих был вручен из рук в руки упаковщику, который спустил его с лестницы. Мальман крикнул ему вслед:
— Не взыщите, дружок. Захочется вам опять поговорить по душам, приходите без церемоний.
Дидерих привел себя в порядок и, приосанившись, вышел на улицу. Тем хуже для Мальмана, если он так себя повел! У Дидериха же совесть чиста: на суде чести у него была бы блестящая позиция. Возмутительно, что какой-то там индивид может позволить себе такие вольности. Дидерих был оскорблен за все существующие корпорации. Но вместе с тем воскресло и его былое уважение к Мальману. «Подлая скотина, — думал он, — но таким нужно быть…»
Дома его ждало заказное письмо.
— Ну вот, мы можем ехать, — сказал Горнунг.
— Как это «мы»? Эти деньги мне самому нужны.
— Ты, верно, шутишь? Не могу же я один здесь торчать.
— Поищи себе компанию!
Дидерих разразился таким хохотом, что Горнунг подумал: уж не спятил ли он? Но Дидерих в самом деле собрался и уехал.
По дороге он спохватился, что адрес на конверте написан рукой матери. Это было необычно… Мать сообщала, что со времени ее последней открытки отцу стало намного хуже. Почему Дидерих не приехал?
«Мы должны быть готовы к самому ужасному. Если хочешь свидеться с нашим горячо любимым папочкой, не мешкай, сын мой».
Тон письма смутил Дидериха. Но он решил, что матери верить не стоит. «Женщинам я вообще не верю, а мама особенно склонна к преувеличениям».
Тем не менее, когда Дидерих приехал, господин Геслинг действительно был при последнем издыхании.
Дидерих, потрясенный видом умирающего отца, забыл все свои правила и чуть не на пороге разревелся. Шатаясь, подошел к постели. В одно мгновенье лицо его взмокло, точно облитое водой. Он часто-часто взмахивал руками и бессильно хлопал себя по бедрам. Ему бросилась в глаза правая рука отца, лежавшая поверх одеяла, он опустился на колени и поцеловал ее. Фрау Геслинг, безгласная и робкая даже в последние мгновения жизни своего владыки, целовала его левую руку, по другую сторону кровати. Дидерих, вспоминая, как этот изувеченный черный ноготь устремлялся к его лицу, когда отец давал ему оплеуху, громко заплакал. А побои за кражу пуговиц! Страшна была эта рука; но при мысли, что он теряет ее, у Дидериха горестно сжималось сердце. Он чувствовал, что мать думает о том же, а она читала его мысли. И они одновременно потянулись друг к другу через кровать и обнялись.
Принимая знакомых, пришедших выразить ему соболезнование, Дидерих уже вполне владел собой. Здесь, перед всем Нетцигом, он был представителем «Новотевтонии» и щеголял выдержкой и изысканностью манер. Он чувствовал на себе восторженные взгляды и временами почти забывал, что ему полагается скорбеть. Старого господина Бука он встречал у парадных дверей. Этот грузный старик, великий человек города Нетцига, в своем ослепительном сюртуке был царственно величав. Держа перед собой перевернутый цилиндр и сняв черную перчатку, он с достоинством подал Дидериху удивительно мягкую, нежную руку. Его голубые глаза тепло смотрели на Дидериха.
— Ваш отец, молодой человек, был хорошим гражданином, идите же и вы по его стопам! Неизменно уважайте права своих сограждан. Это повелевает вам собственное человеческое достоинство. Надеюсь, что мы с вами еще поработаем вместе на благо нашего города. Вы как будто уже заканчиваете свое образование?
От благоговения Дидерих едва мог выговорить «да». Старик Бук спросил уже в более легком тоне:
— Мой младший сын еще не навестил вас в Берлине? Нет? О, он непременно заглянет к вам. Он ведь тоже там учится. Но скоро ему придется отслужить свой год. А вы уже покончили с этим?
— Нет… — ответил Дидерих и до ушей залился краской. Он что-то бормотал, стараясь оправдаться. Никак нельзя было прервать занятий в университете. Но старик Бук лишь пожал плечами, как видно, не придавая особого значения этой теме.
По завещанию, Дидерих вместе со старым бухгалтером Зетбиром назначался опекуном своих сестер. Зетбир доложил ему, что капитал, семьдесят тысяч марок, отец отписал дочерям — на приданое. Даже проценты с него неприкосновенны. За последние годы чистая прибыль в среднем составляет девять тысяч.
— А не больше? — спросил Дидерих.
Зетбир взглянул на него сначала с ужасом, а потом с глубокой укоризной. Если бы молодой господин мог себе представить, чего стоило покойному отцу и ему, Зетбиру, поднять фабрику на такую высоту! Разумеется, производство можно развернуть еще шире…
— Ну, ладно, ладно, — прервал его Дидерих. Он видел, что тут все нужно менять. Существовать на четвертую часть от девяти тысяч? Это требование усопшего возмутило его. Когда мать сказала, будто покойный на смертном одре выразил уверенность, что будет жить в сыне своем, что сын никогда не женится и до гроба будет нести заботу о семье, Дидерих вскипел.
— Отец никогда не молол такого сентиментального вздора, — закричал он, — и не лгал к тому же!
Фрау Геслинг показалось, что это кричит ее покойный владыка, и она втянула голову в плечи. Дидерих воспользовался этим, чтобы повысить размер своего месячного содержания на пятьдесят марок.
— Прежде всего я должен отслужить свой год в армии, — сказал он сипло. — Чего бы это ни стоило. А потом уж будете надоедать мне вашими мелочными делишками.
Он настоял даже на том, чтобы призываться в Берлине. Со смертью отца у него появилось чувство сумасшедшей свободы. Ночами, правда, ему снилось, что из конторы выходит отец и лицо у него землистое, как тогда в гробу… И Дидерих, обливаясь холодным потом, просыпался.
Он уехал, напутствуемый благословением матери. Готлиб Горнунг и общая Роза его уже не устраивали, и он переменил квартиру. Новотевтонцам он в подобающей форме показал, что обстоятельства изменились. Чудесная студенческая жизнь кончилась. Прощальная пирушка! Пили за упокой отца Дидериха, но это были поминки не только по отцу, а и по лучшей цветущей поре жизни самого Дидериха. Из чистого самопожертвования Дидерих пил так, что вскоре очутился под столом, как в вечер своего посвящения в «собутыльники»; и вот он уже «старик».
Еще не совсем придя в себя после попойки, стоял он на следующий день среди других догола раздетых молодых людей перед военным врачом. Тот, брезгливо морщась, озирал все эти мужские тела, которые ему предстояло освидетельствовать; взгляд его, остановившись на брюшке Дидериха, принял насмешливое выражение. Тотчас же все вокруг захихикали, и Дидериху ничего другого не оставалось, как опустить глаза на собственный покрасневший живот… Военный врач вновь сурово насупился. Призывнику, у которого слух оказался ниже установленной нормы, не поздоровилось: знаем мы этих симулянтов. Следующему, который к тому же звался Левизон, было сделано замечание:
— Если вас еще раз нелегкая принесет сюда, то по крайней мере вымойтесь сначала.
Дидериху он сказал:
— Жир вы у нас спустите. Месяц службы, и, ручаюсь, вы примете человеческий облик.
Дидерих был признан годным. Забракованные так молниеносно одевались, точно казарме грозил пожар. Признанные годными искоса бросали друг на друга испытующие взгляды и почему-то мешкали уходить, точно ожидая, что вот-вот на плечо им упадет чья-то свинцовая рука. Один из новобранцев, по-видимому актер, с лицом, выражавшим полное безразличие ко всему окружающему, вернулся и, став перед врачом, громко сказал, тщательно выговаривая каждое слово:
— Я хотел бы сделать дополнительное заявление: я гомосексуалист.
Врач, красный как рак, отпрянул. Он глухо ответил:
— Таких свиней нам, разумеется, не нужно.
Дидерих, возмущенный бесстыдным поведением актера, поделился своими чувствами с будущими товарищами. Потом он обратился к унтер-офицеру, только что измерившему у стены его рост, и торжественно его заверил, что он счастлив. Тем не менее он написал в Нетциг врачу Гейтейфелю, который так часто смазывал ему горло в детстве; он просил Гейтейфеля не отказать в любезности и удостоверить, что он, Дидерих Геслинг, страдал золотухой и рахитом. Ведь армейская муштра вконец подорвет его здоровье. Доктор ответил, что незачем ему отлынивать от военной службы, она пойдет ему только впрок. Дидерих отказался от квартиры и, захватив небольшой чемодан, отправился в казарму. Если уж придется пробыть там хотя бы две недели, квартирная плата останется у него в кармане.
Тотчас же начались упражнения на турнике, прыжки и другие страсти, от которых спирало дыхание. В коридорах, называвшихся «районами», производилось учение по ротам. Лейтенант фон Куллеров был весь равнодушие и надменность, на вольноопределяющихся он смотрел не иначе, как зажмурив один глаз. Неожиданно рявкнув: «Унтер!», он отдавал ему распоряжение и презрительно отворачивался. Учения на казарменном дворе, все эти «равнения», «перебежки» и прочее преследовали единственную цель — загонять «молодцов» до потери чувств. Да, Дидерих убедился, что все здесь — обращение, особый жаргон, муштра — сводится к одному: вышибить, насколько возможно, чувство личного достоинства из человека. Но для него и в этом было что-то внушительное, вызывавшее в нем в самые тяжелые минуты — и даже особенно в эти минуты — восторг самоуничтожения. Это были те же принципы и идеалы, которые прививались Новотевтонцам, но здесь они внедрялись более свирепо. Здесь не было даже тех коротких минут задушевности, когда человек вправе был вспомнить, что он человек. Всех и каждого круто и неуклонно низводили до положения тли, ничтожной частицы, теста, которое месит чья-то гигантская воля. Безумием и гибелью было бы возмутиться даже в самой сокровенной глубине сердца… В крайнем случае можно было иной раз, идя против собственных убеждений, прикинуться больным. Во время перебежек Дидерих упал и ушиб ногу. Не так сильно, чтобы хромать, но он хромал, и ему разрешили остаться в казарме, когда его рота отправилась на учение «на местности». За разрешением он пошел непосредственно к самому капитану.
— Господин капитан, прошу вас…
Это была катастрофа! В своем неведении он дерзнул обратиться к власти, тогда как ему лишь полагалось, мысленно преклонив колени, безмолвно выслушивать ее приказания! К власти, перед которой он мог предстать только в единственном случае: когда его звали! Капитан метал громы и молнии, сбежались все унтер-офицеры, и на лицах у них был написан ужас перед кощунственным поступком Дидериха. С перепугу Дидерих захромал сильнее, и пришлось дать ему освобождение еще на один день.
Унтер-офицер Ванзелов, ответственный за проступок вольноопределяющегося Геслинга, сказал лишь:
— А еще образованный!
Он привык к тому, что все неприятности исходят только от вольноопределяющихся. Ванзелов спал в их помещении за перегородкой. Когда гасили свет, разговоры становились такими непристойными, что негодующий Ванзелов кричал из-за перегородки:
— А еще образованные!
Несмотря на долголетний опыт, он все еще ждал от вольноопределяющихся более разумного и благородного поведения, чем от рядовых, и каждый раз терпел разочарование. Дидерих отнюдь не был у него на худшем счету. Мнение Ванзелова зависело не только от пива, которым угощали его подчиненные. Больше всего ценил он в солдате радостную готовность повиноваться, а она у Дидериха была. На занятиях уставом его можно было приводить в пример другим. Он был весь проникнут идеалами воинского мужества и чести. Что касается знаков различия и иерархической лестницы, то в этом он разбирался, казалось, со дня рождения. Ванзелов говорил:
— Теперь я его превосходительство господин генерал.
И Дидерих тотчас же всем своим поведением показывал, что свято в это верит. Когда же Ванзелов провозглашал. «Теперь я член императорской фамилии», Дидерих вел себя так, что на губах унтера появлялась улыбка маньяка, страдающего манией величия.
За столиком солдатского трактира, в задушевном разговоре с начальником, Дидерих заявлял, что он в восторге от армейской жизни.
— Растворяться в великом целом! — говорил он. Ничего на свете он так не желал бы, как на всю жизнь остаться в армии. Это говорилось искренне, и, однако, во время послеобеденных учений «на местности» им овладевало единственное желание — забраться в окоп и спрятаться от всех и от всего. Слишком тесный, придававший стройность фигуре мундир после обеда превращался в орудие пытки. Невелика радость, если капитан, отдавая команду, лихо гарцует на своем коне, — ведь сам-то ты бегаешь, пыхтишь и отдуваешься, слыша, как непереваренный суп урчит у тебя в кишках. Вообще говоря, Дидерих готов был всем восхищаться здесь, но восхищение отступало перед личными невзгодами. Нога у него опять разболелась. Не без презрения к самому себе он прислушивался к боли с робкой надеждой, что она усилится. Тогда его освободят от ученья «на местности», быть может даже и на казарменном дворе. И, наконец, отпустят на все четыре стороны.
Дело дошло до того, что в воскресенье он отправился к отцу одного своего «собутыльника», тайному медицинскому советнику. Краснея от стыда, он попросил господина советника посодействовать ему. Он влюблен в армию, в это великое целое, и с радостью остался бы на военной службе до конца дней своих. В этом великолепном механизме становишься, так сказать, частицей власти и всегда знаешь, что тебе делать, — чувство, ни с чем не сравнимое! Но ведь нога-то больная.
— Нельзя же допустить, чтобы ее отняли. Ведь я кормилец матери и сестер.
Тайный советник осмотрел ногу.
— «Новотевтония» — наше знамя, — сказал он. — Я случайно знаком с вашим полковым врачом.
Об этом Дидериху уже было известно со слов приятеля-корпоранта. Он откланялся и ушел со страхом и надеждой в душе.
Воодушевленный этой надеждой, Дидерих на следующее утро едва ступал на ногу. Он сказался больным.
— Кто вы такой? Что вам от меня надо? — Штабной врач окинул его взглядом. — Вид у вас цветущий, жир мы уже немного согнали.
Но Дидерих стоял навытяжку и не уходил: болен да и только. Начальнику пришлось снизойти до освидетельствования. Когда Дидерих разулся, врач заявил, что, не закури он сигару, ему стало бы дурно. Ничего угрожающего он не нашел и, возмущенный, столкнул Дидериха со стула.
— В казарму — и точка. Можете идти.
На том дело и кончилось. Но на учении Дидерих вдруг вскрикнул и упал. Его доставили в «околоток», госпиталь для легкобольных, где разило простонародьем и нечего было есть. Кормиться за собственный счет, как положено вольноопределяющимся, здесь было трудно, а из общего котла Дидерих ничего не получал. Голод заставил его объявить себя здоровым. Отлученный от гражданского мира с его обычными человеческими правами, он покорился своей мрачной участи, как вдруг однажды утром, когда все надежды были утрачены, его вызвали с учения в кабинет полкового врача. Само высокое начальство пожелало его освидетельствовать. Старший врач говорил сначала чисто человеческим, несколько смущенным тоном, который сменила воинская суровость, но и в ней чувствовалась некоторая неловкость. Он также не нашел у Дидериха ничего страшного, и все-таки его заключение носило другой характер. Дидериху было предложено «временно» продолжать службу, а там уж все как-нибудь уладится.
— С такой ногой…
Спустя несколько дней к Дидериху явился санитар из «околотка» и на зачерненной бумаге сделал оттиск злополучной ноги. Дидериху пришлось дожидаться в приемной «околотка». Штабной врач, совершавший как раз обход, не преминул выказать ему свое глубокое презрение:
— Даже не плоскостопие! Ну и лодырь!
Тут распахнулась дверь, и в приемную, с фуражкой на голове, торжественно вступил полковой врач. Он шел твердым, четким шагом, не оглядываясь ни вправо, ни влево; молча остановившись перед своим подчиненным, он сурово и мрачно уставился на его фуражку. Озадаченный штабной врач старался приспособиться к положению, явно исключавшему привычный коллегиальный тон. Наконец он смекнул, снял фуражку и встал во фронт. Начальник протянул ему зачерненную бумагу с оттиском ноги и заговорил с ним тихо и настойчиво, как бы приказывая увидеть то, чего нет. Штабной врач, прищурившись, переводил взгляд с начальника на Дидериха и с Дидериха на бумагу. Потом щелкнул каблуками: он увидел то, что ему приказывали видеть.
После ухода полкового врача он подошел к Дидериху и вежливо, со слабой улыбкой, означавшей, что он все понимает, сказал:
— Конечно, все было ясно с самого начала… Но ради солдат… Дисциплина, сами понимаете…
Дидерих стоял, руки по швам, всем своим видом показывая, что он, разумеется, понимает.
— Но я, конечно, знал, как решится этот вопрос, — повторил штабной врач.
Дидерих подумал: «А если и не знал, то теперь знаешь». Вслух он проговорил:
— Позволю себе покорнейше спросить, господин штабной врач: ведь я смогу продолжать службу?
— Не ручаюсь, — ответил врач и, круто повернувшись, отошел.
Отныне Дидерих был освобожден от тяжелых учений: «на местности» его больше не видели. Зато в казарме он был воплощением радостной исполнительности. Когда по вечерам, во время переклички, приходил из казино, слегка подвыпивший, с сигарой в зубах, капитан и сажал под арест какого-нибудь злополучного солдата, начистившего сапоги ваксой, вместо того чтобы просто смазать их, — к Дидериху он не мог придраться. Тем безжалостнее обрушивал он всю свою праведную строгость на другого вольноопределяющегося, который вот уж три месяца спал в общей казарме в виде наказания за то, что первые две недели службы ночевал дома: он лежал в горячке с температурой до сорока градусов, и если бы исполнил свой долг, то, вероятно, не выжил бы. Ну что ж, пусть бы не выжил! Стоило капитану увидеть этого вольноопределяющегося, как на лице у него появлялось выражение горделивой удовлетворенности. За их спинами Дидерих, смиренный и невредимый, думал:
«Вот видишь? «Новотевтония» и тайный медицинский совётник — это, пожалуй, посильнее, чем жар в сорок градусов».
Пришел день, когда все канцелярские формальности были выполнены, и унтер-офицер Ванзелов объявил, что Дидерих увольняется из армии. Глаза Дидериха тотчас же увлажнились: он тепло пожал руку Ванзелову.
— Надо же, чтобы именно со мной случилось такое, а ведь я… — он всхлипнул, — я с такой готовностью…
И вот он за воротами казармы.
Месяц он просидел дома, занимаясь зубрежкой. Идя обедать, озирался по сторонам: только бы не встретить кого из знакомых. Явившись в кабачок, он заговорил с апломбом:
— Кто не служил, и представления не имеет, что это такое. Видишь мир совсем в другом свете. Я бы с радостью навсегда остался в армии, начальники даже советовали мне, уверяли, что у меня наилучшие данные. Ну, и вот…
Он устремил вдаль страдальческий взгляд.
— Несчастный случай. А все оттого, что я ревностно исполнял свой долг солдата. Капитан приказал мне запрячь двуколку и проездить его лошадку. Вот тут-то и случилась беда. Разумеется, я не щадил пострадавшую ногу и слишком рано вернулся в казарму. Состояние мое ухудшалось день ото дня. Штабной врач на всякий случай посоветовал мне известить своих.
Последние слова он произнес сдержанно и мужественно:
— Надо было вам видеть нашего капитана! Он самолично навещал меня каждый день после долгих переходов, как был, в запыленном мундире. Только в армии и бывают такие отношения. В те трудные дни мы с ним тесно сблизились. Вот эта сигара подарена им. И когда ему пришлось сказать, что полковой врач хочет освободить меня от военной службы… такие минуты, смею вас уверить, не забываются. И у меня и у капитана выступили слезы на глазах.
Слушатели были потрясены. Дидерих обвел всех мужественным взглядом.
— Ну, стало быть, хочешь не хочешь, надо возвращаться к гражданской жизни. Ваше здоровье!
Он продолжал зубрить, а по субботам бражничал с новотевтонца ми. Появился в их кругу и Вибель. Асессор, чуть ли уже не прокурор, он говорил только о «растленных взглядах», «врагах родины» и «христианско-социалистических идеях». Он разъяснял новичкам, что настала пора заниматься политикой. Он знает, что это не аристократично, но нельзя же уступать натиску противника. К движению примкнула даже родовитая знать, например его друг асессор фон Барним. В ближайшие дни господин фон Барним почтит новотевтонцев своим присутствием.
Фон Барним пришел и пленил все сердца, он держался с корпорантами, как равный с равными. У него были гладкие, расчесанные на пробор темные волосы, повадки — исполнительного чиновника и деловой тон. Однако к концу речи в его взгляде появилось мечтательное выражение, он быстро попрощался, тепло пожав всем руки. Когда он ушел, новотевтонцы дружно сошлись на том, что еврейский либерализм — это предтеча социал-демократии, что немцам-христианам необходимо сплотиться вокруг придворного проповедника Штеккера{6}. Дидерих так же, как и другие, вкладывал в слово «предтеча» какой-то весьма туманный смысл, а под «социал-демократией» понимал всеобщую дележку. С него этого было достаточно. Но господин фон Барним пригласил к себе всех желающих для дальнейшего разъяснения этих вопросов, и Дидерих, конечно, не простил бы себе, если бы пренебрег столь лестной возможностью.
В своей старомодной и неуютной холостяцкой квартире фон Барним прочел ему целую лекцию. Его политический идеал, сказал он, это сословное представительство, как в блаженную пору средневековья: рыцари, духовенство, кустари, ремесленники. Ремесла, — и в этом кайзер совершенно прав, — следует вновь поднять на тот высокий уровень, на котором они пребывали до Тридцатилетней войны{7}. Задача ремесленных цехов — насаждать благочестие и высокую нравственность. Дидерих от души соглашался с ним. Эти идеалы отвечали его внутреннему складу: строить свою жизнь не в одиночку, а корпоративно, опираясь на узаконенную принадлежность к сословию, к своему классу. Мысленно он уже видел себя депутатом от бумажной гильдии. Еврейских сограждан господин фон Барним, разумеется, исключал из своего государственного устройства — ведь они воплощение таких начал, как беспорядок и распад, разброд и непочтительность, словом — воплощение самого зла. Благочестивое лицо фон Барнима перекосилось от ненависти, нашедшей у Дидериха сочувственный отклик.
— Да разве власть в конечном счете не в наших руках? Мы можем их попросту вышвырнуть. Германское воинство…
— Вот-вот! — выкрикнул фон Барним, бегая из угла в угол. — Во имя чего, скажите на милость, мы воевали и одержали победу? Во имя того, чтобы я продал свое родовое имение какому-то Франкфуртеру?
Потрясенный Дидерих молчал. В эту минуту раздался звонок, и фон Барним объяснил:
— Это мой цирюльник. Надо взяться и за него!
Увидя разочарованное лицо Дидериха, он добавил:
— С такими господами, разумеется, я веду иные речи: каждый из нас обязан отторгнуть кого-нибудь от социал-демократии и перетянуть побольше мелкого люда в лагерь нашего христианнейшего кайзера. Внесите и вы свой вклад в это дело.
И фон Барним милостивым кивком отпустил Дидериха. Уходя, Дидерих слышал, как цирюльник жаловался:
— Еще один старый клиент перешел к Либлингу, господин асессор, и только потому, что Либлинг отделал свой салон мрамором.
Вибель, выслушав Дидериха, который передал ему речи фон Барнима, сказал.
— Все это хорошо и замечательно, и я чрезвычайно уважаю идеалистические убеждения моего друга фон Барнима, но с ними далеко не уйдешь. Видите ли, Штеккер в Айспаласте тоже пытался выехать на демократии, христианской и нехристианской, а что получилось? Зло пустило слишком глубокие корни. Нынче лозунг один: в атаку. В атаку, пока власть в наших руках.
И Дидерих, со вздохом облегчения, согласился. Возиться с вербовкой христиан сразу же показалось ему тягостным занятием.
— «Социал-демократию я беру на себя», — сказал кайзер. — Глаза Вибеля сверкнули, как у разъяренного кота. — Чего же вы еще хотите? Солдатам внушают, что им, возможно, придется стрелять в своих родных и близких. Что это значит? Могу сообщить вам, драгоценнейший, что мы накануне крупных событий.
Лицо Дидериха выразило живейшее любопытство, и Вибель добавил:
— То, что мне стало известно через моего кузена фон Клапке…
Вибель выдержал паузу. Дидерих щелкнул каблуками.
— …пока еще нельзя предать огласке. Замечу лишь, вчерашние слова его величества — «пусть злопыхатели отряхнут с ног своих прах Германии» — предупреждение весьма и весьма серьезное.
— В самом деле? Вы полагаете? — сказал Дидерих. — Как же мне не повезло! Подумать только: в такой момент я лишился возможности служить его величеству! Смею утверждать, что в борьбе с внутренним врагом я выполнил бы свой долг до конца. На армию, насколько мне известно, кайзер вполне может положиться.
В эти ненастные февральские дни 1892 года Дидерих подолгу слонялся по улицам Берлина в ожидании больших событий. Унтерденлинден как-то изменилась, пока еще трудно было уловить, в чем именно. На перекрестках дежурили конные полицейские, чего-то ожидая. Прохожие указывали друг другу на усиленные наряды полиции.
— Безработные!
Публика останавливалась, дожидаясь их приближения. Они двигались с северных окраин города небольшими колоннами, медленным походным шагом. Подходя к Унтерденлинден, они нерешительно, как бы в недоумении, останавливались, но, обменявшись взглядами, сворачивали к императорскому дворцу. Там они стояли безмолвно, засунув руки в карманы, не сторонясь экипажей, которые обдавали их грязью, и высоко поднимали плечи под дождем, падавшим на их выцветшие пальто. Шли, оглядывались на проходивших мимо офицеров, на дам в каретах, на длинные шубы прогуливающихся господ. Лица безработных ничего не выражали, на них нельзя было прочесть ни угрозы, ни даже любопытства; казалось, эти люди пришли сюда не смотреть, а себя показать. Многие, однако, не спускали глаз с окон дворца. По их поднятым лицам стекали капли дождя. Конный полицейский надсадно кричал, оттесняя их в противоположный конец площади или даже к углу ближайшей улицы, но они вновь и вновь возвращались, и, казалось, пропасть разверзлась между этими людьми, с их широкими осунувшимися лицами, освещенными бледным сумеречным светом, и неподвижной темнеющей громадой дворца.
— Непонятно, — говорил Дидерих, — почему полиция не принимает крутых мер против этой гнусной банды?
— Не беспокойтесь, — отвечал Вибель. — Полиции даны точные инструкции. Правительство, уверяю вас, действует по строго обдуманному плану. Не всегда желательно сразу же вскрывать нарыв, образовавшийся на теле государства. Ждут, пока он созреет, и тогда берутся за дело.
Нарыв, о котором говорил Вибель, с каждым днем созревал все больше, и двадцать шестого как будто окончательно созрел. Демонстрации безработных производили впечатление большей целеустремленности. Оттесненные в одну из северных улиц, они еще сильнее хлынули из соседней: им не успели отрезать путь. На Унтерденлинден колонны, сколько бы их ни разгоняли, строились заново; достигали дворца, отступали и снова шли к нему, безмолвно и неудержимо, как выступивший из берегов водный поток. Движение экипажей застопорилось, прохожие сбивались в кучки, увлеченные этим паводком, медленно затопившим Дворцовую площадь — этим тусклым, бескрасочным морем бедняков; оно упорно наступало, издавая глухой шум и высоко вознося, словно мачты тонущих кораблей, плакаты с надписями: «Хлеба! Работы!» Из недр толпы вырывался явственный гром: «Хлеба! Работы!» Он рокотал все сильнее, он перекатывался над головами людей, точно разряд грозовой тучи: «Хлеба! Работы!..» Но вот атака конной полиции, море вспенивается, оно течет вспять, из общего гула взлетают пронзительные, как вой сирен, женские голоса: «Хлеба! Работы!»
Демонстранты побежали, сбивая с ног прохожих, с памятника Фридриху любопытных точно ветром сдуло. Но у всех разинуты рты, от мелких чиновников, которые не могут попасть в свои ведомства, летит пыль, точно их выколачивают. Кто-то, с перекошенным от ярости лицом, кричит:
— Наступают новые времена! Поход на евреев! — и исчезает в толпе, прежде чем Дидерих спохватывается, что ведь это фон Барним. Он бросается вдогонку, но поток относит его в другую сторону, к витрине кафе. Раздается звон выдавленного стекла и крик рабочего:
— Отсюда меня давеча выставили за то, что на мне не было цилиндра. Плакали мои тридцать пфеннигов…
И он вместе с Дидерихом влез в кафе через окно и между опрокинутыми столиками прыгнул на пол, где люди падали, оступаясь на осколках, сшибались животами и орали:
— Никого не впускать! Здесь задохнуться можно!
Но в кафе набивалось все больше и больше людей. Полиция теснила толпу. А середина улицы вдруг оказалась пустой, словно очищенной для триумфального шествия. Кто-то сказал:
— Да это Вильгельм!
И Дидерих опять выскочил на улицу. Никто не знал, почему вдруг стало возможным шагать густой толпой во всю ширину улицы, почти касаясь боков лошади, на которой сидел кайзер; сам кайзер. Увидев его, каждый поворачивал и шел за ним. Сцепившиеся и кричавшие люди оставляли друг друга и неслись вслед. Все взгляды устремлялись на него. Темная лавина людей, бесформенная, стихийная, безбрежная, и над ней в светлом мундире и в каске — молодой человек, кайзер. Это они заставили его выйти из дворца. Они кричали «Хлеба! Работы!» до тех пор, пока он не пришел. Ничто не изменилось, но он здесь — и все уже печатают шаг, точно идут на парад, на Темпельгофское поле{8}.
С краю, где ряды были не так плотны, прилично одетые люди обменивались замечаниями:
— Ну, слава богу, он знает, чего хочет!
— А чего он хочет?
— Показать этой банде, у кого в руках власть! Он пытался быть мягким. Он даже слишком распустил вожжи два года назад. Они обнаглели.
— Страха он не знает, что и говорить. Дети мои, запомните: это исторический момент!
У Дидериха, услышавшего эти слова, мороз пробежал по коже. Пожилой господин, которому они принадлежали, обращался к нему. Дидерих увидел седые бакенбарды и Железный крест.
— Попомните мое слово, молодой человек, — продолжал незнакомец, — что когда-нибудь школьники будут читать в учебниках о том, что совершил сегодня наш несравненный молодой кайзер!
Многие шагали, гордо приосанившись, с торжественными лицами. Провожатые кайзера оглядывались вокруг с выражением крайней решимости, а коней своих вели сквозь толпу так, словно все эти люди согнаны, чтобы играть роль статистов в спектакле, в котором всемилостивейше соизволил выступить его величество. Иногда они искоса поглядывали на публику: достаточно ли она потрясена? А кайзер — он видел только себя и свой подвиг. На его лице застыло выражение глубокой серьезности, и только глаза метали молнии на тысячи завороженных людей. Он, богом поставленный владыка, мерялся силами с взбунтовавшимися рабами! Один, безоружный, он отважился появиться среди них, сильный одной только своей миссией. Пусть они посягнут на него, если на то есть воля всевышнего; он приносит себя в жертву святому делу. Если господь не покинул его, пусть они это увидят. Тогда величие его подвига и воспоминание о собственном бессилии запечатлеются в их сердцах на веки вечные.
Молодой человек в шляпе художника, шедший рядом с Дидерихом, сказал:
— Знакомая картина. Наполеон в Москве. Один, без свиты, на запруженных толпами улицах.
— Но ведь это великолепно! — воскликнул Дидерих, и голос у него сорвался. Незнакомец пожал плечами.
— Комедия, и даже не талантливая.
Дидерих взглянул на него, пытаясь сверкнуть очами, как кайзер.
— Вы, видно, тоже таковский.
Он не мог бы точнее определить, какой именно. Он чувствовал лишь, что впервые в жизни должен встать на защиту праведного дела против вылазок врага. Несмотря на обуревавшие его чувства, он все же сначала измерил взглядом плечи этого человека: нет, не широки. Да и все окружающие высказывали свое неодобрение. Дидерих решился. Тесня противника животом, он припер его к стене и ударил по шляпе. Удары посыпались со всех сторон. Вскоре шляпа лежала на земле, и человек тоже. Двигаясь дальше, Дидерих сказал своим соратникам:
— От воинской повинности он, конечно, отвертелся. И шрамов у него тоже нет.
Пожилой господин с бакенбардами и Железным крестом снова очутился рядом с Дидерихом. Он пожал ему руку:
— Молодец, юноша, молодец!
— Поневоле потеряешь терпение, — сказал Дидерих, еще не отдышавшись. — Этот тип хотел испортить нам исторический момент!
— Вы служили? — спросил пожилой господин.
— Я бы с радостью остался в армии навсегда, — сказал Дидерих.
— Да, да. Но не каждый день бывает Седан{9}! — Старик коснулся своего Железного креста. — Седан — это мы!
Дидерих выпрямился и показал на укрощенный народ и кайзера.
— Это не хуже Седана!
— Да, конечно, — сказал старик.
— Разрешите, уважаемый! — воскликнул некто, взмахнув своей записной книжкой. — Это надо дать в газету. Зарисовка, понимаете? Вы как будто намяли бока социалисту?
— Пустяки… — Дидерих все еще тяжело дышал. — Да хоть бы сию минуту был отдан приказ ринуться на внутреннего врага!.. Нам не страшно. С нами наш кайзер.
— Превосходно, — сказал репортер и записал: «В глубоко потрясенной толпе люди всех званий и состояний выражали свою горячую преданность и непоколебимое доверие к монарху».
— Ур-ра! — заорал Дидерих, потому что все орали, и мощной лавиной кричащих людей его внезапно вынесло к Бранденбургским воротам. Под аркой, в двух шагах впереди него, проскакал верхом на лошади кайзер. Дидерих мог разглядеть его лицо, остановившееся в каменных чертах выражение серьезности и сверкающий взгляд; но перед глазами у него все расплывалось — так он кричал. Опьянение, сильнее, чудеснее того, какое может дать пиво, приподняло его над землей, понесло по воздуху. Он размахивал шляпой высоко над головами толпы, в атмосфере клокочущего энтузиазма, в небесах, где парят наши возвышеннейшие чувства. Там, под триумфальной аркой, скакала на коне сама власть, с каменным ликом и сверкающими очами. Власть, которая растаптывает нас, а мы целуем копыта ее коня. Которая растаптывает все и вся — голод, бунт, насмешку. Перед которой мы безоружны, потому что мы ее любим. Она вошла в нашу кровь, потому что покорность у нас в крови. Мы лишь атом, бесконечно малая молекула ее плевка. Каждый из нас в отдельности — ничто, но всей своей массой, такими мощными ступенями, как новотевтонцы, чиновничество, церковь и наука, торговля и промышленность, могущественные объединения, мы поднимаемся пирамидой до самого верха, туда, где пребывает она, власть, железная и сверкающая! Жить в ней, быть ее частицей, беспощадной ко всем, кто не с ней, и ликовать, хотя бы она растаптывала нас, ибо этим-то она и оправдывает нашу любовь!
…Один из полицейских, оцепивших Бранденбургские ворота, так толкнул Дидериха в грудь, что у него заняло дух; но глаза его горели победоносным, головокружительным восторгом, словно это он скачет мимо укрощенных бедняков, проглотивших свой голод. За ним! За кайзером! Все чувствовали то же, что и Дидерих, цепь полицейских оказалась бессильна перед таким напором чувств, и ее прорвали. Напротив стояла вторая цепь. Надо было свернуть, окольными путями добраться до Тиргартена, найти лазейку. Немногие нашли ее; выскочив на дорожку для верховой езды, Дидерих один ринулся навстречу кайзеру, который тоже был один. Человек, в опаснейшем состоянии фанатического экстаза, весь в грязи, в изодранном платье, с безумными глазами: кайзер с высоты своего коня пронзал его сверкающим взглядом. Дидерих сорвал шляпу с головы, широко разинул рот, но голоса не было. Остановившись на всем ходу, он не удержался и с разбега, ногами кверху, шлепнулся в лужу; его обдало фонтаном грязной воды. Кайзер рассмеялся: да это, конечно, монархист, верноподданный! Повернувшись к свите, хлопая себя по ляжкам, кайзер хохотал. Дидерих, так и не закрыв рот, смотрел ему вслед из своей лужи.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Он кое-как почистился и повернул обратно. На одной из скамей сидела дама; Дидерих, подавляя в себе чувство стыда, подходил все ближе. Как назло, она почему-то пристально всматривалась в него. «Дура», — мысленно выругался он. И вдруг, увидев выражение сильного испуга на ее лице, он узнал Агнес Геппель.
— Я только что встретил кайзера, — брякнул он.
— Кайзера? — переспросила Агнес, словно возвращаясь из другого мира.
Дидерих, лихорадочно, размашисто жестикулируя — чего с ним обычно не бывало, — освобождался от всего, что его душило. Наш несравненный молодой кайзер, совершенно один среди беснующихся мятежников! Они разнесли какое-то кафе, он, Дидерих, сам был там! На Унтерденлинден он вступил в кровавый бой за своего кайзера. Из пушек бы по ним палить!
— Они, вероятно, голодают, — нерешительно сказала Агнес. — Они ведь тоже люди.
— Люди? — Дидерих свирепо повел глазами. — Внутренний враг, вот они кто.
Посмотрев в испуганные глаза Агнес, он сбавил тон: — Вам, вероятно, нравится, что по милости этого сброда пришлось оцепить все улицы?
Нет, Агнес это совсем не нравится. Она сделала в городе покупки и собиралась уже домой, на Блюхер-штрассе, но омнибусы не шли, нигде нельзя было протиснуться. Ее оттерли к Тиргартену. А тут еще холод, сырость, — отец, конечно, в тревоге, но что же делать? Дидерих пообещал все устроить. Они пошли вместе. Он вдруг растерял все мысли, не знал, о чем говорить, и вертел головой в разные стороны, как будто искал дорогу. Они были одни среди обнаженных деревьев и прелой прошлогодней листвы. Куда девались все его мужество и возвышенность чувств? Дидерих был подавлен, как во время последней прогулки с Агнес, когда он, напуганный Мальманом, вскочил в проходящий омнибус и обратился в бегство.
Агнес сказала:
— Как давно вы у нас не были, очень, очень давно. Ведь папа писал вам, кажется?
— Мой отец умер, — смешавшись, сказал Дидерих. Агнес поспешно выразила соболезнование, но затем снова спросила, почему он тогда, три года назад, так внезапно исчез?
— Ведь почти три года уже, не правда ли?
Дидерих почувствовал себя увереннее. Корпорация поглощала все его время. Ведь дисциплина там отчаянно суровая.
— А кроме того, я выполнил свой воинский долг.
— О! — Агнес взглянула на него. — Как вы много успели. Вы, вероятно, уже доктор?
— Вот теперь как раз готовлюсь к экзамену.
Он хмуро смотрел в одну точку. Его шрамы, солидность его фигуры, вся эта благоприобретенная возмужалость ничего для нее не значат? Она ничего не замечает?
— Но зато вы… — сказал он неучтиво. По ее худенькому, очень худенькому лицу разлился слабый румянец, заалел даже вогнутый носик с редкими веснушками.
— Да, я порой неважно себя чувствую, но это ничего, поправлюсь.
Дидериху стало ее жалко.
— Я, разумеется, хотел сказать, что вы очень похорошели. — И он посмотрел на ее рыжие волосы, выбившиеся из-под шляпы; оттого что она похудела, они казались еще более густыми, чем раньше. Разглядывая Агнес, он думал о пережитых унижениях, о том, как изменилась его жизнь. Он вызывающе спросил:
— Ну, а как поживает господин Мальман?
Агнес презрительно скривила губы.
— Вы его помните? Если бы я его встретила, то прошла бы мимо.
— Да? Но у него теперь бюро патентов, он мог бы отлично жениться.
— Что ж из того?
— Ведь раньше вы им интересовались?
— С чего вы взяли?
— Он всегда делал вам подарки.
— Я бы предпочла их не принимать, но тогда… — Она смотрела на дорогу, на прелую прошлогоднюю листву. — Тогда я не могла бы и от вас принимать подарки.
Она испугалась и замолчала. Дидерих понял, что свершилось нечто важное, и тоже онемел.
— Стоит ли говорить о такой безделице? Немного цветов… — наконец выдавил он из себя. И в новом порыве возмущения бросил — Мальман подарил вам даже браслет.
— Я никогда его не ношу, — сказала Агнес.
У Дидериха вдруг забилось сердце, он с трудом выговорил:
— А если бы этот подарок был от меня?
Молчание; он не дышал. Она чуть слышно произнесла:
— Тогда носила бы.
Они вдруг прибавили шагу и больше не проронили ни слова. Подошли к Бранденбургским воротам, увидели на Унтерденлинден грозный наряд полиции, заторопившись, прошли мимо и свернули на Доротеен-штрассе. Здесь было малолюдно. Дидерих вновь замедлил шаг и рассмеялся:
— Если вникнуть, это невероятно смешно. Все, что Мальман вам дарил, покупалось на мои деньги. Он отбирал у меня все, до последней марки. Я был еще совсем наивным юнцом.
Они остановились.
— О! — произнесла она, и в ее золотисто-карих глазах что-то дрогнуло. — Это ужасно. Можете вы мне это простить?
Он покровительственно улыбнулся. Дело прошлое. Недаром говорится: молодо-зелено.
— Нет, нет, — растерянно твердила Агнес.
Теперь самое главное, сказал он, как ей добраться до дому. Здесь тоже все оцеплено, омнибусов нет как нет.
— Мне очень жаль, но вам придется еще побыть в моем обществе. Кстати, я живу неподалеку. Вы могли бы подняться ко мне, по крайней мере были бы под крышей. Но, конечно, молодой девушке трудно на это решиться.
В ее взгляде по-прежнему была мольба.
— Вы так добры, — сказала она, учащенно дыша. — Так благородны. — Они вошли в подъезд. — Я ведь могу довериться вам?
— Я знаю, к чему обязывает меня честь моей корпорации, — объявил Дидерих.
Идти надо было мимо кухни, но, к счастью, там никого не было.
— Снимите пальто и шляпу, — милостиво сказал Дидерих.
Он стоял, не глядя на Агнес, и, пока она снимала шляпу, переминался с ноги на ногу.
— Пойду поищу хозяйку и попрошу вскипятить чай — Он уже повернулся к двери, но вдруг отпрянул: Агнес схватила его руку и поцеловала!
— Что вы, фрейлейн Агнес, — пролепетал он вне себя от испуга и, точно в утешенье, обнял ее за плечи; она припала к нему. Он глубоко зарылся губами в ее волосы, ему казалось, что теперь это его долг. Под руками Дидериха она задрожала, забилась, точно под ударами. Сквозь прозрачную блузку он ощутил влажное тепло. Дидериха бросило в жар, он поцеловал ее в шею. И вдруг ее лицо придвинулось близко-близко: полуоткрытый рот, полуопущенные веки и никогда еще не виданное им выражение; у него закружилась голова.
— Агнес, Агнес, я люблю тебя, — сказал он, словно изнемогая от глубокого страдания.
Она не ответила; из ее открытого рта толчками вырывалось теплое дыхание, он почувствовал, что она падает, и понес ее; ему чудилось, что она вот-вот растает у него на руках.
Потом она сидела на диване и плакала.
— Прости меня, Агнес, — просил Дидерих. Она взглянула на него мокрыми от слез глазами.
— Я плачу от счастья, — сказала она. — Я так давно жду тебя. Зачем? — спросила она, когда он начал застегивать ей блузку. — Зачем ты прикрываешь мне грудь? Разве я уже не нравлюсь тебе?
— Я отлично понимаю, какую взял на себя ответственность, — сказал он на всякий случай.
— Ответственность? — переспросила Агнес. — На ком же ответственность? Три года уже, как я люблю тебя. Ты этого не знал. Это судьба!
Дидерих, который слушал, засунув руки в карманы, подумал, что это судьба легкомысленных девушек. И все же он испытывал потребность вновь и вновь слушать ее заверения.
— Значит, ты и вправду меня, одного меня любила?
— Я чувствовала, что ты мне не веришь. Какой это был ужас, когда я поняла, что больше тебя не увижу, что всему конец. Да, ужас. Я хотела тебе написать, пойти к тебе. Но у меня не хватило духу — ведь ты меня не любил. Я так извелась, что папа увез меня из Берлина.
— Куда? — спросил Дидерих. Но Агнес не ответила. Она опять притянула его к себе.
— Будь добр со мной. У меня никого, кроме тебя, нет!
Смущенный Дидерих мысленно ответил ей: «Немного же у тебя есть». С той минуты, как он получил доказательство ее любви, Агнес упала в его глазах. Он говорил себе, что девушке, которая решилась на такой шаг, нельзя по-настоящему верить.
— А Мальман? — ехидно спросил он. — Кое-что все-таки между вами было… — Она выпрямилась и застыла с выражением ужаса на лице. — Ну, хорошо, хорошо, не буду больше, — заверил Дидерих и попытался успокоить ее: он, мол, и сам поглупел от счастья и никак не придет в себя.
Она медленно одевалась.
— Твой отец, наверно, очень беспокоится, не знает, куда ты запропастилась, — сказал Дидерих.
Агнес только пожала плечами. Одевшись, она еще раз остановилась в дверях, которые он распахнул, и окинула комнату долгим боязливым взглядом.
— Быть может, — прошептала Агнес, как бы разговаривая сама с собой, — я никогда больше не вернусь сюда. У меня предчувствие, что я сегодня ночью умру.
— Что ты? Почему? — спросил он, неприятно пораженный.
Вместо ответа она еще раз приникла к нему, прижалась губами к его губам, грудью к его груди, и как будто срослась с ним от бедер до колен. Дидерих терпеливо ждал. Наконец, она отстранилась, открыла глаза и сказала:
— Пожалуйста, не думай, что я чего-то требую от тебя. Я полюбила тебя, и будь что будет.
Он предложил ей сесть в экипаж, но она хотела пойти пешком. По дороге он расспрашивал ее о родных и общих знакомых. Только на Бель-альянс-плац в нем шевельнулось беспокойство, и он хрипло проговорил:
— у меня, разумеется, и в мыслях нет уклониться от своих обязанностей перед тобой. Но пока… Ты понимаешь, я еще сам ничего не зарабатываю, я должен раньше кончить курс и освоиться дома с делами.
Агнес ответила спокойным и благодарным тоном, словно ей сделали комплимент:
— Было бы чудесно, если бы я могла когда-нибудь, позднее, стать твоей женой.
Подошли к Блюхерштрассе; он остановился и, слегка запнувшись, сказал, что ему, пожалуй, лучше повернуть назад. Она спросила:
— Оттого, что нас могут увидеть? Ну так что же? Мне все равно придется рассказать дома, что мы встретились и переждали в кафе, пока полиция не очистила улицы.
«Ну, этой соврать ничего не стоит», — подумал Дидерих. Она продолжала:
— Помни, что на воскресенье ты приглашен к обеду, приходи непременно.
На этот раз чаша его терпенья переполнилась, он вспылил:
— Мне прийти? Мне — к вам?..
Она кротко и лукаво улыбнулась.
— А как же? Если нас когда-нибудь вместе встретят… Разве ты не хочешь больше видеть меня?
О, видеться с ней он хотел. Все же пришлось долго уламывать его, пока он пообещал прийти. У ее дома он церемонно раскланялся и круто повернул. В голове у него мелькнула мысль: «Ну и хитра! Долго я с ней канителиться не буду». С отвращением вспомнил он, что пора отправляться в пивную. А его, непонятно почему, тянуло домой. Заперев за собой дверь своей комнаты, он остановился и неподвижно уставился в темноту. Вдруг он поднял руки, запрокинул голову и с глубоким вздохом произнес:
— Агнес!
Он чувствовал себя преображенным, легким, он словно парил над землей. «Я невероятно счастлив», — подумал он. И еще: «Никогда, никогда я уже не буду так счастлив!»
Он вдруг проникся уверенностью, что до сих пор, вот до этой минуты, он все видел в ложном свете, все неправильно оценивал. Там, в пивной, теперь сидят, бражничают, невесть что мнят о себе. Евреи, безработные — что ему до них, почему их нужно ненавидеть? Дидерих готов был полюбить их! Неужто он, он сам провел сегодня все утро в бурлящей толпе, среди людей, которых считал врагами? Да ведь это же люди: Агнес права! Неужто он, Дидерих, за две-три неугодных ему фразы кого-то избил, хвастал, врал, горячился, как дурак, и, наконец, в изодранном платье, не помня себя, бросился в грязь перед каким-то человеком на коне — перед кайзером, который над ним насмеялся? Дидерих понял, что до встречи с Агнес он вел бессмысленную, бесцветную, убогую жизнь. Им владели какие-то чуждые ему стремления, какие-то постыдные чувства, и не было ни одного существа, которое он любил бы… пока не встретил Агнес. «Агнес! Хорошая моя Агнес, ты не знаешь, как я люблю тебя!» Но он хотел, чтобы она знала. Он чувствовал, что никогда больше не сумеет открыться ей так полно, как в этот особенный час, и написал ей письмо. Он писал, что тоже все эти три года ждал ее, ждал без всякой надежды, потому что она для него слишком хороша, слишком благородна и прекрасна; что все насчет Мальмана он сказал из трусости и упрямства; что она святая, и теперь, когда она снизошла до него, он лежит у ног ее. «Подними меня до себя, Агнес, я могу быть сильным, я чувствую это, и хочу посвятить тебе свою жизнь!..»
Он плакал, он зарылся лицом в диванную подушку, еще источавшую ее запах, и уснул, всхлипывая как ребенок.
Утром, разумеется, он был неприятно удивлен, обнаружив, что даже не ложился в постель. Вдруг он вспомнил о всем пережитом накануне и почувствовал сладкий толчок, быстрее погнавший кровь к сердцу. Но уже подкрадывалось подозрение, что он наглупил — раздул свои чувства, преувеличил. Он перечитал письмо: да, все это прекрасно, и ничего удивительного, что он совсем обезумел от неожиданной близости с такой великолепной девушкой. Будь она сейчас здесь, он бы приласкал ее! Но письмо, пожалуй, благоразумнее не отправлять. Это было бы неосмотрительно во всех отношениях. В конце концов папаша Геппель может его перехватить… Дидерих запер письмо в столе.
«Об ужине я вчера совершенно позабыл». Он велел подать себе обильный завтрак. «И курить не хотел, чтобы ее запах не рассеялся. Это же идиотство. Нельзя так распускаться». Закурив сигару, он отправился в лабораторию. Он решил излить свои чувства не в словах, — ибо высокие слова не к лицу мужчине и чреваты последствиями, — а в музыке. Взял на прокат пианино и вдруг, куда лучше, чем на уроках музыки, заиграл Бетховена и Шуберта.
В воскресенье, когда он позвонил к Геппелям, ему открыла сама Агнес.
— Кухарка не может отлучиться от плиты, — сказала она, но истинную причину он прочел в ее глазах. От смущения он покосился на серебряный браслет, которым она позванивала как будто с целью привлечь его внимание.
— Узнаешь? — шепнула Агнес. Он покраснел.
— Подарок Мальмана?
— Твой! Я надела его в первый раз.
Она быстро и горячо пожала ему руку и открыла дверь в гостиную. Геппель обернулся:
— Наш беглец?
Но, всмотревшись в Дидериха, он прикусил язык и пожалел о своем фамильярном тоне.
— Да вы, ей же богу, неузнаваемы, господин Геслинг.
Дидерих взглянул на Агнес, точно хотел сказать ей: «Видишь? Он сразу смекнул, что я уже не прежний глупый мальчишка».
— А у вас здесь все как было, — сказал Дидерих и поздоровался с сестрами и шурином Геппеля.
На самом же деле ему показалось, что все порядком состарились, в особенности Геппель, — живости у него поубавилось, обрюзглые щеки уныло обвисли. Дети выросли; у Дидериха было впечатление, что кого-то здесь не хватает.
— Да, да, — сказал после первого обмена приветствиями Геппель, — время идет, но старые друзья встречаются вновь.
«Знал бы ты, как», — смущенно и пренебрежительно подумал Дидерих, идя к столу вместе со всеми. За телячьим жарким он вдруг вспомнил, кто сидел напротив него в те времена. Та самая тетка, которая так напыщенно спросила его, что он изучает, и путала химию с физикой. Агнес, сидевшая по правую руку от него, объяснила, что тетя вот уже два года как скончалась. Дидерих что-то пробормотал — выразил соболезнование, — а про себя подумал: «Значит, уже не несет чепухи». У него было такое ощущение, что все здесь словно наказаны и удручены, только его одного судьба заслуженно возвысила. И он свысока окинул Агнес хозяйским взглядом.
Десерта, как и тогда, долго не подавали. Агнес тревожно оглядывалась на дверь, ее красивые золотистые глаза потемнели, как будто случилось что-то серьезное. Дидерих вдруг ощутил к ней глубокую жалость, безграничную нежность. Он поднялся и крикнул в коридор:
— Мария! Крем!
Когда он уселся за стол, Геппель предложил выпить за его здоровье.
— Вы и тогда то же самое сделали. Вы в доме, как свой. Верно, Агнес?
Агнес поблагодарила Дидериха взглядом, тронувшим его до глубины души. Ему стоило больших усилий удержаться от слез. Как ласково улыбались ему родственники Агнес! Шурин чокнулся с ним. Какие милые люди! А Агнес, чудная Агнес, она любит его! Не стоит он этого! Он почувствовал угрызения совести, в глубине сознания промелькнуло неясное решение поговорить с Геппелем.
К сожалению, после обеда Геппель опять завел разговор о беспорядках. Благо, мы избавились, наконец, от солдатского сапога Бисмарка, зачем же теперь дразнить рабочих вызывающими речами; этот молодой господин (так Геппель называл кайзера) своим красноречием того и гляди накличет революцию на наши головы… Дидерих счел своим долгом от имени молодежи, которая верой и правдой служит своему несравненному молодому государю, самым решительным образом пресечь подобное злопыхательство. Его величество сам изволил сказать: «Тех, кто хочет мне помочь, приветствую от всего сердца. Тех, кто будет мне мешать, сокрушу!» Дидерих попытался сверкнуть очами.
Геппель сказал:
— Посмотрим!
— В иаше суровое время, — прибавил Дидерих, — каждый немец должен уметь постоять за себя. — И он принял горделивую позу, чувствуя, что Агнес не сводит с него восторженного взгляда.
— Чем же оно суровое? — сказал Геппель. — Оно только тогда сурово, когда мы отравляем друг другу существование. У меня с моими рабочими всегда были хорошие отношения.
Дидерих заявил, что, вернувшись домой, он установит на своей фабрике твердую дисциплину. Социал-демократов он у себя не потерпит, а по воскресеньям рабочие будут ходить в церковь.
— Вот как! — сказал Геппель. — Я этого от своих рабочих требовать не могу. Сам бываю в церкви только в страстную пятницу. Что же мне их дурачить? Христианство — прекрасная вещь; но тому, что городит пастор, ни один человек не верит.
На лице Дидериха появилось выражение надменного превосходства.
— Любезный господин Геппель, на это могу вам лишь сказать: во что верят в высших сферах, во что верит мой глубокочтимый друг асессор фон Барним — в то верю и я без всяких оглядок. Вот что я могу вам сказать.
Шурин Геппеля, чиновник, переметнулся вдруг на сторону Дидериха. Геппель уже побагровел. Агнес поспешила предложить кофе.
— Ну, а сигары мои вам нравятся? — Геппель похлопал Дидериха по коленке. — Как видите, в делах житейских мы с вами сходимся.
Дидерих подумал: «Еще бы, ведь я все равно что член семьи».
Он сменил официальный тон на более мягкий, и беседа потекла спокойнее. Геппель спросил, когда он будет «готов», то есть получит докторский диплом. И никак не мог взять в толк, что дипломная работа по химии требует не меньше двух лет, а бывает, и больше. Дидерих распространялся о том, какие трудные задачи приходится иной раз решать, пересыпал речь выражениями, которых никто не понимал. В расспросах Геппеля о дипломе ему почудилась нотка личной заинтересованности. Видимо, и Агнес это почувствовала; она переменила тему разговора. Когда Дидерих откланялся, она вышла его проводить и шепнула:
— Завтра в три у тебя.
От неожиданной радости он стиснул ее в объятиях и поцеловал, хотя рядом громыхала посудой кухарка. Агнес грустно спросила:
— Скажи, тебя совершенно не интересует, что было бы со мной, если бы кто-нибудь вошел?
Смущенный Дидерих потребовал еще поцелуя в знак прощения. Его поцеловали.
В три часа Дидерих обычно возвращался из кафе в лабораторию. На сей раз он уже в два был у себя в комнате. Она пришла еще до трех.
— Мы оба не могли дождаться этой минуты. Как мы любим друг друга!
В этот раз было лучше, чем в первый, гораздо лучше. Ни слез, ни страха. Солнце заливало комнату сияющим блеском. Распустив на солнце волосы Агнес, Дидерих окунал в них лицо.
Она пробыла у него так долго, что у нее почти не осталось времени для магазинов, а ведь дома она сказала, что идет за покупками. Ей пришлось чуть не бегом мчаться по улицам. Дидерих, который сопровождал ее, очень беспокоился, как бы такая спешка не повредила ей. Но порозовевшая Агнес смеялась и называла его своим медведем. Так неизменно кончались теперь дни, когда она приходила. Они всегда были счастливы. Геппель говорил, что Агнес поправилась и что, глядя на нее, даже он помолодел. И воскресенья с каждым разом проходили все веселее. Гости оставались до вечера, подавали пунш. Дидерих, по общему настоянию, играл Шуберта или вместе с шурином Геппеля пел студенческие песни; Агнес аккомпанировала. Иногда они оглядывались друг на друга, и обоим казалось, что все счастливы их счастьем.
В лаборатории к Дидериху нередко подходил швейцар и сообщал, что на улице дожидается дама. Дидерих, красный от смущения, тотчас же вставал и выходил; его провожали лукавые взгляды коллег. А потом они с Агнес бродили по улицам, заходили в кафе, в паноптикум; Агнес любила живопись, и благодаря ей Дидерих узнал, что существуют выставки картин. Обычно она подолгу простаивала перед какой-нибудь полюбившейся ей картиной, мягким праздничным пейзажем, переносившим ее в неведомые и прекрасные края. Полузакрыв глаза, она делилась с Дидерихом своими грезами.
— Всмотрись хорошенько: видишь, это вовсе не рама, а ворота с золотыми ступеньками; вот мы спускаемся, переходим через дорогу, огибаем кусты боярышника и садимся в лодку. Слышишь, как она колышется? Это оттого, что мы окунули руки в воду. И вода теплая-теплая… А по ту сторону, на горе, видишь — белое?.. Это наш дом, к нему-то мы и плывем. Видишь, видишь?
— Да, да, — горячо подхватил Дидерих. Он сильно прищурился и видел все, что хотела Агнес. Он так зажегся ее мечтами, что взял ее руку и вытер. Потом они забрались в уголок и болтали о путешествиях, которые непременно совершат, о беспечной счастливой жизни в далеком солнечном краю, о любви, которой нет предела. Дидерих верил в то, что говорил. В глубине души он, конечно, знал, что на роду ему написано вести деловую жизнь, не оставляющую досуга для поэтических восторгов. Но то, что он говорил, было более возвышенной правдой, чем все, что он знал. Подлинный Дидерих, тот, которым он должен был быть, говорил правду. Однако Агнес, когда они поднялись и двинулись дальше, казалась бледной, она устало поникла. В ее прекрасных золотистых глазах появился блеск, от которого у Дидериха сжалось сердце. Вся дрожа, она тихо спросила:
— А если бы лодка перевернулась?
— Я спас бы тебя, — решительно заявил Дидерих.
— Да ведь как далеко от берега, а глубина знаешь какая… — И, так как он не нашелся, что сказать: — Мы пошли бы ко дну. Скажи, ты хотел бы умереть со мной?
Дидерих взглянул на нее и закрыл глаза.
— Да, — ответил он со вздохом.
Позднее, однако, он раскаивался, что не пресек этого разговора. Он понял, почему Агнес вдруг подозвала экипаж и поехала домой. По ее лицу, до самого лба, разлился неровный румянец, ей не хотелось, чтобы он видел, как она кашляет. Весь день Дидериха разбирала досада. Все это нездорово и ни к чему, сулит одни лишь неприятности. Его профессору уже стало известно о посещениях некоей дамы. Дальше так продолжаться не может; она отрывает его от работы по первому своему капризу. Он осторожно объяснил ей это.
— Ты, пожалуй, прав, — ответила она. — У солидных людей все делается по расписанию. Но как быть, если мне полагается прийти в полшестого, а я особенно люблю тебя в четыре?
Он уловил в этих словах насмешку, пожалуй даже презрение, и нагрубил ей. Не нужна ему возлюбленная, которая становится помехой для его карьеры. Не об этом он мечтал. Агнес попросила прощения. Она обещала скромно дожидаться свидания в его комнате. Если он не кончил работы, незачем церемониться. Дидериху стало стыдно, и, охваченный нежностью, он вместе с Агнес посетовал на мир, в котором невозможно целиком отдаться любви.
— А разве нельзя изменить свою жизнь? — спросила Агнес. — У тебя есть немного денег, у меня тоже. Для чего делать карьеру и изводить себя? Мы бы так хорошо жили с тобой!
Дидерих поддакивал ей, но после, задним числом, разозлился. Теперь он заставлял ее ждать, иной раз умышленно. Он объявил, что даже посещение политических собраний — его долг, а долг на первом месте, потом уже свидания с Агнес. Как-то в мае, возвращаясь позже обычного домой, он встретил у входа молодого человека в форме вольноопределяющегося. Тот неуверенно вглядывался в Дидериха.
— Господин Геслинг?
— Ах да, — пробормотал Дидерих, — вы… ты… Вы ведь Вольфганг Бук?
Младший сын именитейшего представителя города Нетцига наконец-то решил исполнить волю отца и отыскать Дидериха. Дидерих пригласил его подняться наверх, он как-то не нашел сразу предлога, чтобы отделаться от него, а ведь в комнате ждала Агнес! В передней он старался говорить погромче, чтобы она услышала и спряталась. Он боязливо открыл дверь. Комната была пуста, шляпа не лежала, как всегда, на кровати; но он знал, что Агнес здесь. Он видел это по стулу, чуть сдвинутому с обычного места, ощущал это по воздуху, который, казалось, все еще вибрирует после того, как она прошла в своем развевающемся платье. Она, наверное, скрылась в темной каморке, где стоит умывальник. Он придвинул кресло к двери и, сконфуженный, раздраженный, стал ворчать на хозяйку — она-де не убирает. Вольфганг Бук выразил предположение, что он, очевидно, пришел некстати.
— О нет! — уверял Дидерих. Он усадил гостя и достал коньяк. Бук попросил извинения: он пришел в неурочный час, но на военной службе человек не принадлежит себе.
— Знаю, знаю по опыту, — ответил Дидерих и, забегая вперед, сразу сказал, что уже отслужил свой год. От военной службы он в восторге. Это истинное благо! Если бы навсегда остаться в армии! Его, Дидериха, к сожалению, призывают семейные обязанности. На губах Бука мелькнула мягкая скептическая улыбка, она не понравилась Дидериху.
— Хорошо еще, что есть офицеры, — по крайней мере находишься среди людей с хорошими манерами.
— Вы встречаетесь с ними? — спросил Дидерих. Ему хотелось, чтоб это прозвучало иронически.
Но Бук сказал просто, что его иногда приглашают в офицерский клуб. Он пожал плечами.
— Я хожу туда, так как считаю полезным присматриваться к каждому лагерю. Я и с социалистами часто встречаюсь. — Он опять улыбнулся. — Надо вам сказать, что порой меня тянет стать генералом, порой — вождем рабочих. Куда я в конечном счете подамся, мне самому любопытно.
И он осушил вторую рюмку коньяку. «Отвратительная личность, — думал Дидерих. — А Агнес сидит в темной каморке». Он сказал:
— С вашим состоянием вы можете выставить свою кандидатуру в рейхстаг или заняться чем-нибудь другим по собственному выбору. Мой удел — практическая деятельность. Кстати, социал-демократию я рассматриваю как врага, ибо это враг кайзера.
— Вы в этом уверены? — спросил Бук. — Мне кажется, что кайзер даже питает к социал-демократам тайные симпатии. Он бы и сам не прочь сделаться первым вождем рабочих. Только они этого не хотят.
Дидерих возмутился. Это оскорбительно для его величества. Но Бук продолжал как ни в чем не бывало:
— Не помните вы, что ли, как он грозил Бисмарку, что не позволит своим войскам охранять богачей? С богачами он, по крайней мере вначале, враждовал так же, как рабочие. Хотя, разумеется, по другим мотивам: трудно ему сжиться с мыслью, что не он один обладает властью.
Бук опередил Дидериха, на лице которого было написано, что он вот-вот разразится возгласами негодования.
— Не думайте, пожалуйста, — оживился он, — что мои слова подсказаны антипатией. Как раз напротив: это нежность, своего рода враждебная нежность, если хотите.
— Не понимаю, — сказал Дидерих.
— Ну, вот: я говорю о нежности к тем, в ком видишь собственные слабости, или назовем их — добродетели. Во всяком случае, мы, молодые люди, все похожи теперь на нашего кайзера: все мы жаждем простора для своей индивидуальности и в то же время очень хорошо чувствуем, что будущее принадлежит массам. Второго Бисмарка не будет, и второго Лассаля тоже. Быть может, наиболее одаренные из нас отказываются признавать это. Он во всяком случае не хочет это признавать. А если человеку сама собой дается такая огромная власть, то действительно было бы самоубийством не переоценить себя. Но в сокровенной глубине души он конечно терзается сомнениями относительно роли, взятой им на себя…
— Роли? — переспросил Дидерих, но Бук не заметил этого.
— Ведь она может его далеко завести. В современном мире, таком, каков он есть, эта роль должна казаться чудовищным парадоксом. В наше время уже ни от кого не ждут большего, чем от своего соседа. Все дело в среднем уровне, а не в исключениях, и меньше всего — в великих людях.
— Но позвольте! — Дидерих ударил себя в грудь. — Да разве родилась бы Германская империя, не будь у нас великих людей? Все Гогенцоллерны были великими людьми.
Бук уже опять кривил губы в усмешке, грустной и скептической.
— В таком случае им несдобровать. И не только им, но и нам всем. Кайзер, несмотря на разницу положений, стоит перед тем же выбором, что и я. А я все думаю, кем стать — генералом, и всю жизнь посвятить войне, которая не предвидится? Или, быть может, гениальным народным вождем, хотя народ перерос преклонение перед гениальной личностью и легко может обойтись без нее? И то и другое романтика, а всякая романтика, как известно, кончается крахом.
Бук опрокинул в себя одну за другой две рюмки коньяку.
— Так кем же мне стать?
«Алкоголиком», — подумал Дидерих. Он задавал себе вопрос, не обязан ли он со скандалом выставить Бука за дверь? Но на Буке мундир! Кроме того, шум испугает Агнес, она выбежит из своего закутка, и бог знает чем это кончится! Так или иначе, он возьмет на заметку Бука и его рассуждения. Неужели Бук рассчитывает сделать карьеру с такими взглядами? Дидерих вспомнил, что в школе сочинения Вольфганга по немецкой литературе, яркие и остроумные, внушали ему необъяснимое и глубокое недоверие к нему.
«Вот-вот. Таким он и остался. Артист, видите ли. Да и вся его родня такова». Жена старика Бука была еврейка, в прошлом — актриса. И покровительственная благосклонность, которую выказал ему старик Бук на похоронах отца, задним числом ударила по его самолюбию. Да и сын Бука решительно всем унижает его: изысканными оборотами речи, манерой держаться и знакомством с офицерами. Кто он — фон Барним, что ли? Всего-навсего уроженец Нетцига, как и сам Дидерих. «Ненавижу всю эту семейку!» Из-под полуопущенных век он рассматривал мясистое лицо Бука, нос с чуть заметной горбинкой и влажно блестевшие вдумчивые глаза.
Бук поднялся:
— Ну, увидимся дома. В ближайший семестр я сдам государственный экзамен. А тогда остается единственное поприще: Нетцигского адвоката. А вы? — спросил он.
Дидерих сухо сказал, что не хочет терять времени и этим же летом закончит свою докторскую работу. Он проводил Бука в переднюю. «И дурак же ты, — подумал он. — Не заметил, что у меня девушка».
Он вернулся в комнату, самодовольно ощущая свое превосходство над Буком, да и над Агнес, которая безропотно ждала его в темной каморке.
Он открыл дверь. Агнес сидела, перевесившись через спинку стула, тяжело дышала и прижимала к губам носовой платок. Она подняла на него воспаленные глаза. Он увидел, что она чуть не задохлись, что она тут наплакалась, пока он в своей комнате пил коньяк и нес всякий вздор. Он было рванулся к ней с безграничным раскаянием. Она любит его! Она сидела здесь и во имя любви к нему все сносила. Еще мгновение, и он протянет руки, кинется к ней и со слезами попросит прощения. Но он вовремя сдержался из страха перед этой сценой и последующем сентиментальным настроением, которое стоило бы ему нескольких рабочих дней, а ей опять дало бы перевес над ним. Нет, он ей не покорится! Агнес несомненно все это нарочно преувеличивает. И он слегка коснулся губами ее лба.
— Ты уже здесь? — спросил он. — Я даже не видел, как ты вошла.
Она встрепенулась, хотела что-то ответить, но промолчала.
— Я только что проводил гостя, — сказал он. — Этакое еврейское отродье. В какие только перья не рядится! Прямо-таки тошно!
Дидерих шагал взад и вперед. Стараясь не встретиться взглядом с Агнес, он все быстрее носился по комнате и все больше входил в раж:
— Это наши заклятые враги! Они, изволите ли видеть, тонко образованны и поэтому плюют на все, что для нас, немцев, свято! Хватит с него и того, что мы его терпим. Пусть бы зубрил свои законы и помалкивал. Начхать мне на этих эстетствующих умников! — все громче кричал он с намерением обидеть Агнес.
Но она не откликалась, и он придумал новый ход.
— Все это потому, что теперь меня всегда можно застать дома. По твоей милости мне приходится сиднем сидеть в этих четырех стенах.
Агнес робко сказала:
— Мы уже шесть дней не видались. В прошлое воскресенье ты опять не пришел. Мне страшно, мне кажется, что ты разлюбил меня.
Он остановился и, глядя на нее сверху вниз, сказал:
— Дорогая, что я люблю тебя, не требует доказательств. Другой вопрос, жажду ли я каждое воскресенье лицезреть твоих теток и их рукоделие, или болтать с твоим отцом о политике, в которой он ни черта не понимает.
Агнес опустила голову.
— Раньше все было так хорошо. У тебя с папой уже сложились такие славные отношения.
Дидерих, повернувшись к ней спиной, смотрел в окно. В том-то все и дело. Он боялся быть на короткой ноге с господином Геппелем. От своего бухгалтера, старика Зетбира, он получил сведения, что дела Геппеля сильно пошатнулись. Его целлюлоза низкого качества, Зетбир отказался ее покупать. Само собой, такой зять, как Дидерих, сущий клад для него. Эти люди его оплетают, и Агнес в том числе! Пожалуй, действует заодно со стариком. Он сердито обернулся к ней:
— И, кроме того, моя милая, то, что происходит между нами, честно говоря, это наше с тобой дело, и чего ради впутывать сюда твоего отца? Наши с тобой отношения — это одно, а родственные связи — другое. Мое нравственное чувство требует четкого разграничения.
С минуту Агнес не двигалась, потом встала, словно теперь все поняла. Она густо покраснела и двинулась к дверям. Дидерих нагнал ее.
— Послушай, Агнес, я не хотел тебя обидеть. Все это я говорил только потому, что я тебя безмерно уважаю… И могу даже прийти в воскресенье.
Она слушала его с застывшим лицом.
— Ну, не сердись же, Агнес, и улыбнись, — просил он. — Ты даже шляпу еще не сняла.
Она сняла шляпу. Он попросил ее сесть на диван, и она села. Даже послушно поцеловала его. Но, тогда как губы ее улыбались и целовали, взгляд был застывшим, отсутствующим. Вдруг она с силой притянула его к себе: он испугался, ему показалось, что это ненависть. Но потом убедился, что она любит его горячей, чем когда-либо.
— Сегодня было чудесно. Верно, моя маленькая, сладкая Агнес? — сказал ублаготворенный и благодушно настроенный Дидерих.
— Прощай, — сказала она, лихорадочно протягивая руку за зонтиком и сумкой. Дидерих еще только одевался.
— Однако как ты торопишься…
— Больше я, кажется, ничего не могу для тебя сделать…
Она была уже у дверей. И вдруг приникла плечом к косяку, словно приросла к нему.
— Что случилось? — Подойдя ближе, Дидерих увидел, что она всхлипывает. Он положил руку ей на плечо. — Ну, что с тобой?
В ответ она судорожно, навзрыд заплакала. Казалось, слезам не будет конца.
— Агнес, Агнес, — повторял Дидерих. — Что случилось вдруг, мы же были так счастливы… — И беспомощно спросил: — Я чем-нибудь расстроил тебя?
Между приступами слез она произнесла, задыхаясь: — Я не могу больше. Прости.
Он отнес ее на диван. Когда рыдания, наконец, утихли, Агнес пристыженно сказала:
— Я ничего не могла с собой поделать. Это не моя вина. Прости.
Он бережно и терпеливо проводил ее до экипажа. Но немного спустя ему и этот приступ стал казаться наполовину игрой, средством окончательно завлечь его в ловушку. С тех пор его настойчиво преследовала мысль о кознях, которые строятся против него, о посягательстве на его свободу и карьеру. Он защищался внезапной резкостью тона, подчеркиванием своей мужской самостоятельности, а как только чувствовал, что готов смягчиться, — холодностью. По воскресеньям, сидя у Геппелей, он был начеку, как во вражеском стане: сухо вежлив и неприступен. Когда же он закончит свою дипломную работу? — спрашивали у него. Этого он сам не знает, отвечал он, решение задачи будет найдено, может быть, завтра, а может быть, через два года. Он подчеркивал, что в финансовом отношении будет и впредь зависеть от матери. Ему еще долго придется все свое время отдавать делам и ни о чем другом не думать. А когда Геппель заговорил об идеальных ценностях жизни, Дидерих отрезал:
— Не дальше, как вчера, я продал своего Шиллера. Я не страдаю никакими маниями, я на все смотрю трезвыми глазами.
Ловя на себе после такой отповеди немой и грустный взгляд Агнес, он на мгновение смущался, и ему чудилось, что он не сам это сказал, что он бредет сквозь туман, говорит не то, что нужно, и действует против собственной воли. Но ощущение это быстро забывалось.
Агнес приходила лишь в тот день и час, которые он назначал ей, и уходила, как только ему пора было идти в лабораторию или в пивную. Она больше не звала его в картинные галереи, не предлагала погрезить перед прекрасным пейзажем с тех пор, как он, остановившись перед витриной колбасного магазина, сказал, что это для него лучший вид эстетического наслаждения. Не без боли в душе он, наконец, заметил, что они теперь очень редко встречаются. Он упрекнул Агнес, что она не настаивает на более частых встречах.
— Прежде ты была другой.
— Я жду, — сказала она.
— Чего?
— Что и ты станешь, каким был прежде. О! Я уверена, что так и будет.
Он промолчал из боязни каких-либо сцен. Однако вышло так, как она предсказывала. Работа его была, наконец, закончена и одобрена, оставался один пустячный устный экзамен, и Дидерих, в преддверье новой жизни, находился в приподнятом настроении. Когда Агнес принесла ему свои поздравления вместе с букетом роз, он разразился слезами и сказал, что всегда, всегда будет ее любить. Она сообщила, что отец на несколько дней отправился в деловую поездку.
— А дни стоят чудесные…
Дидерих тотчас же подхватил:
— Этим надо воспользоваться! Такая возможность нам никогда еще не представлялась!
Решили поехать за город. Агнес знает одно село под названием Лесная Чаща, уединенное местечко, такое же романтичное, как и его название.
— Мы будем весь день неразлучны!
— И всю ночь, — добавил Дидерих.
Уже вокзал, с которого они уезжали, был дальний, а поезд маленький и старомодный. Они были одни в вагоне; сумерки медленно спускались, кондуктор зажег тусклую лампу. Прильнув друг к другу, они большими глазами смотрели в окно, на плоскую, однообразную равнину. Сойти бы с поезда, побрести куда глаза глядят и затеряться в этих далях, под ласковым покровом ночи. Они и в самом деле чуть не сошли на какой-то станции, за которой виднелась деревушка с горсткой домов. Добродушный кондуктор удержал их — неужели им охота ночевать на соломе? Но вот они, наконец, приехали. Деревенская гостиница, просторный двор, большой зал с керосиновыми лампами под балочным потолком; хозяин, славный человек, называл Агнес «милостивая государыня» и лукаво щурился. Агнес и Дидерих, поглощенные тайным чувством своей полной слитости, испытывали легкое смущение. После ужина им хотелось сразу же подняться в отведенную им комнату, но они не отважились и послушно перелистывали журналы, поданные хозяином. Как только он отвернулся, они переглянулись и в один миг взлетели по лестнице. В комнате еще не зажгли лампы, дверь еще стояла открытой, а они уже сжимали друг друга в объятиях.
Ранним утром солнце заглянуло в комнату. Внизу во дворе куры клевали просо и взбирались на стол, стоявший перед беседкой.
— Мы будем там завтракать!
Они сошли вниз. Как хорошо! Как тепло! Из сарая доносился чудесный аромат сена. Кофе и хлеб никогда еще не казались им такими вкусными. На душе было легко, вся жизнь открывалась перед ними. Им хотелось часами ходить по полям и лесам; они расспрашивали хозяина об окрестных дорогах и деревнях. Сердечно похвалили его дом и постели. Молодая чета, видно, совершает свое свадебное путешествие? — предположил хозяин.
— Угадали! — И они радостно засмеялись.
Булыжник, которым была замощена главная улица, торчал остриями кверху и пестрел всеми цветами радуги под июльским солнцем. Накренившиеся набок ветхие дома были такие низенькие, что казались придорожными камнями. Колокольчик на двери мелочной лавчонки, куда они вошли, дребезжал долго-долго. Немногочисленные прохожие, одетые почти по-городскому, проходили тенистой стороной и оборачивались вслед Агнес и Дидериху, а они шли с горделиво сияющими лицами, чувствуя, что выделяются здесь своей элегантностью. Агнес остановилась перед витриной шляпного магазина и обозревала шляпы, предназначенные для местных щеголих.
— Невероятно! Это носили в Берлине три года назад!
Через ветхие ворота они вышли за околицу. На полях шла жатва. Синее небо нависало низко-низко над головой. Ласточки летали в нем, — словно полоскались в сонной воде. Вдалеке утопали в знойном мерцании деревенские домики, а лес был черный, и дороги в нем — голубые. Дидерих и Агнес взялись за руки, и оба сразу, не сговариваясь, запели песенку: песенку странствующих детей, которую они разучивали еще в школе. Дидерих старался петь басом, ему хотелось удивить Агнес. Запнувшись на какой-то фразе и забыв, что дальше, они повернулись лицом друг к другу и на ходу поцеловались.
— Только теперь я и вижу, как ты хороша, — сказал Дидерих и с нежностью посмотрел на ее розовое лицо, на кайму золотистых ресниц вокруг светлых, с золотистыми искорками глаз.
— Лето мне к лицу, — сказала Агнес и так глубоко вздохнула, что блузка на ее груди вздулась. Она шла по дороге, стройная, узкобедрая, и ее голубой газовый шарф развевался за ней. Дидериху стало жарко, он снял пиджак, потом жилет и, наконец, признался, что ему хочется в тень. Они нашли немного тени на краю нескошенного поля, под кустом акации, который был еще в цвету. Агнес села и положила голову Дидериха к себе на колени. Они играли и шалили, и вдруг она заметила, что он заснул.
Он проснулся, посмотрел вокруг и, увидев над собой лицо Агнес, просиял счастливой улыбкой.
— Милый, — сказала она, — до чего ж у тебя сейчас уморительное и хорошее лицо.
— Прости, пожалуйста, я спал минут пять… нет, смотри-ка, я проспал целый час. Ты скучала?
Но она больше его удивилась, что время пролетело так быстро. Он высвободил голову из-под ее руки, которую она положила ему на волосы, когда он заснул.
Возвращались они полями. В одном месте что-то странно темнело. Они раздвинули колосья и увидели старичка в высокой меховой шапке, рыжей куртке и вельветовых штанах, тоже порыжевших. Старичок, согнувшись в три погибели, обмотал свою бороду вокруг коленей. Агнес и Дидерих наклонились, чтобы разглядеть его получше, и тут заметили, что он давно уже смотрит на них черными блестящими глазами. Они невольно зашагали быстрее, испуганно переглядываясь, точно увидели фантастическое существо из страшной сказки. Они оглянулись вокруг. Перед ними были просторы незнакомого края, там, за полями, дремал под солнцем маленький причудливый городок, а небо казалось им таким невиданным, точно они дни и ночи ехали, пока попали сюда.
Обед в зеленой беседке деревенской гостиницы был полон очарования необычности: солнце, куры, открытое окно кухни, откуда Агнес получала тарелки. Где ты, строгий порядок буржуазного дома на Блюхерштрассе? Где ты, традиционный стол, за которым бражничают корпоранты?
— Я отсюда никуда не двинусь, — объявил Дидерих. — И тебя не отпущу.
Агнес в ответ:
— А зачем уезжать? Я пошлю папе письмо через мою замужнюю подругу, она живет в Кюстрине, и папа подумает, что я у нее.
Позднее они еще раз пошли гулять, уже в другую сторону, где блестела водная гладь, где крылья трех ветряных мельниц парусами маячили на горизонте. На причале стояла лодка; они наняли ее и поплыли по каналу. Навстречу им плыл лебедь. Лебедь и лодка бесшумно разминулись, скользя по воде. Под нависшими над берегом кустами лодка сама собой остановилась, и Агнес почему-то спросила Дидериха о его матери и сестрах. Он ответил, что они всегда были добры к нему и что он их любит. Сказал, что обязательно попросит прислать фотографии сестер, они, наверное, стали красивыми девушками; а если и не красивыми, то во всяком случае славными и добродетельными. Одна из них, Эмми, любит поэзию, как Агнес; он всегда будет заботиться о сестрах и обеих выдаст замуж. С матерью же он никогда не расстанется, ей он обязан всем хорошим, что было у него в жизни до той минуты, пока в нее не вошла Агнес. И он рассказал о том, как задушевно сумерничал с матерью, о сказках под рождественскими елками его детства и даже о молитве; «идущей от сердца». Агнес слушала его как завороженная. Но вот она вздохнула.
— Я бы очень хотела познакомиться с твоей мамой, свою я не знала.
Он нежно поцеловал ее, движимый жалостью и смутным ощущением нечистой совести. Он чувствовал: сейчас надо сказать слово, которое всецело и навсегда утешило бы ее. Но он отогнал от себя эту мысль, он не мог. Агнес заглянула ему глубоко в глаза.
— Я знаю, — медленно произнесла она, — знаю, что душа у тебя добрая. Но иногда тебе приходится поступать не так, как велит сердце. — Он испугался. А она сказала, словно в свое оправдание: — Сегодня я совсем не боюсь тебя.
— А разве вообще ты меня боишься? — виновато спросил Дидерих.
— Я всегда боялась слишком самоуверенных и веселых людей. Иной раз, в кругу своих подруг, мне начинало казаться, что я им неровня и что они, вероятно, презирают меня. Но они ничего не замечали. В раннем детстве у меня была кукла с большими голубыми стеклянными глазами, и когда мама умерла, меня посадили с куклой и велели не трогаться с места. Кукла уставилась на меня широко открытыми бездушными глазами и как бы говорила: твоя мама умерла, и теперь все на тебя будут смотреть, как я. Мне хотелось положить ее на спину, чтобы она закрыла глаза. Но я не смела. А людей разве положишь на спину? У всех такие же глаза и порой, — она приникла лицом к его плечу, — порой даже у тебя.
К горлу у него подступил комок, он погладил ее склоненный затылок и сказал дрогнувшим голосом:
— Агнес, родная моя Агнес, ты не знаешь, как я люблю тебя… Я боялся тебя, да — я. Три года я томился по тебе, ты была для меня недосягаемо прекрасна, изящна, добра.
Сердце его растаяло; он говорил ей все, что вылилось у него в письме после их первого свидания у него в комнате, в том самом письме, которое и теперь еще лежало в ящике письменного стола. Агнес выпрямилась, она слушала с восторгом, раскрыв губы. Она тихо ликовала:
— Я знала, что ты такой, ты — как я!
— Мы одна душа, одна плоть, — сказал Дидерих и прижал ее к себе; но тут же испугался вырвавшихся у него слов.
«Теперь она ждет, — думал он, — теперь надо сказать». Он хотел этого, но чувствовал себя скованным. Его объятия с каждой секундой ослабевали… Она сделала чуть заметное движение, он знал, что она уже не ждет. И они выпустили друг друга из объятий, не глядя один на другого. Он закрыл лицо руками и всхлипнул. Она не спрашивала почему; только утешающе погладила по волосам. Так сидели они долго.
Глядя поверх него в пространство, Агнес сказала: — Разве я когда-нибудь думала, что это будет длиться вечно? То, что было так хорошо, не могло не кончиться плохо.
Он вскрикнул в отчаянье:
— Ведь ничего не кончилось!
Она спросила:
— Ты веришь в счастье?
— Если я тебя потеряю, значит, счастья нет.
Она пролепетала:
— Ты уедешь, перед тобой откроется большая жизнь. И ты меня забудешь.
— Лучше смерть! — и он привлек ее к себе.
Прижавшись к нему щекой, она шептала:
— Смотри, какой здесь простор, совсем как море! Наша лодка сама выпросталась и вывела нас сюда. Помнишь ту картину? И море, по которому мы уже однажды плыли в своей мечте? Куда только, — и еще тише повторила — Куда только мы плывем?
Он не отвечал больше. В тесном объятии, прильнув губами к губам, они опускались все ниже и ниже над водой. Она ли сжимала его? Или он притягивал ее к себе? Никогда еще они не знали такого полного слияния. Дидерих чувствовал: теперь все хорошо. Ему не хватало благородства, веры, мужества для того, чтобы соединиться с Агнес на всю жизнь. Но теперь он сравнялся с ней во всем. Теперь все хорошо.
Внезапный толчок: они подскочили. Дидерих отшатнулся с такой силой, что Агнес отлетела от него и упала на дно лодки. Он провел рукой по лбу.
— Что случилось?.. — Похолодев от испуга и как будто обидевшись на нее, он отвернулся. — Это же лодка, нельзя так неосторожно.
Он не помог ей встать, тотчас же схватился за весла и повел лодку обратно. Агнес повернулась лицом к берегу. Один раз она робко посмотрела на Дидериха, но в нее впился такой подозрительный, жесткий взгляд, что она вся содрогнулась.
В сгущающихся сумерках они шли по дороге все быстрее, быстрее и под конец почти побежали. И уж когда настолько стемнело, что лица стали почти невидимы, они заговорили. Завтра утром, пожалуй, Геппель будет уже дома. Агнес необходимо вернуться… Добежав до гостиницы, они услышали вдали гудок паровоза.
— Даже поужинать не успеем! — с наигранной досадой сказал Дидерих. Наспех собрали вещи, расплатились — и бегом на станцию. Не успели сесть, как поезд тронулся. Хорошо еще, что надо отдышаться и припомнить: не забыто ли что в такой спешке? Но вот все уже сказано, и при свете тусклой лампы они сидят врозь, ошеломленные, как после большой неудачи. Неужели эти темные поля, бегущие за окном, звали их, дразнили обещанием счастья? И как будто только вчера? Нет, в невозвратном прошлом. Разве не видны уже спасительные огни города?
Они решили, что не стоит ехать вместе в трамвае. Дидерих уехал первым. Они едва встретились взглядами, едва коснулись друг друга в прощальном рукопожатии.
«Уф! — выдохнул Дидерих, оставшись один. — Ну — конец». Он подумал: «Мы были на волосок от несчастья». И возмутился: «Вот истеричка!» Сама-то она, конечно, уцепилась бы за лодку. Искупаться пришлось бы ему одному. И весь этот трюк она подстроила для того, чтобы непременно, любой ценой, женить его на себе. «Женщины хитры, как дьяволы, они ни в чем не знают удержу, куда нашему брату с ними тягаться. На этот раз она обвела меня вокруг пальца почище, чем тогда с Мальманом. Что ж, пусть это будет мне уроком на всю жизнь. Теперь, однако, точка!» И он твердым шагом направился к Новотевтонцам. Отныне он проводил с ними все вечера, а дни посвящал зубрежке, готовясь к устному экзамену, но из благоразумия — не дома, а в лаборатории. Возвращаясь домой, он с тяжелым чувством поднимался по лестнице и не мог не сознаться, что сердце у него не на месте. Нерешительно открывал он дверь своей комнаты — никого; и хотя сначала чувствовал при этом облегчение, в конце концов спрашивал у хозяйки, не заходил ли к нему кто-нибудь. Нет, никто не приходил.
Но через две недели он получил письмо. Он вскрыл его, не отдавая себе отчета в том, что делает. Бросил в ящик письменного стола, но тут же снова достал его и, держа от себя как можно дальше, принялся читать. Жадно, подозрительным взглядом выхватывал фразу то тут, то там. «Я так несчастлива…» — «Слыхали мы!» — отвечал мысленно Дидерих. «Я не отваживаюсь пойти к тебе…» — «Твое счастье!» — «Это ужасно, что между нами встала такая стена…» — «Хорошо, что ты сама это понимаешь!» — «Прости меня за все, что произошло. Или ничего не произошло?..» — «С меня хватит!» — «Я не могу больше жить…» — «Опять старая погудка?» И он решительно бросил письмо в ящик, где хранилось его собственное, к счастью неотосланное, послание, написанное одной безумной ночью, когда он утратил чувство меры.
Неделю спустя, возвращаясь ночью домой, он услышал за собой шаги, как-то особенно прозвучавшие. Он круто повернулся: перед ним остановилась женская фигура, слегка подняв руки, с раскрытыми ладонями. Уже отпирая дверь и входя, он все еще видел ее в полумраке улицы. В комнате он не зажег света. Он стыдился осветить комнату, некогда принадлежавшую ей, зная, что она стоит внизу, во тьме, и жадно вглядывается в его окна. Шел дождь. Сколько часов она ждала? Несомненно, она все еще стоит там и на что-то надеется. Это было невыносимо! Он рванулся к окну, хотел распахнуть его — и попятился. Неожиданно для себя он вдруг очутился на лестнице, с ключами от входных дверей в руках. Едва успел опомниться и вернуться. Наконец он заперся и стал раздеваться. «Побольше выдержки, милейший!» На этот раз ему не так-то легко удалось бы вывернуться. Девушку, конечно, жалко, но ведь на то была ее воля. «На первом месте — мой долг перед самим собой». Утром, плохо выспавшись, он даже рассердился на нее за эту попытку вновь выбить его из колеи. В такой момент, зная, что впереди у него экзамен! Не бессовестно ли! Впрочем, это вполне на нее похоже. Эта ночная сцена, эта роль нищенки под дождем придали ее образу задним числом что-то подозрительное и жуткое. В его глазах она окончательно опустилась. «Никаких уступок, ни в коем случае!» — поклялся он себе и решил переменить квартиру, «даже если придется пожертвовать уплаченным задатком». К счастью, один из студентов как раз искал комнату. Дидерих, ничего не потеряв, тотчас же переселился в отдаленный северный район столицы. Вскоре после этого он сдал экзамен. «Новотевтония» чествовала его «утренней» пирушкой, которая длилась до вечера. Когда он пришел домой, ему сказали, что в комнате его дожидается какой-то господин. «Вероятно, Вибель, — мелькнуло у него в голове, — пришел, разумеется, поздравить». Его вдруг окрылила надежда: «А не асессор ли это фон Барним?» Он открыл дверь и попятился. В комнате стоял господин Геппель.
Тот тоже сначала онемел.
— Во фраке? По какому случаю? — сказал он наконец и прибавил с запинкой — Вы не от нас ли?
— Нет, — сказал Дидерих и вновь испугался. — Я только что сдал экзамен и получил докторский диплом.
— Вот как! Поздравляю, — ответил Геппель.
Дидерих с трудом выговорил:
— Как вы узнали мой новый адрес?
Геппель ответил:
— Вашей прежней хозяйке вы его, конечно, не оставили. Но существуют и другие способы.
Они посмотрели друг на друга. Геппель говорил спокойно, но Дидериху чудились в его голосе угрожающие нотки. Он все время гнал от себя мысль о катастрофе, и вот она разразилась. Он вынужден был сесть.
— Видите ли, Агнес плохо себя чувствует, вот я и пришел, — начал Геппель.
— О! — воскликнул Дидерих с поддельным ужасом. — Что с ней?
Геппель горестно покачал головой.
— С сердцем неладно; но все это, конечно, чисто нервное… Да, конечно, — повторил он, так и не дождавшись, чтобы Дидерих поддакнул ему. — Она скучает, даже в меланхолию впала, и мне хотелось бы поднять ее настроение. Выходить ей нельзя. Но, может быть, вы к нам пожалуете, завтра как раз воскресенье.
«Спасен, — подумал Дидерих. — Он ничего не знает». От радости он стал дипломатом; он почесал в затылке:
— Я и сам уже к вам собирался. Но заболел наш управляющий фабрикой, и меня срочно вызывают домой. Я даже профессорам своим не могу нанести прощальных визитов, завтра же утром выезжаю.
Геппель положил ему руку на колено.
— Вам следовало бы еще подумать на этот счет. Долг дружбы иной раз тоже кой к чему обязывает.
Он говорил медленно и так пристально смотрел на Дидериха, что тот не выдержал и отвернулся.
— Если бы я мог, — пробормотал Дидерих.
— Вы можете. Вообще в вашей власти сделать все, что делают в таких случаях.
— Каким образом? — Дидерих весь похолодел.
— Вы сами это прекрасно знаете, — сказал отец и, отодвинувшись вместе со стулом, продолжал: — Надеюсь, вы не подумали, что меня послала сюда Агнес? Наоборот, она взяла с меня слово, что я ничего не предприму и оставлю вас в покое. Но, поразмыслив, я решил, что было бы глупо не поговорить с вами напрямик, мы ведь добрые знакомые, и я знал вашего покойного отца, и в деловом отношении мы с вами связаны, и так далее.
Дидерих подумал: «Наши деловые связи приказали долго жить, драгоценнейший!» Он приготовился к защите.
— Я вовсе не уклоняюсь от прямого разговора, господин Геппель.
— Ну и прекрасно. Значит, все в порядке. Я, конечно, понимаю: ни один молодой человек, особенно в наше время, не решается на брак без колебаний и опасений. Но если все так ясно, как у нас с вами? Наши предприятия дополняют одно другое, и если вы захотите расширить свою фабрику, приданое Агнес будет вам большой подмогой. — И не переводя дыхания, глядя в сторону — В настоящее время, правда, я мог бы обратить в наличный капитал только двенадцать тысяч марок, но целлюлозы вы могли бы получить сколько хотите.
«Вот видишь? — подумал Дидерих. — И эти двенадцать тысяч тебе еще придется занять… если тебе дадут…»
— Вы меня не поняли, господин Геппель, — пояснил он. — Я и не помышляю о женитьбе. Для этого нужны большие деньги.
Со страхом в глазах, но засмеявшись, Геппель сказал:
— Я мог бы еще кое-что натянуть…
— Ну, что вы, что вы!.. — великодушно отмахнулся Дидерих.
Геппель все более терялся.
— Чего же вы хотите?
— Я? Ничего не хочу. Я полагал, что вы чего-то хотите, ведь вы пожаловали ко мне.
Геппель встряхнулся.
— Так нельзя, дорогой Геслинг. После всего, что случилось… И особенно потому, что это так давно уже тянется.
Дидерих смерил старика взглядом и презрительно скривил губы.
— Стало быть, вы знали?
— Уверенности у меня не было, — пробормотал Геппель. А Дидерих свысока:
— Было бы странно, если была бы.
— Я доверял своей дочери.
— Вот как можно ошибаться, — сказал Дидерих, готовый ухватиться за любое средство защиты.
Лоб Геппеля начал краснеть.
— К вам я тоже питал доверие.
— Это значит, вы считали меня дурачком. — Дидерих сунул руки в карманы и откинулся на спинку стула.
— Нет! — Геппель вскочил. — Но я не считал вас проходимцем, каким вы оказались.
Дидерих встал, соблюдая подобающее в таких случаях спокойствие.
— Надеюсь, вы не откажетесь от сатисфакции? — сказал он. Геппель закричал:
— Да, это было бы вам кстати! Соблазнить дочь и застрелить отца. Вполне достойный вас подвиг чести.
— Что вы понимаете в вопросах чести! — Дидерих тоже начал горячиться. — Я вашу дочь не соблазнял. Она сама этого хотела, а потом я уж не мог с ней развязаться. Эта черта у нее от вас. — И распалясь: — Где доказательство, что вы не были с ней в сговоре? Это западня!
Глядя на Геппеля, можно было подумать, что он сейчас раскричится громче прежнего. Но он вдруг испугался и сказал обычным голосом, только немного задрожавшим:
— Не будем горячиться в таком серьезном деле. Я обещал Агнес не терять спокойствия.
Дидерих ехидно захохотал:
— Видите? Все это сплошная ложь. Только что вы говорили, Агнес, мол, не знает, что вы здесь.
Отец виновато улыбнулся.
— Немного дружелюбия, и договориться нетрудно. Вы согласны, дорогой Геслинг?
Но Дидерих решил, что переходить на дружеский тон опасно.
— Для вас я не Геслинг! — крикнул он. — Для вас я господин доктор!
— Ах, так! — процедил сквозь зубы Геппель. — Видно, вас еще никто не величал «господином доктором»? Можете, конечно, гордиться обстановкой, при которой это впервые происходит.
— Вы, кажется, намерены оскорбить еще и мою сословную честь?
Геппель отмахнулся.
— Ничего я не намерен оскорблять, я лишь спрашиваю себя, что мы вам сделали, моя дочь и я. Вас в самом деле интересует только приданое?
Дидерих почувствовал, что краснеет. Тем решительнее он ринулся в атаку.
— Если вы так настаиваете, извольте, скажу: мое нравственное чувство не позволяет мне жениться на девушке, которая лишена невинности до брака.
Геппеля, видно, всколыхнул новый взрыв возмущения, но у него уже не было сил на вспышку, он подавил рыдание.
— Если бы вы видели сегодня ее горе! Она во всем призналась мне, потому что сердце ее не выдержало этой муки. Мне кажется, что она и меня уже не любит — только вас. Ее можно понять, ведь вы первый.
— Откуда я знаю! До того, как я появился в вашем доме, там бывал некий господин Мальман. — И увидев, что Геппель отпрянул, словно от удара в грудь: — А разве можно знать? Кто раз солжет, тому уж веры нет. Можно ли требовать, — продолжал он, — чтобы я сделал такую особу матерью моих детей? Мой долг перед обществом не позволяет мне этого.
И он повернулся к Геппелю задом, присел на корточки и стал укладывать вещи в раскрытый чемодан.
За его спиной всхлипывал отец Агнес, и Дидерих не мог побороть волнения. Волновало его и благородное, мужественное мировоззрение, изложенное им, и страдания Агнес и ее отца, которые долг запрещал ему исцелить, и мучительное воспоминание о своей любви, и вся эта трагедия… С напряженно бьющимся сердцем он слышал, как Геппель открыл дверь и закрыл ее, слышал его шаркающие шаги в передней и стук наружной двери. Все кончено! — и Дидерих зарылся головой в наполовину уложенный чемодан и зарыдал. Вечером он играл Шуберта.
Этим была отдана дань лирическим переживаниям, а теперь следовало одеться в броню. Дидерих ставил себе в пример Вибеля: вряд ли Вибель когда-нибудь опускался до подобной сентиментальности. Даже такой невежа, не нюхавший корпорантского духа, как Мальман, и тот преподал Дидериху урок: показал ему, что такое беспощадная сила. Он очень сомневался, чтобы у кого-нибудь еще могли быть в душе такие слабые, чувствительные струнки. Он получил их в наследство от матери, и, конечно, девушка вроде Агнес, такая же сумасбродка, как его мать, сделала бы его совершенно непригодным для нынешнего сурового времени. Нынешнее суровое время. Слова эти неизменно вызывали в его воображении одну и ту же картину: Унтерденлинден, бурлящая толпами безработных — мужчин, женщин, детей с их нищетой, страхом, мятежом… и все они укрощены, у них даже исторгнуты крики «ура». Укрощены властью, всеохватывающей, бесчеловечной властью; железная и сверкающая, она словно ступает по головам, все и вся топчет своими копытами.
«Ничего не поделаешь», — сказал себе Дидерих в восторге смирения. Таким и следует быть! И горе тем, кто не таков: они очутятся под копытами. Какие претензии могут предъявить ему Геппели, отец и дочь? Агнес совершеннолетняя, и ребенка от Дидериха у нее не будет. Стало быть? «Было бы непростительной глупостью себе во вред совершить поступок, к которому меня приневолить не могут. Меня тоже никто не благодетельствует». Дидерих гордился и радовался при мысли о закалке, которую он получил. Корпорация, военная служба, воздух империализма воспитали его, научили приспособляться к жизни. Он дал себе слово, вернувшись в свой родной Нетциг, проводить в жизнь благоприобретенные принципы, быть глашатаем духа времени. Для того чтобы и самая внешность его отражала новое мировоззрение, он на следующее же утро отправился на Миттельштрассе к придворному парикмахеру Габи и решился на новшество, которое все чаще наблюдал теперь среди офицеров и представителей высших кругов. До сих пор оно казалось ему настолько аристократическим, что он не отваживался усвоить его. И вот парикмахер с помощью наусников симметрично уложил ему усы под прямым углом вверх. Когда наусники были сняты, он не узнал себя в зеркале. Оголенный рот с опущенными углами приобрел кошачье-хищное выражение, а кончики усов чуть не упирались в глаза, внушавшие страх даже ему самому, точно они сверкали на лике самой власти.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Спасаясь от дальнейших притязаний со стороны семейства Геппелей, он тотчас же уехал. В купе было нестерпимо жарко. Дидерих, оказавшийся единственным пассажиром, мало-помалу снял с себя все: сюртук, жилет, ботинки. За несколько остановок до Нетцига одиночество его было нарушено двумя дамами, по виду иностранками. Их явно оскорблял вид его фланелевой рубашки, а его раздражала их чрезмерная элегантность. Они заговорили на каком-то непонятном языке, — видимо, выразили ему протест, но он только пожал плечами и положил ноги в носках на скамью. Дамы зажали носы, взывая о помощи. Пришел проводник, за ним и сам начальник поезда, но Дидерих предъявил билет второго класса и сказал, что вправе вести себя, как ему угодно. Он даже намекнул, что язык, мол, распускать опасно, ведь в поезде никогда не знаешь, кто перед тобой. Дидерих одержал победу, и дамы покинули купе, но их сменила новая пассажирка. Он встретил ее решительным взглядом, она же попросту вытащила из сумки колбасу и, улыбнувшись Дидериху, стала есть с куска. Обезоруженный, он и сам просиял широкой улыбкой. Разговорились. Выяснилось, что она из Нетцига. Он назвал себя, она в ответ радостно вскрикнула, — как же, ведь они старые знакомые.
— Да ну? — Дидерих воззрился на нее. Он разглядывал ее пухлое розовое лицо с мясистыми губами и дерзким вздернутым носиком, белокурые волосы, гладко и аккуратно причесанные, молодую жирную шею и пальцы, сжимавшие колбасу и сами торчавшие из митенок как розовые сосиски.
— Нет, — заявил он решительно, — знать вас я не знаю, но что вы чрезвычайно аппетитны, это бесспорно. Совсем как розовый поросеночек. — И он обхватил ее за талию. В тот же миг она закатила ему оплеуху. — Знатно! — сказал он и потер щеку. — И много у вас таких припасено?
— На всех нахалов хватит!
Она залилась воркующим смехом, бесстыдно подмигнув ему своими маленькими глазками.
— Кусок колбасы можете получить, а на большее не рассчитывайте!
Он невольно сравнил ее манеру защищаться с безответностью Агнес и подумал: «На такой можно спокойно жениться».
Наконец она назвала себя, но только по имени, и, так как он все еще не узнавал ее, стала расспрашивать о его сестрах.
— Густа Даймхен! — воскликнул он, и оба радостно захохотали.
— Помните, как вы мне дарили пуговицы, которые срезали с лоскутков на вашей фабрике? Ах, господин доктор, этого я никогда не забуду. Знаете, что я с ними делала? Припрятывала, а когда мать давала мне деньги на пуговицы, покупала себе конфеты.
— Значит, вы еще и практичны! — Дидерих был в восторге. — Помню, как вы девчонкой лазили к нам через ограду. Панталон вы обычно не носили, и когда юбочка задиралась, чего только, бывало, снизу не увидишь!
Она взвизгнула: воспитанные люди не вспоминают о таких вещах.
— Теперь все это, конечно, еще обольстительнее, — добавил он. Она сразу перестала смеяться:
— Я помолвлена!
Она помолвлена с Вольфгангом Буком! Дидерих, скорчив разочарованную мину, умолк. Потом сдержанно сказал, что знает Бука. Она осторожно спросила:
— Вы, вероятно, считаете его взбалмошным? Но Буки ведь очень аристократическая семья. Правда, есть семьи побогаче…
Изумленный Дидерих вскинул на нее глаза. Она подмигнула. На языке у него вертелся вопрос, но вся его отвага сразу испарилась.
Уже под самым Нетцигом фрейлейн Даймхен осведомилась:
— А ваше сердце, господин доктор, еще свободно?
— От помолвки пока удалось отвертеться… — Он многозначительно кивнул.
— Ах, вы непременно должны мне все рассказать! — воскликнула она. Но поезд уже подходил к перрону.
— Надеюсь, мы еще встретимся, и даже в ближайшем будущем, — заключил разговор Дидерих. — Замечу только, что молодой человек иной раз оказывается черт знает в каком щекотливом положении. Одно неосторожно сказанное слово — и жизнь испорчена.
Обе сестры Дидериха встречали его на перроне. Увидев Густу Даймхен, они сначала презрительно поджали губы, но затем кинулись ей навстречу и помогли нести вещи. Оставшись с Дидерихом втроем, они объяснили, почему так усердствуют. Оказывается, Густа получила наследство. Она миллионерша. Так вот оно что! Он онемел от благоговения.
Сестры поспешили сообщить ему подробности. Какой-то старый родственник в Магдебурге, за которым Густа ухаживала до самой его смерти, завещал ей весь свой капитал.
— Недешево он ей достался, — заметила Эмми, — старик, говорят, под конец был ужасно неаппетитен.
— Да и вообще, кто знает, что там у них было, — подхватила Магда, — ведь она целый год прожила с ним одна.
Дидерих вспылил:
— О таких вещах молодой девушке не пристало рассуждать! — крикнул он сердито; а на уверения Магды, что они слышали это от Инги Тиц и Меты Гарниш и вообще от всех, он заявил: — Я требую, чтобы вы решительно пресекали подобные разговоры.
Наступило молчание.
— Густа, кстати сказать, помолвлена, — заметила Эмми.
— Знаю, — буркнул Дидерих.
Навстречу то и дело попадались знакомые, Дидериха со всех сторон величали «господином доктором»; сияя, он гордо выступал между Эмми и Магдой, которые поглядывали на него сбоку, восторгаясь его великолепными модными усами. Фрау Геслинг, увидев сына, раскрыла ему объятия и вскрикнула, словно погибающая, вдруг узревшая своего спасителя. Дидерих неожиданно для себя прослезился. Он вдруг ощутил торжественность этой знаменательной минуты — впервые переступал он порог своего дома с докторским дипломом в кармане, полновластным главой семьи, обязанным по собственному просвещенному разумению управлять семьей и фабрикой. Он протянул руки матери и сестрам, всем сразу, и сказал проникновенно:
— Всегда буду помнить, что обязан держать за вас ответ перед господом богом.
Однако фрау Геслинг была явно чем-то обеспокоена.
— Ты готов, сын мой? — спросила она. — Наши люди ждут тебя.
Дидерих допил пиво и, возглавив шествие, спустился с матерью и сестрами вниз. Двор был чисто подметен, вход на фабрику обрамлен гирляндами; над дверью в зеленом венке красовалось: «Добро пожаловать!» Их встретил старый бухгалтер Зетбир. Он сказал:
— Ну, наконец-то, господин доктор, здравствуйте! Я хотел подняться к вам наверх, да задержали дела.
— По такому случаю можно было бы отложить их, — бросил Дидерих на ходу и прошел мимо Зетбира.
В тряпичном цехе собрались рабочие. Они стояли сгрудившись: двенадцать человек, обслуживающих машины — бумажную, резальную и голландер, три конторщика и сортировщицы тряпья. Мужчины откашливались, произошла какая-то заминка. Наконец женщины вытолкнули вперед маленькую девочку; держа перед собой букет цветов, девочка чистым высоким голоском сказала господину доктору «добро пожаловать» и пожелала ему счастья. Дидерих благосклонно взял букет; пришла его очередь откашляться. Он оглянулся на своих, потом пробуравил острым взглядом каждого рабочего в отдельности, в том числе и чернобородого механика, хотя ответный взгляд этого человека он выдержал с трудом, и сказал:
— Слушайте все! Я, ваш хозяин, заявляю вам, что отныне работа на фабрике пойдет на всех парах! Я намерен вдохнуть жизнь в свое предприятие. Последнее время многие, пользуясь отсутствием хозяина, решили, очевидно, что можно работать спустя рукава, но эти люди глубоко ошибаются; я имею в виду главным образом стариков, которые поступили на фабрику еще при моем покойном отце.
Он повысил голос, еще резче и отрывистей чеканя слова. Глядя на старика Зетбира, он продолжал:
— Отныне я сам становлюсь за штурвал. Курс, взятый мною, верен, я поведу вас к благоденствию. Всех, кто хочет мне помочь, приветствую от души, тех же, кто вздумает ставить мне палки в колеса, сокрушу!
Он попытался сверкнуть очами, кончики его усов полезли вверх.
— Здесь только один хозяин, и это — я. Лишь перед богом и собственной совестью обязан я держать ответ. Всегда буду вам отцом и благодетелем. Но помните: любые бунтарские поползновения разобьются о мою несгибаемую волю. Если обнаружится, что кто-либо из вас снюхался…
Он вперил глаза в чернобородого механика, придавшего своему лицу загадочное выражение.
— …с социал-демократами, я немедленно вышвырну его вон. В моих глазах всякий социал-демократ — это враг моего предприятия, враг фатерланда… Так! А теперь беритесь за работу и как следует поразмыслите над тем, что я сказал.
Он круто повернулся и, громко сопя, вышел из цеха. Опьяненный собственными звучными фразами, он не узнавал ни одного лица. Мать и сестры двинулись следом, подавленные и почтительные, рабочие же, прежде чем приняться за пиво, выставленное хозяевами по случаю столь торжественного дня, долго еще молча переглядывались.
Дома Дидерих изложил матери и сестрам свои планы. Фабрику, сказал он, необходимо расширить, и для этого он намерен приобрести соседний дом. Надо поднять под себя конкурентов. Завоевать место под солнцем! Старик Клюзинг, как видно, возомнил, что он со своей гаузенфельдской бумажной фабрикой так и будет до скончания веков один царить в бумажной промышленности…
Магда спросила, откуда Дидерих возьмет деньги на все это? Но фрау Геслинг пожурила ее за дерзость:
— Твоему брату лучше знать. Не одна девушка была бы счастлива завладеть его сердцем! — прибавила она осторожно и, ожидая гневной вспышки сына, прикрыла рот рукой. Но Дидерих только покраснел. Тогда она отважилась и обняла его. — Мне, понятно, было бы страшно тяжело, — всхлипнула она, — если бы мой сын, мой милый сын, покинул наш дом. Для вдовы это особенно чувствительно. Фрау Даймхен, бедненькая, переживает теперь то же самое, ведь ее Густа выходит замуж за Вольфганга Бука.
— Это еще бабушка надвое сказала, — ввернула Эмми, старшая дочь. — Ведь Вольфганг путается с какой-то актрисой…
На сей раз фрау Геслинг забыла призвать дочь к порядку.
— Но у нее ведь такие деньги! Говорят, миллион!
Дидерих презрительно фыркнул, он знает Бука — ненормальный субъект.
— Это у них в роду. Старик тоже ведь был женат на актрисе.
— То-то и оно, — заметила Эмми. — Вот и о дочери его, фрау Лауэр, тоже разное говорят.
— Дети! — испуганно взмолилась фрау Геслинг. Но Дидерих успокоил ее:
— Да что ты, мама! Пора назвать вещи своими именами. По-моему, Буки давно уже не заслуживают того положения, какое они занимают в городе. Это свихнувшаяся семья.
— Жена старшего Бука, Морица, простая крестьянка, — сказала Магда. — Они как раз недавно побывали в Нетциге. Он и сам уже мужик мужиком.
— А брат старого Бука? — возмущалась Эмми. — Одет всегда щеголем, а дома пять дочерей на выданье! Они посылают за супом в благотворительную столовую. Мне это доподлинно известно.
— Ну, столовую учредил ведь господин Бук, — отозвался Дидерих. — И попечительство об отбывших срок заключенных и чего-чего только он не учредил. Интересно знать, когда он находит время заниматься собственными делами?
— Меня не слишком бы удивило, — сказала фрау Геслинг, — если бы дел этих оказалось не так уж много. Хотя я, разумеется, благоговею перед господином Буком. Ведь его все уважают.
— Почему, скажите на милость? — Дидерих злобно рассмеялся. — С детства нам внушали почтение к старому Буку! Он, дескать, первое лицо в городе! В сорок восьмом, видите ли, был приговорен к смертной казни!
— Это историческая заслуга — так всегда говорил твой отец.
— Заслуга? — возопил Дидерих. — Всякий, кто восстает на правительство, для меня конченый человек. Неужели измену можно называть заслугой?
И он пустился перед изумленными женщинами в политические рассуждения. Позор для Нетцига, что ветхозаветные демократы все еще играют первую скрипку в городе. Это же мягкотелые люди, лишенные верноподданнических чувств! Они в постоянной вражде с правительством! Сущая насмешка над духом времени! Почему у нас такой застой в делах, нет кредита? Да потому, что в рейхстаге сидит член суда Кюлеман, друг пресловутого Эйгена Рихтера{10}! Само собой разумеется, что такое гнездо вольнодумцев, как Нетциг, не включают в сеть главных железнодорожных путей и не дают ему гарнизона. Нет притока населения, нет никакой жизни! В магистрате засело несколько семей, и ни для кого не тайна, что все заказы они распределяют между собой, у остальных же только слюнки текут. Гаузенфельдская бумажная фабрика снабжает бумагой весь город, потому что ее владелец Клюзинг из той же банды старика Бука.
И Магда также могла привести кое-какие факты.
— На днях, — сказала она, — в нашем кружке отменили любительский спектакль, потому что, изволите ли видеть, заболела дочь старика Бука, фрау Лауэр. Ведь это форменный попизм!
— Не попизм, а непотизм, — строго поправил сестру Дидерих. И, свирепо поводя глазами, продолжал: — В довершение всего Лауэр еще и социалист. Но несдобровать старику Буку! Пусть знает: мы ему спуску не дадим!
Фрау Геслинг умоляюще воздела руки к потолку:
— Дорогой мой сын! Обещай мне, что, когда будешь делать визиты в городе, ты побываешь у господина Бука. Он пользуется таким влиянием!
Но Дидерих не обещал.
— Надо дать дорогу и другим! — крикнул он.
Все же ночью он спал неспокойно. В семь утра уже спустился на фабрику и тотчас же поднял шум из-за того, что со вчерашнего дня повсюду валяются бутылки из-под пива.
— Это вам не место для попоек, тут не кабак! Разве не сказано об этом у нас в правилах внутреннего распорядка, господин Зетбир?
— В правилах? — переспросил старый бухгалтер. — У нас никаких правил нет.
Дидерих лишился дара речи, он заперся с Зетбиром в конторе.
— Никаких правил? В таком случае я ничему больше не удивляюсь. Что это за смехотворные заказы? Какая-то мышиная возня! — Он перебирал письма, швыряя их одно за другим на стол. — По-видимому, я вовремя взялся за дело. В ваших руках все идет прахом.
— То есть как это прахом, молодой хозяин?
— Для вас я господин доктор! — И Дидерих без околичностей потребовал снизить цены, чтобы подорвать конкурентов, забить все остальные фабрики.
— Это нам не под силу, — возразил Зетбир. — Да мы и не в состоянии выполнять такие крупные заказы, как гаузенфельдская фабрика.
— И вы еще смеете называть себя деловым человеком? Надо приобрести больше машин.
— Для этого нужны деньги, — сказал Зетбир.
— Получим в кредит! Я вас научу работать! Только диву дадитесь. А не захотите меня поддержать, обойдусь без вас.
Зетбир покачал головой.
— С вашим отцом, молодой человек, мы работали в полном согласии. Вместе начинали дело, вместе ставили его на ноги.
— Нынче не те времена, зарубите себе на носу. Я сам буду управлять своей фабрикой.
— Вот она, бурная молодость! — вздохнул Зетбир.
Но Дидерих уже хлопнул дверью. Он прошел через цех, где механические барабаны с грохотом перемывали в хлористом растворе тряпье, и направился в помещение, где был установлен большой голландер. В дверях он неожиданно наскочил на чернобородого механика. Дидерих вздрогнул и уже хотел уступить ему дорогу, но вовремя опомнился и в отместку за свой испуг, проходя мимо, толкнул его плечом. Отдуваясь, он смотрел, как работает голландер, как вертится барабан, как ножи раздергивают ткань на волокна. А может быть, рабочие заметили, как он испугался чернобородого, и исподтишка ухмыляются? «Наглец! Вышвырнуть его вон!» Зоологическая ненависть вспыхнула в Дидерихе, ненависть белокурой особи к темнокожей и костлявой, словно к человеку другой, враждебной расы, которую ему так хотелось бы считать низшей и которой он боялся. Он вскипел.
— Барабан неправильно поставлен, ножи плохо работают. — Рабочие только посмотрели на него. Тогда он заорал: — Механик! — Чернобородый подошел. — Ослепли вы, что ли, не видите этого безобразия? Барабан придвинут слишком низко к ножам, они все тут в порошок сотрут. Вы ответите за убытки.
Рабочий наклонился над машиной.
— Никаких убытков не будет, — спокойно сказал он, но Дидерих уже опять терзался сомнением, не ухмыляется ли тот в свою черную бороду? В угрюмом взгляде механика сквозила насмешка. Дидерих не выдержал этого взгляда, он даже позабыл сверкнуть очами и только руками размахивал.
— Вы мне ответите!
— Что случилось? — спросил Зетбир, прибежавший на шум. Он объяснил хозяину, что волокна имеют нормальную толщину и что так делалось всегда. Рабочие утвердительно кивали, механик спокойно стоял рядом. Дидерих, понимая, что ему не хватает практических познаний для спора с этими людьми, лишь крикнул:
— В таком случае впредь извольте делать по-другому! — круто повернулся и вышел вон.
Войдя в тряпичный цех, он напустил на себя важность и с видом знатока наблюдал, как работницы, сидя за длинными решетчатыми столами, сортируют тряпье. А когда одна из них, молоденькая темноглазая девушка, вздумала чуть-чуть улыбнуться ему из-под пестрого головного платка, она увидела такую неприступную мину, что оробела и втянула голову в плечи. Из пухлых мешков текли разноцветные лоскутья; шептавшиеся женщины умолкали под взглядом хозяина, в нагретом спертом воздухе раздавалось лишь лязганье вделанных в столы полукруглых ножей, срезавших пуговицы. Но Дидериху, щупавшему трубы отопления, почудились какие-то подозрительные звуки. Он заглянул за наваленные горой мешки — и, наливаясь кровью, шевеля усами, отпрянул.
— Ну, знаете, дальше некуда! Выходите, слышите? — Из-под мешков вылез молодой рабочий. — И девка тоже! — кричал Дидерих. — Долго еще я буду ждать? — Показалась девушка; Дидерих стоял подбоченясь. Да, тут, видно, не скучают: его фабрика это не только кабак, а еще кое-что похлеще! Он так орал, что из всех цехов сбежались рабочие.
— И давно это, господин Зетбир, у вас заведены такие порядки? Поздравляю! Люди, значит, в рабочее время развлекаются за кучей мешков! Как попал в цех парень?
Молодой рабочий заявил, что девушка его невеста.
— Невеста? Здесь нет никаких невест, здесь только рабочие и работницы. Вы воруете у меня оплаченное время. Вы — скоты и вдобавок воры. Я вас вышвырну вон, да еще подам в суд за публичный разврат.
Он окидывал всех воинственными взглядами.
— Я требую от своих рабочих немецкого добронравия и благопристойности. Понятно? — В поле его зрения попал механик. — И я добьюсь своего, какие бы вы ни корчили рожи.
— Я и не думал корчить рожи, — спокойно сказал рабочий. Но Дидерих не в силах был остановиться. Наконец-то он поймал этого человека с поличным.
— Я давно взял вас на заметку! Вы не выполняете своих обязанностей, иначе я не накрыл бы здесь эту вару.
— Я не надсмотрщик, — прервал механик словоизвержения хозяина.
— Вы бунтарь, вы потворствуете рабочим и развели тут разврат. Вы подкапываетесь под устои империи. Ваше имя?
— Наполеон Фишер, — ответил механик.
Дидерих поперхнулся:
— Нап… Этого еще не хватало! Социал-демократ?
— Да, социал-демократ!
— Так я и знал! Вы уволены! — Повернувшись к рабочим, он добавил только: — Видели? Так намотайте себе на ус! — и выскочил из цеха. Во дворе его нагнал Зетбир.
— Хозяин!..
Старик был сильно взбудоражен. Он ни о чем не хотел говорить, прежде чем дверь конторы не захлопнулась за ними.
— Хозяин! — повторил старый бухгалтер. — Так нельзя, он член профессионального союза.
— Именно поэтому его надо гнать вон! — крикнул Дидерих.
Зетбир повторил, что так делать нельзя, рабочие бросят работу. Дидерих отказывался это понять. Неужели все рабочие — члены профессионального союза? Нет? В чем же дело? Они боятся «красных», пояснил Зетбир, даже на стариков нынче трудно положиться.
— Я их вышвырну! Всех до единого вместе с потрохами, чтобы духу их здесь не было!
— Если бы можно было нанять других! — сказал Зетбир, с тонкой улыбкой глядя из-под своего зеленого козырька на молодого хозяина, который от бешенства готов был на стенку лезть. Дидерих кричал:
— Хозяин я на своей фабрике или не хозяин? Я обязан следить за…
Зетбир подождал, пока он отбушует, потом сказал:
— Вам, господин доктор, не придется ничего говорить Фишеру. Он все равно не уйдет, он знает, что мы не оберемся неприятностей.
Дидерих еще раз вскипел.
— Так. Выходит, мне можно и не просить его оказать снисхождение и не покидать фабрику? Его превосходительство Наполеон! Можно даже не приглашать его на обед в воскресенье? Впрочем, это было бы слишком большой честью для меня!
Он побагровел, лицо его, налитое кровью, вздулось, ему показалось тесно в комнате, он рывком распахнул двери. Как раз в эту минуту механик шел мимо. Дидерих посмотрел ему вслед. Ненависть обострила его чувства, ему одновременно бросились в глаза кривые тощие ноги, костлявые плечи, уныло свисающие руки… А когда механик заговорил с рабочими, Дидерих увидел, как заходила под редкой черной бородой его массивная челюсть. До чего он ненавидит этот рот, эти узловатые руки! Фишер давно уже исчез из виду, а Дидериху все еще мерещился запах пота, исходивший от этого человека.
— Вы только поглядите, Зетбир, передние лапы свисают у него чуть не до полу. Он скоро побежит на четвереньках и будет щелкать орехи. Мы этой обезьяне подставим ножку, будьте покойны! Наполеон! Уже одно имя чего стоит! Но пусть не забывается. Могу вас твердо заверить: один из нас, — Дидерих свирепо повел глазами, — ляжет тут костьми.
Надменно вскинув подбородок, он вышел. Дома он облачился в черный сюртук и отправился засвидетельствовать свое почтение наиболее видным лицам города. С Мейзештрассе попасть к бургомистру Шеффельвейсу, жившему на Швейнихенштрассе, можно было прямо через Вухерерштрассе, ныне переименованную в Кайзер-Вильгельмштрассе. Туда Дидерих и подался было, но в последнее мгновение, точно по тайному уговору с самим собой, все же свернул на Флейшхауэргрубе. Две ступеньки, которые вели на крыльцо дома старого Бука, были стерты ногами двух поколений горожан. Дидерих дернул звонок у желтой застекленной двери, и нежилая тишина дома огласилась долгим дребезжанием. Где-то в задних комнатах хлопнула дверь, по коридору зашлепала старая служанка. Но ее опередил хозяин: он вышел из своего кабинета и отпер сам. Господин Бук взял за руку Дидериха, усердно отвешивавшего поклоны, и втянул его в переднюю.
— Дорогой мой Геслинг! Я ждал вас, мне сообщили о вашем приезде. Добро пожаловать в Нетциг, господин доктор!
Глаза у Дидериха мгновенно увлажнились, он забормотал:
— Как вы добры, господин Бук! Я, конечно, прежде всего решил засвидетельствовать вам свое почтение и заверить, что я всегда и всецело… всегда к вашим услугам! — отбарабанил он бодро, как хороший ученик. Бук все еще крепко сжимал его руку своей теплой и в то же время как бы невесомой мягкой рукой.
— Услуги… — Старик собственноручно придвинул Дидериху кресло. — Вы их, разумеется, окажете, но не мне, а вашим согражданам, они же в свою очередь не останутся перед вами в долгу и очень скоро изберут вас в гласные. Это я, кажется, могу твердо обещать вам. Тем самым они воздадут должное всеми уважаемой семье! А там… — старик сделал торжественный и многообещающий жест, — а там всецело полагаюсь на вас и думаю, что в самом недалеком будущем мы сможем приветствовать вас в магистрате.
Дидерих поклонился, сияя счастливой улыбкой, словно к нему уже со всех сторон неслись приветствия.
— Не могу сказать, — продолжал старик, — чтобы взгляды, господствующие в нашем городе, были во всех отношениях удовлетворительны… — Белый клин его бороды зарылся в шелковый шейный платок. — Но есть еще поле деятельности для подлинных либералов, — борода снова вынырнула, — и если на то будет воля божия, мы еще повоюем.
— Я, разумеется, либерал до мозга костей, — заверил Дидерих.
Старик погладил бумаги, лежавшие на письменном столе.
— Ваш покойный батюшка не раз сиживал здесь, особенно в ту пору, когда строил фабрику. К моему величайшему удовольствию, я мог оказать ему содействие. Я говорю о ручье, который ныне протекает через ваш двор.
Дидерих проникновенно сказал:
— Как часто, господин Бук, отец говорил, что только вам он обязан ручьем, без которого было бы немыслимо наше существование.
— Вы не правы; не мне одному, а справедливым порядкам в нашем городском самоуправлении, в которых, однако, — господин Бук поднял белый указательный палец и глубокомысленно взглянул на Дидериха, — известные лица и известная партия желали бы многое изменить, да руки коротки. — Он повысил голос, и в нем зазвучали патетические нотки — Враг у ворот, сомкнем ряды!
Старик выдержал паузу и продолжал уже более спокойным тоном и даже с легкой усмешкой:
— Разве вы, господин доктор, не начинаете с того же, с чего в свое время начал ваш отец? Мечтаете расширить фабрику, строите планы, не правда ли?
— Само собой! — И Дидерих с жаром принялся излагать свои замыслы. Старик внимательно выслушал, кивнул, взял понюшку табаку. Наконец он сказал:
— Насколько я понимаю, перестройка вашей фабрики требует не только значительных денежных затрат; возможно, что городская строительная инспекция будет чинить вам трудности. Мне, кстати сказать, приходится в магистрате сталкиваться с нею. А теперь, дорогой мой Геслинг, посмотрите-ка, что лежит у меня на столе.
И Дидерих увидел точный план своего земельного участка вместе с соседним. На его лице выразилось изумление, и господин Бук удовлетворенно улыбнулся.
— Я, пожалуй, смогу помочь вам устранить препятствия, — сказал он и в ответ на изъявления благодарности, в которых рассыпался Дидерих, прибавил: — Оказывать содействие друзьям — значит служить нашему великому делу, ибо друзья партии народа — это все, кроме тиранов.
Господин Бук откинулся на спинку кресла и сложил руки. Лицо его разгладилось, он сердечно, как добрый дедушка, кивнул Дидериху.
— В детстве у вас были такие прелестные белокурые волосы, — сказал он.
Дидерих понял, что официальная часть беседы закончена.
— Я вспоминаю, — осмелился он поддержать разговор, — как совсем еще малышом приходил сюда играть в солдатики с вашим уважаемым сыном Вольфгангом.
— Да, да, он теперь опять играет в солдатики.
— О, его очень любят офицеры. Он сам говорил мне.
— Я был бы рад, господин Геслинг, если бы он хотя бы наполовину обладал присущей вам практической жилкой… Ну, ничего, женится — переменится.
— В вашем сыне, по-моему, есть что-то гениальное, — сказал Дидерих. — Поэтому его ничто не удовлетворяет, и он не может принять решение: то ли ему генералом стать, то ли еще как выйти в большие люди.
— А пока, к сожалению, он делает глупости.
Старик устремил взгляд в окно. Дидерих не посмел дать волю своему любопытству.
— Глупости? Не могу себе представить, право! Его ум, его способности всегда меня восхищали. Еще на школьной скамье. Его сочинения, например… А как хорошо он сказал о нашем кайзере: его величество охотно стал бы первым вождем рабочих…
— Избави боже рабочих…
— Почему? — Дидерих был чрезвычайно изумлен.
— Потому, что рабочим от этого не поздоровилось бы. Да и нам бы это впрок не пошло.
— Но ведь если бы не Гогенцоллерны, у нас не было бы теперь единой Германской империи.
— Ее у нас и нет, — сказал Бук и с неожиданной легкостью вскочил с места. — Для того чтобы создать подлинное единство, нужно свободное волеизъявление, а где оно у нас? «Едиными вы себя мните, но спаяла вас рабства чума». Весной семьдесят первого это крикнул упоенным победой немцам Гервег{11}, такой же обломок прошлого, как я сам. Что сказал бы он нынче?
Перед этим голосом из потустороннего мира Дидерих мог лишь промямлить:
— Ах да, вы ведь участник событий сорок восьмого года…
— Правильнее было бы сказать, дорогой мой юный друг, — безумец и побежденный. Да, мы потерпели поражение, так как были столь наивны, что верили в народ. Нам казалось, что он сам сможет добыть то, что теперь, расплачиваясь ценой своей свободы, получает из рук повелителей. Мы воображали, что он могуч, богат, трезво оценивает свое положение и полон веры в будущее. Мы не понимали, что этот народ, политически еще более отсталый, чем другие, после взлета окажется во власти сил прошлого. Уже в наше время было много, слишком много людей, равнодушных к общему делу — они преследовали личные интересы и, пригретые каким-нибудь милостивцем, были рады-радехоньки, что могут удовлетворять свою низменную жажду роскоши и наслаждений. Нынче таким людям имя легион, ибо со всех снята забота об общем благе. Ваши правители уже сделали вас великой державой, и пока вы наживаете капиталы, как умеете, и тратите их, как хотите, они построят вам, вернее — себе, еще и флот, который в ту пору мы построили бы сами. Только теперь вы поймете слова, сказанные в те дни нашим поэтом: «И в бороздах, Колумбом проведенных, грядущее Германии восходит».
— Бисмарк действительно кое-что сделал, — сказал Дидерих с чуть заметной ноткой торжества в голосе.
— В том-то и суть, что ему позволили это сделать. И хотя осуществил он все собственными руками, формально он действовал от имени властелина. Могу сказать с полным правом, мы, люди сорок восьмого, были много честнее. Я тогда сам расплатился за свои дерзания.
— Да, я знаю, вы были приговорены к смерти, — сказал Дидерих, опять сомлев от благоговения.
— Я был приговорен к смертной казни, ибо я защищал суверенитет Национального собрания против самовластия и повел на восстание народ, прибегший к самообороне. Единство Германии, которое мы хранили в наших сердцах, было долгом нашей совести, все вместе и каждый в отдельности мы несли за него ответственность. Нет! Мы не прославляли так называемых творцов германского единства. Когда, преданный и побежденный, я вместе с последними моими друзьями ожидал здесь, в моем доме, прихода королевских солдат, я, великий или ничтожный, был человеком, я сам боролся за свой идеал. Я был один из многих, но человеком. Куда девались нынче люди?
Старик умолк, и лицо у него было такое, точно он прислушивался к чему-то. Дидериха бросало в жар и холод. Он чувствовал, что молчать в ответ на эти речи больше нельзя. Он сказал:
— Теперь германский народ, слава богу, уж не народ мыслителей и поэтов, теперь он ставит перед собой практические цели, диктуемые духом времени.
Старик, погруженный в свои думы, встрепенулся и, указывая пальцем в потолок, сказал:
— В те времена у меня бывал весь город, теперь мой дом пуст, как никогда, последним покинул его Вольфганг. Я готов от всего устраниться, но свое прошлое, молодой человек, нужно уважать даже в том случае, если оказываешься в числе побежденных.
— Без сомнения, — сказал Дидерих. — Да вы ведь по сей день самый влиятельный человек в городе. Только и слышишь — это город господина Бука.
— Да этого мне вовсе не надо, пусть бы он сам себе был хозяином. — Старик глубоко вздохнул. — Это дело сложное и запутанное, вы исподволь начнете разбираться в нем, когда познакомитесь с нашим самоуправлением. Что ни день, правительственные власти и их хозяева в лице юнкеров наседают на нас все сильнее. Сегодня нас заставляют снабжать светом помещиков, которые нам не платят никаких налогов, завтра нас обяжут строить для них дороги. В конце концов и самое самоуправление под угрозой. Вы вскоре убедитесь, что мы живем в осажденном городе.
Дидерих снисходительно улыбнулся.
— Все это, я полагаю, не так уж страшно, ведь наш кайзер человек насквозь современный?
— Ну, разумеется, — сказал Бук. Он поднялся, покачал головой, но… предпочел промолчать. Он протянул Дидериху руку.
— Милейший доктор, мне ваша дружба так же дорога, как в свое время — дружба вашего покойного отца. Сегодняшняя беседа дает мне право надеяться, что мы и с вами будем во всем единодушны.
В синих глазах старика сияло столько теплоты, что Дидерих ударил себя в грудь:
— Я либерал до мозга костей.
— Больше всего берегитесь регирунгспрезидента{12} фон Вулкова. Это враг, которого навязали нам на шею. Магистрат поддерживает с ним самые необходимые отношения. Я имею честь состоять в числе тех, с кем этот господин не раскланивается.
— Да что вы? — воскликнул Дидерих, искренне потрясенный.
Бук уже открывал перед ним двери, но, казалось, он еще над чем-то раздумывает.
— Погодите! — Он торопливо подошел к книжным полкам, нагнулся и вынырнул из пыльной глубины с квадратным томиком в руках. Слегка покраснев, с затаенным сиянием в глазах, старик быстрым движением протянул его Дидериху.
— Вот, возьмите. Это мои «Набатные колокола». Мы и поэтами были… в ту пору. — И он мягко подтолкнул Дидериха к выходу.
Флейшхауэргрубе круто поднималась в гору, но Дидерих запыхался не только по этой причине. Сквозь смятение первых минут постепенно пробилась мысль, что он свалял дурака. «Ведь этот старый болтун не больше, чем пугало воронье, а я на него чуть ли не молюсь». Смутно вспомнилось детство, когда старик Бук, в сорок восьмом приговоренный к смертной казни, внушал ему такой же страх и трепет, как постовой, стоявший на углу, и привидение в замке. «Неужели я навсегда останусь тряпкой? Другой на моем месте сразу оборвал бы его! Да и черт знает какие неприятности могут произойти оттого, что я молча выслушивал такие компрометирующие речи, а если возражал, то слишком слабо». Дидерих придумывал впрок энергические ответы. «Старик, конечно, расставил мне сети. Хотел захватить меня врасплох и обезвредить. Да не на таковского напал!» Воинственно шагая по Кайзер-Вильгельмштрассе, Дидерих стискивал кулаки в кармане. «Пока еще придется поддерживать отношения. Но пусть только сила окажется на моей стороне, тогда ему несдобровать».
Дом бургомистра, свежевыкрашенный масляной краской, ослепительно сверкал зеркальными стеклами окон. Дидериха встретила хорошенькая горничная. По лестнице, освещенной лампой, которую держал в руках приветливо улыбающийся терракотовый мальчик, Дидерих поднялся в переднюю, где перед каждым предметом, будь то даже подставках для зонтов, был разостлан маленький коврик; из передней его ввели в столовую. Под гастрономическими картинами, висевшими на обшитых светлым деревом стенах, бургомистр и неизвестный Дидериху господин сидели за вторым завтраком. Доктор Шеффельвейс подал Дидериху бледную руку и окинул его взглядом поверх пенсне. Непонятно было, видит ли он того, на кого смотрит, так мутен был взгляд этих глаз, бесцветных, как и все лицо, с разлетающимися, жиденькими, тоже какими-то мутными бачками. Бургомистр несколько раз безуспешно пытался завязать разговор, пока, наконец, не нашел подходящего начала.
— Замечательные шрамы, — сказал он и повернулся к первому гостю: — Вы не находите?
Дидерих насторожился: гость сильно смахивал на еврея. Но бургомистр отрекомендовал его:
— Господин асессор Ядассон из прокуратуры, — после чего Дидериху оставалось только отвесить низкий поклон.
— Не тратьте драгоценного времени, — сказал бургомистр, — мы только-только начинаем.
Он налил Дидериху пива и пододвинул семгу.
— Жена и теща в городе, дети в школе, вот я и блаженствую на холостяцком положении. Хоть час — да мой! За ваше здоровье!
Господин из прокуратуры, смахивающий на еврея, никого и ничего не замечал, кроме хорошенькой горничной. Пока она что-то переставляла на столе рядом с ним, одна его рука скрылась из виду. Управившись, девушка вышла, и асессор Ядассон уже собирался заговорить о делах общественных, но бургомистр настойчиво бубнил о своем:
— Обе дамы раньше, чем к обеду, не вернутся, теща отправилась к зубному врачу. Я знаю, что это значит, с ней не скоро справишься, а тем временем дом в нашем полном распоряжении.
Он достал из буфета ликер, сначала сам его расхвалил, потом предложил гостям оценить его по достоинству и с полным ртом продолжал монотонно превозносить эти идиллические предобеденные часы. Однако, несмотря на все блаженство, на лице его все явственнее проступала тень озабоченности — он, видно, чувствовал, что в таком духе разговор не может продолжаться, и после общего минутного молчания решился:
— Осмелюсь высказать предположение, господин доктор Геслинг… Мы с вами ведь не ближайшие соседи, и я счел бы вполне естественным, если бы вы сначала посетили кой-кого из других официальных лиц в городе.
Дидерих собирался уже соврать и заранее покраснел. «Все равно раскроется», — вовремя спохватился он и сказал:
— Совершенно верно, я разрешил себе… То есть само собой, я направился прежде всего к вам, господин бургомистр. И только из уважения к памяти моего покойного отца, можно сказать, благоговевшего перед господином Буком…
— Понятно, совершенно понятно. — Бургомистр выразительно кивнул. — Господин Бук старейший среди заслуженных граждан нашего города, его влияние законно и оправдано.
— До поры, до времени, — неожиданно резким фальцетом выкрикнул господин с еврейской внешностью и вызывающе взглянул на Дидериха. Бургомистр склонился над тарелкой с сыром. Дидерих понял, что защиты ему ждать не от кого, и часто заморгал. Взгляд асессора так неотступно требовал чистосердечного признания вины, что Дидерих робко заговорил о почтении, «вошедшем в кровь и плоть». Стал даже оправдываться воспоминаниями детства, путано объясняя, почему он нанес первый визит Буку. Говоря, он не сводил испуганных глаз с огромных, красных, сильно оттопыренных ушей господина из прокуратуры. Тот выслушал до конца всю эту невнятицу, точно перед ним был подсудимый, запутавшийся в показаниях; наконец он отчеканил:
— В иных случаях почтительные чувства на то и существуют, чтобы их вытравить.
Дидерих прикусил язык; затем решил, что лучше всего засмеяться с видом человека, понимающего шутку. Бургомистр улыбнулся своей бесцветной улыбкой и примирительно развел руками.
— Доктор Ядассон любит острое словцо, что я лично высоко ценю в нем. Но самый пост мой обязывает меня рассматривать вещи объективно и беспристрастно. Поэтому я не могу не сказать: с одной стороны…
— Перейдем сразу к другой стороне, — потребовал асессор Ядассон. — Для меня, как представителя государственного ведомства и убежденного сторонника существующего строя, этот самый господин Бук и его единомышленник депутат рейхстага Кюлеман по своему прошлому и по своим взглядам попросту крамольники, и только. Я не желаю играть в прятки, это было бы недостойно немца. Открывать дешевые столовые — сделайте одолжение, но лучшая пища для народа — благонадежный образ мыслей. Дом для умалишенных тоже не бесполезное учреждение.
— Если он проникнут верноподданническим духом! — подхватил Дидерих.
Бургомистр жестами успокаивал их.
— Господа, — молил он. — Господа! Между нами говоря, при всем уважении к упомянутым лицам, все же с другой стороны…
— С другой стороны! — строго подчеркнул Ядассон.
— …все же с другой стороны приходится глубоко сожалеть о наших, к моему прискорбию, столь неблагоприятных отношениях с представителями правительства, хотя разрешите сказать вам, что исключительная непримиримость господина регирунгспрезидента фон Вулкова к городским властям…
— К группам неблагонамеренных, — перебил бургомистра Ядассон.
Дидерих набрался смелости:
— Я либерал до мозга костей, но должен сказать, что…
— Город, — объявил асессор, — город, который глух к справедливым требованиям правительства, не вправе удивляться, что правительство отвернулось от него.
— Время на проезд от Берлина до Нетцига, будь у нас лучшие отношения с правящими кругами, можно было бы сократить вдвое, — компетентным тоном вставил Дидерих.
Бургомистр терпеливо ждал, пока его гости доведут дуэт до конца. Он сидел бледный, с полуопущенными веками. Вдруг он поднял глаза и произнес со своей жидкой улыбкой:
— Господа, вы ломитесь в открытую дверь, я сознаю, что образ мыслей наших городских властей не отвечает духу времени. Поверьте, не моя вина, что его величеству не была направлена верноподданническая телеграмма во время его пребывания в провинции на прошлогодних маневрах…
— Магистрат занял глубоко антинемецкую позицию, — объявил Ядассон.
— Выше знамя национализма! — потребовал Дидерих. Бургомистр воздел руки.
— Милостивые государи, разве я этого не знаю? Но я всего лишь председатель магистрата и, к сожалению, обязан выполнять его постановления. Создайте другие условия! Господин асессор еще помнит наш спор с регирунгспрезидентом по поводу учителя Реттиха, социал-демократа. Я не мог принять против него репрессивные меры. А господину Вулкову известно, — бургомистр прищурил один глаз, — что, вообще говоря, я охотно сделал бы это.
Некоторое время все молчали, косясь друг на друга. Ядассон сердито фыркал с видом человека, по горло сытого такими речами. Но Дидерих не мог больше совладать с собой.
— Либерализм проложил дорогу социал-демократам! — воскликнул он. — Под влиянием таких людей, как Бук, Кюлеман и Эйген Рихтер, рабочие наглеют. Мое предприятие требует от меня больших жертв, оно возлагает на меня тяжелое бремя труда и ответственности, и после всего рабочие еще смеют идти на конфликты со мной. А почему? Потому, что мы не единодушны в борьбе против красной опасности, потому что есть работодатели, которые плывут в фарватере социал-демократов, как, например, зять господина Бука, Лауэр. Он привлек рабочих своей фабрики к участию в прибылях. Это же безнравственно! — Дидерих сверкнул очами. — Это значит подкапываться под существующий порядок, а я держусь той точки зрения, что порядок в наше суровое время необходимее, чем когда-либо. Поэтому нам требуется твердая рука, а наш несравненный молодой кайзер и правит нами твердой рукой. Безоговорочно объявляю себя слугой его величества…
Сотрапезники Дидериха склонили головы. Дидерих в ответ кивнул, не переставая сверкать очами. Отживающее поколение еще верит во всякую демократическую белиберду, продолжал он, но кайзер, в отличие от него — представитель молодежи, личность исключительная и, что самое отрадное, весь порыв и действие, к тому же глубоко своеобразный мыслитель…
— Единовластие! — воскликнул Дидерих. — Во всех областях! — Он исчерпывающе изложил свою программу решительного, воинствующего образа мыслей и добавил, что настала пора и в Нетциге покончить со всякого рода вольнодумством и слюнтяйством. Грядут новые времена!
Ядассон и бургомистр молча выслушали тираду Дидериха; уши Ядассона, казалось, выросли еще больше. Он каркнул:
— Есть и в Нетциге немцы, обуреваемые верноподданническими чувствами!
Дидерих старался его перекричать:
— А к тем, у кого их нет, надо присмотреться поближе. И мы увидим, соответствует ли положение, которое они занимают, их заслугам. Я уже не говорю о старике Буке, — а что представляет собой его родня? Сыновья — один омужичился, другой — промотался, зять — социалист, а дочь, говорят…
Они переглянулись. Бургомистр захихикал и слабо порозовел. Не скрывая своего удовольствия, он выпалил:
— А вы, господа, еще не слышали, что брат старика Бука объявил себя банкротом?
Гости шумно выразили свое удовлетворение. Тот самый, с пятью расфуфыренными дочерьми! Председатель общества «Гармония»! А обеды берут в благотворительной столовой! Это Дидериху доподлинно известно! Бургомистр опять наполнил рюмки и придвинул сигары. Он вдруг перестал сомневаться в предстоящих переменах.
— Полтора года осталось до выборов в рейхстаг. Придется вам, господа, потрудиться это время.
Дидерих предложил:
— Давайте уже сейчас рассматривать нашу тройку как узкий предвыборный комитет.
Ядассон напомнил, что прежде всего необходимо вступить в контакт с регирунгспрезидентом фон Вулковым.
— Строго секретно! — добавил бургомистр и подмигнул. Дидерих выразил сожаление, что «Нетцигский листок», самый крупный печатный орган города, плетется в хвосте у свободомыслящих.
— Проклятый еврейский листок! — каркнул Ядассон. — А в то же время окружная газета, преданная правительству, почти не имеет веса.
Старик Клюзинг из Гаузенфельда поставлял бумагу обеим газетам. Дидерих не исключал возможности через него воздействовать на «Нетцигский листок», — Клюзинг ведь один из пайщиков; старика надо припугнуть, дать ему понять, что он рискует лишиться окружной газеты.
— Пусть помнит, что в Нетциге есть еще одна бумажная фабрика, — вставил бургомистр и усмехнулся.
Вошедшая горничная сказала, что пора накрывать на стол к обеду; барыня может прийти с минуты на минуту.
— …и госпожа капитанша тоже, — прибавила она. Как только был произнесен этот титул, бургомистр встал и проводил гостей. Он шел за ними с опущенной головой, белый как мел, а ведь выпито было немало. На лестнице он взял Дидериха за рукав. Ядассон задержался в комнатах, оттуда доносилось приглушенное взвизгивание горничной. Внизу, у входных Дверей, уже звонили.
— Надеюсь, дорогой доктор, — зашептал бургомистр, — вы не истолковали мои слова превратно. Как бы там ни было, я, разумеется, стою на страже интересов города. У меня, само собой, и в мыслях нет затевать что-либо в пику органам городского самоуправления, которое я имею честь возглавлять.
Он искательно заморгал. Дидерих не успел опомниться, как вошли дамы. Бургомистр выпустил его рукав и поспешил им навстречу. Бургомистерша, замученная, иссушенная заботами, едва успев поздороваться с гостями, бросилась разнимать своих мальчиков, которые тузили друг друга. Мать ее, еще моложавая женщина, на голову выше дочери, буравила взглядом разгоряченные лица мужчин. Величественной Юноной двинулась она на бургомистра, а он все съеживался, как будто сокращался в объеме… Асессор Ядассон сразу дал тягу. Дидерих, отвешивая почтительные поклоны, на которые никто не отвечал, торопливо вышел вслед за ним. На душе у него скребли кошки, он беспокойно озирался по сторонам, не слыша того, что говорил ему Ядассон. Вдруг он повернул и кинулся назад. Ему пришлось долго и настойчиво звонить, так как по ту сторону дверей стоял сильный шум. Вся семья еще находилась на нижней площадке лестницы, дети дрались, взрослые спорили. Бургомистерша требовала, чтобы муж обратился к директору школы с жалобой на какого-то учителя, который будто бы придирается к сыну. Теща же, напротив, твердила, что зять должен добиваться производства этого учителя в старшие преподаватели; его жена-де пользуется большим влиянием в правлении Вифлеемского убежища для падших девушек. Бургомистр жестами заклинал то одну, то другую успокоиться. Наконец он ухитрился вставить:
— С одной стороны…
Но тут Дидерих дернул бургомистра за рукав, оттащил его в сторону, многословно извиняясь перед дамами, и дрожащим голосом зашептал:
— Почтеннейший господин бургомистр, я считаю своим долгом устранить возможные недоразумения. Позволю себе еще и еще раз повторить, что я либерал до мозга костей.
Доктор Шеффельвейс торопливо заверил Дидериха, что он в этом убежден совершенно так же, как и в собственном истинно либеральном мировоззрении. Его позвали, и Дидерих, несколько успокоившись, покинул дом бургомистра. Ядассон, язвительно осклабясь, дожидался его.
— Что, перетрусили? Совершенно напрасно. С нашим отцом города трудно себя скомпрометировать, он как господь бог, всегда с теми, кто сильнее. Сегодня меня интересовало одно: тесно ли он связан с фон Вулковым. Дело обстоит не плохо, мы можем отважиться на кой-какие шаги.
— Прошу не забывать, — сказал Дидерих сдержанно, — что буржуазные круги Нетцига — это моя родная среда, и, разумеется, я либерал.
Ядассон искоса взглянул на него.
— Новотевтония? — спросил он. Когда Дидерих с удивлением повернулся к нему, он добавил: — А что поделывает мой старый приятель Вибель?
— Вы с ним знакомы? Это мой лейббурш!
— Знаком? Мы были с ним неразлучны.
Дидерих крепко сжал руку, протянутую Ядассоном, и долго тряс ее.
«Ну и ну! Подумать только!» Они под руку отправились в погребок, ресторан при ратуше: решили вместе отобедать.
Там было пусто и сумеречно. Для них зажгли газовый рожок в глубине зала, и в ожидании супа они предались воспоминаниям о старых однокашниках. Толстяк Делицш! Дидерих с достоверностью очевидца подробно описал его трагический конец. Первый бокал рауэнтальского они посвятили его памяти. Выяснилось, что и Ядассон наблюдал февральские волнения и точно так же, как Дидерих, с тех пор научился уважать власть.
— Его величество выказал такое мужество, — заметил Ядассон, — что при одной мысли об этом голова кружится. Я не раз думал, что если бы, сохрани бог… — «Он запнулся, и оба, вздрогнув, поглядели друг другу в глаза» Чтобы отогнать страшное видение, они подняли бокалы.
— Разреши, — сказал Ядассон.
— Изволь! — сказал Дидерих.
Ядассон:
— За здоровье наших близких!
Дидерих:
— Почту за честь рассказать об этом домашним.
Затем Ядассон, невзирая на стынущий обед, принялся многословно восхвалять кайзера за силу характера. Пусть мещане, злопыхатели и евреи находят в нем сколько угодно недостатков, но он, наш несравненный молодой кайзер, в общем и целом — личность исключительная, и, что самое отрадное, он весь — порыв и действие, к тому же глубоко своеобразный мыслитель. Дидериху показалось, что Ядассон только повторяет его слова, и он несколько раз удовлетворенно кивнул. Он сказал себе, что внешность иной раз обманчива и что между немецким образом мыслей и величиной ушей нет, видимо, прямой зависимости. Они осушили бокалы за благополучный исход борьбы во имя несокрушимости трона и алтаря, против бунтарства, в какой бы форме оно ни проявлялось, в какие бы перья ни рядилось.
Так они вернулись к положению дел в Нетциге. Оба единодушно пришли к выводу, что новый националистический дух, которому предстоит завоевать Нетциг, не нуждается ни в каких программах. Имя его величества — этим все сказано. Политические партии — ненужный хлам, как самолично выразился его величество кайзер.
«Я знаю лишь две партии: одна — за меня, другая — против», сказал он, и правильно! В Нетциге, к сожалению, перевес пока на стороне противников кайзера, но этому скоро придет конец и, что Дидериху было совершенно ясно, — с помощью ферейна воинов. Ядассон не был его членом, но обещал представить Дидериха руководящим деятелям ферейна. Прежде всего он, конечно, познакомит его с пастором Циллихом, человеком истинно немецкого образа мыслей. Сейчас же после обеда можно нанести ему визит. Выпили за его здоровье. И за своего капитана поднял бокал Дидерих, за своего строгого начальника, ставшего его лучшим другом:
— Год военной службы, это, знаете, год, который я ни за что не согласился бы вычеркнуть из моей жизни. — И без передышки, порядком раскрасневшись, воскликнул: — И такие светлые воспоминания демократы хотят отнять у нас!
Старик Бук! Дидерих вдруг пришел в такое негодование, что чуть не задохся. Он с трудом проговорил:
— И вот этот человек старается убедить нас, что служить не следует, называет нас рабами. Оттого, видите ли, что он когда-то совершал революцию.
— Да это сказки, — вставил Ядассон.
— Чего же он хочет: чтобы и нас всех приговорили к смертной казни? Так, что ли? Вот уж кому надо было снять голову… От Гогенцоллернов, видите ли, мало проку!
— Для него-то безусловно! — сказал Ядассон и основательно отхлебнул из своего бокала.
— Я заявляю, — крикнул Дидерих, тараща глаза, — что всю эту еретическую хулу выслушал только с одной целью — я хотел знать, с кем имею дело! Призываю вас в свидетели, господин асессор! Пусть только старый интриган посмеет утверждать, что мы с Ним друзья и что я соглашался со всеми этими подлыми оскорблениями величества. Вы свидетель, что я в тот же день выразил свой протест!
Вдруг его прошиб пот: он вспомнил о строительной инспекции, о покровительстве, которое обещал ему Бук… Дидерих неожиданно швырнул на стол маленький, почти квадратный томик и разразился сардоническим хохотом…
— Он и стихи кропает!
Ядассон стал листать.
— «Песни вольных гимнастов», «Голос заключенных», «Да здравствует республика!» и «У пруда лежал отрок, печальный и бледный»… Правильно, все они такими были. Пеклись об арестантах и расшатывали устои. Сентиментальный бунт. Неблагонадежный образ мыслей и бесхребетность. Мы, слава богу, из другого теста.
— Надеюсь! — сказал Дидерих. — В корпорации мы прошли школу мужества и идеализма. Это все, что нужно, стихоплетством нам заниматься не к чему.
— «Не надо нам ваших алтарных свечей», — продекламировал Ядассон. — Это, знаете, для моего друга Циллиха. Кстати, он уже, верно, выспался после обеда, пойдемте!
Они застали пастора за кофе. Пастор хотел тотчас же выслать из комнаты жену и дочь. Ядассон галантно задержал хозяйку дома и попытался поцеловать ручку девице, но та повернулась к нему спиной. Дидерих, который был сильно навеселе, настоятельно попросил дам остаться, и ему удалось их уговорить. После Берлина, сказал он дамам, Нетциг производит впечатление тихого захолустного городка.
— И дамские моды здесь прабабушкиных времен. Клянусь честью, фрейлейн, из всех, кого я здесь видел, вы первая могли бы со спокойной душой пройти по Унтерденлинден и никому в голову не пришло бы, что вы из Нетцига. — Она ответила, что действительно приезжала однажды в Берлин и даже была в кабаре Ронахера. Дидерих тотчас же сыграл на этом: напомнил ей о песенке, которую там исполняли; пропеть ее он может только на ушко: «Наши душки, наши дамы все откроют перед нами…» Поймав искоса брошенный лукавый взгляд, он усами пощекотал ей шею. Она умоляюще вскинула на него глаза, после чего он уже смело заверил ее, что она «прелестная мышка». Она потупилась и подсела к матери, наблюдавшей всю эту сцену. Тем временем пастор вел серьезную беседу с Ядассоном. Он жаловался, что в Нетциге мало посещают церковь.
— В третье воскресенье после пасхи — вы только подумайте! — в такой день я произносил проповедь перед причетником и тремя старушками из приюта Пресвятой девы! Остальные прихожане все до одного болели инфлуэнцей.
— Господствующая в Нетциге партия, — сказал Ядассон, — занимает такую безразличную, вернее сказать, враждебную позицию в вопросах церкви и религии, что, право, же, надо только удивляться тем трем старушкам. Странно, как это они не предпочли вашей проповеди доклад вольнодумца доктора Гейтейфеля…
Пастор вскочил. Он так запыхтел, что, казалось, борода его вспенилась, а фалды сюртука заходили ходуном.
— Господин асессор, — выговорил он наконец. — Этот человек мой шурин, и «мне отмщение», говорит господь. Но пусть это мой шурин и муж моей единоутробной сестры, я молю бога моего обрушить на него молнию небесную. Иначе господу богу придется когда-нибудь обрушить на весь Нетциг потоки кипящей смолы и серы. Кофе, понимаете ли, даровым кофе Гейтейфель заманивает к себе людей и улавливает их души. Внушает им, будто брак вовсе не святое таинство, а договор — точно идешь заказывать себе костюм.
Пастор горько рассмеялся.
— Тьфу! — басом произнес Дидерих, и пока Ядассон убеждал пастора, что исповедует позитивное христианство, Дидерих, под прикрытием кресла, возобновил свои атаки на Кетхен.
— Фрейлейн Кетхен, — сказал он, — могу вас твердо заверить, что для меня брак — это таинство.
— Постыдились бы, господин доктор, — ответила Кетхен.
Его бросило в жар:
— Не смотрите на меня так!
— Вы страшно испорчены, — вздохнула Кетхен. — Вероятно, не меньше асессора Ядассона. О ваших берлинских похождениях мне уже рассказали ваши сестры. А это мои самые близкие подруги.
— Значит, есть надежда в ближайшее время встретиться?
— Да, в «Гармонии». Но не рассчитывайте на мое легковерие. Я знаю, ведь вы приехали в Нетциг вместе с Густой Даймхен.
— Ну и что из этого? — спросил Дидерих. — Я решительно возражаю против каких бы то ни было выводов из столь случайных обстоятельств. И потом ведь Густа Даймхен помолвлена.
— Подумаешь! — протянула Кетхен. — Ее это не остановит, она отчаянная кокетка.
Пасторша подтвердила слова дочери. Не далее, как сегодня, она встретила Густу в лаковых туфельках и лиловых чулках. Чего уж ждать от такой девушки. Кетхен презрительно скривила губы.
— Ну, а наследство…
Услышав нотку сомнения в голосе Кетхен, озадаченный Дидерих умолк. Пастор только что согласился с предложением асессора подробно обсудить положение христианской церкви в Нетциге и велел жене принести ему пальто и шляпу. На лестнице было уже темно. Воспользовавшись тем, что пастор и Ядассон ушли вперед, Дидерих совершил повторный наскок на шею Кетхен. Она сказала замирающим голосом:
— Так щекотать усами больше никто в Нетциге не умеет.
В первую минуту это польстило Дидериху, но в следующую навело на самые ужасные подозрения. Он попросту отошел от Кетхен и ретировался. Ядассон, дожидавшийся внизу, шепнул ему:
— Не робеть! Старик ничего не заметил, а мать делает вид, что не замечает. — Он развязно подмигнул Дидериху.
Миновав церковь святой Марии, они собирались свернуть на рыночную площадь, но пастор остановился и движением головы показал назад.
— Вам, господа, вероятно, известно название вон того переулка под аркой, слева от церкви? Название этой темной дыры, именуемой переулком, или, точнее, известного дома?
Пастор не двигался с места, и Ядассон сказал:
— «Маленький Берлин».
— «Маленький Берлин», — повторил пастор со страдальческой усмешкой и, потрясая в священном гневе кулаком, так что прохожие начали оглядываться, повторил: — «Маленький Берлин»!.. Под сенью моей церкви такое заведение! А магистрат не желает слушать меня, да еще потешается. Но он потешается еще и над другим, — пастор зашагал, наконец, дальше, — а тот этого не попустит…
Ядассон поддакивал пастору. Оба увлеклись разговором. Дидерих же тем временем увидел у ратуши Густу Даймхен; она шла им навстречу. Он церемонно снял шляпу, Густа задорно улыбнулась. Он подумал, что у Кетхен Циллих такие же белокурые волосы и такой же нахально вздернутый носик. По сути дела все равно, кто — одна или другая. Густа, правда, хороша еще своими аппетитными формами. «И она уж никому не спустит. Сразу получишь на орехи». Он оглянулся и посмотрел ей вслед: она шла, виляя округлыми бедрами. И Дидерих сказал себе: «Она или никто».
Спутники его, оказалось, тоже заметили Густу.
— Это как будто дочурка фрау Даймхен? — спросил пастор и прибавил: — Вифлеемский приют для падших девиц все еще ждет щедрости благотворителей. А фрейлейн Даймхен щедра? Не знаете? Говорят, она получила в наследство целый миллион.
Ядассон утверждал, что эти слухи сильно преувеличены. Дидерих возразил: ему известны все обстоятельства дела; ее покойный дядюшка зарабатывал на цикории гораздо больше, чем думают. Он так настойчиво твердил свое, что асессор пообещал все хорошенько разузнать в магдебургском суде. Дидерих, довольный таким оборотом разговора, умолк.
— Впрочем, — сказал Ядассон, — эти деньги все равно уплывут к Букам, иначе говоря, пойдут на потребу бунтарям.
Но Дидерих и тут остался при особом мнении.
— Мы с фрейлейн Даймхен приехали в Нетциг одним поездом, — сказал он, нащупывая почву.
— Ах так! — протянул Ядассон. — Можно поздравить?
Дидерих пожал плечами, как бы уклоняясь от ответа на бестактный вопрос. Ядассон извинился, он думал лишь, что молодой Бук…
— Вольфганг? — спросил Дидерих. — В Берлине мы с ним встречались ежедневно. Он живет с актрисой.
Пастор укоризненно кашлянул. Когда вышли на Театральную площадь, он строго посмотрел на здание театра и произнес:
— «Маленький Берлин» хоть и находится рядом с моей церковью, но он по крайней мере прячется в мрачном закоулке. Сей же храм безнравственности красуется на открытой площади, и наши сыновья и дочери, — он указал на служебный вход, где стояло несколько актеров и актрис, — дышат одним воздухом с блудницами!
Дидерих с постной миной сказал, что это очень прискорбно, а Ядассон обрушился на «Нетцигский листок», восторженно писавший о пьесах последнего сезона, в которых четырежды фигурировали незаконнорожденные дети. И газета объявляет это прогрессом!
Тем временем они свернули на Кайзер-Вильгельмштрассе; здесь им без конца приходилось раскланиваться с господами, входившими в дом масонской ложи. Миновав его, друзья, наконец, надели шляпы, и Ядассон сказал:
— Надо будет взять на заметку господ, по сей день увлекающихся масонской ересью. Его величество решительно против масонства.
— Меня совершенно не удивляет, что такой человек, как мой шурин Гейтейфель, исповедует этот опаснейший вид сектантства, — сказал пастор.
— Ну, а господин Лауэр? — сказал Дидерих. — Фабрикант, у которого хватило совести привлечь рабочих к участию в прибылях? Да от подобных субъектов всего можно ожидать.
— Самое все же возмутительное, — горячился Ядассон, — это то, что член окружного суда Фрицше вращается в этом еврейском обществе: государственный советник рука об руку с ростовщиком Коном! Вы шутите — Ко-он? — нараспев протянул Ядассон и заложил большие пальцы за жилетку.
— А так как у советника с фрау Лауэр… — многозначительно начал Дидерих и, не кончив фразы, заявил, что в таком случае понятно, почему в суде эти люди всегда выходят сухими из воды.
— У них круговая порука, и они под всех подкапываются.
Пастор Циллих пробормотал что-то об оргиях, которые, по слухам, устраиваются в масонской ложе; там, говорят, происходят жуткие вещи. Но Ядассон многозначительно улыбнулся:
— К счастью, господин фон Вулков находится по соседству, окно в окно.
Дидерих с довольным видом посмотрел на управление регирунгспрезидента. Рядом, перед зданием штаба военного округа, шагал взад и вперед часовой.
— Сердце радуется, когда видишь, как сверкает штык у такого вот молодца, не правда ли? — воскликнул Дидерих. — Только тем и держишь эту шайку в страхе.
Штык, разумеется, не сверкал, так как уже стемнело; сквозь густую уличную толпу группами пробирались возвращавшиеся по домам рабочие. Ядассон предложил зайти в пивную Клапша, — это рукой подать, за углом, — распить по кружке пива перед ужином. В пивной было уютно, в этот час редко кто заходил туда. Помимо всего прочего, Клапш принадлежал к числу благомыслящих. Пока его дочь ставила на стол пиво, он сердечно благодарил пастора за благотворное влияние, которое тот оказывает на его мальчиков уроками закона божия. Правда, старший опять украл сахар, но зато ночью он не мог заснуть и так громко исповедовался богу в своем грехе, что Клапш услышал и выпорол грешника. Разговор перекинулся на чиновников из управления регирунгспрезидента, которым Клапш посылал завтраки. Ему было отлично известно, чем эти чиновники занимаются в часы воскресных богослужений. Ядассон одной рукой записывал что-то, другая же скрылась за спиной фрейлейн Клапш. Дидерих говорил с пастором Циллихом о том, что необходимо создать христианский рабочий ферейн. Он объявил:
— Тот из моих рабочих, кто откажется вступить в него, вылетит вон!
Такие перспективы развеселили пастора; после повторных появлений фрейлейн Клапш с пивом и коньяком он почувствовал в себе ту оптимистическую решимость, которой спутники его уже с утра зарядились.
— Пусть мой шурин Гейтейфель доказывает, сколько его душе угодно, родство человека с обезьяной, — воскликнул он, стукнув кулаком по столу, — я все равно добьюсь, чтобы у меня в церкви яблоку негде было упасть!
— Не только у вас, — заверил Дидерих.
— Но в Нетциге так много церквей, — сознался пастор. Ядассон пронзительно каркнул:
— Слишком мало, слуга божий, слишком мало! — И, призывая Дидериха в свидетели, рассказал, что происходило в Берлине. Там церкви тоже пустовали, пока его величество самолично не положил этому конец. «Позаботьтесь о том, — сказал он депутации городских властей, — чтобы в Берлине были построены новые церкви». И теперь церкви строят, религия вновь ожила и расцвела.
И тут пастор, ресторатор, Ядассон и Дидерих умиленно заговорили о глубоком благочестии монарха.
Вдруг раздался выстрел.
— Стреляют! — Ядассон вскочил первый, все, побледнев, переглянулись. Перед Дидерихом мгновенно возникло костлявое лицо механика Наполеона Фишера, обрамленное черной бородой, сквозь которую просвечивала землистая кожа, и он проговорил, заикаясь:
— Бунт! Началось!
С улицы донесся топот ног множества бегущих людей; Дидерих, Ядассон и пастор одновременно схватили свои шляпы и бросились к выходу.
Люди — их было здесь уже много — в испуганном молчании стояли полукругом от здания военного округа до лестницы масонской ложи. На мостовой, там, где полукруг размыкался, ничком лежал человек. А солдат, который раньше так молодцевато расхаживал взад и вперед, теперь неподвижно стоял перед своей будкой. Каска сдвинулась у него на затылок, открыв побледневшее лицо с разинутым ртом и глазами, устремленными на убитого. Винтовку солдат держал за дуло, опустив ее на землю. В толпе, состоявшей главным образом из рабочих и работниц, слышался глухой ропот. Вдруг у кого-то из мужчин вырвался громкий возглас: «Ого!» — и наступила глубокая тишина. Дидерих и Ядассон обменялись испуганным взглядом, как бы сойдясь на том, что положение опасное.
По улице к месту происшествия мчался полицейский, впереди него — девушка. Юбка ее развевалась; уже издали девушка крикнула:
— Вот он лежит! Стрелял солдат!
Она добежала, она бросилась на колени, она тормошила лежавшего:
— Встань! Да встань же!
Она подождала. Ступни его как будто дернулись, но он по-прежнему лежал, раскинув руки и ноги. И вдруг надрывно прозвенел крик девушки: «Карл!» Все вздрогнули. Женщины отозвались истошным криком, мужчины, стиснув кулаки, бросились вперед. Давка усиливалась; между экипажами, которым пришлось остановиться, набивалось все больше людей; среди этой грозной сумятицы неистовствовала девушка, ее распустившиеся волосы трепало ветром, мокрое лицо исказилось, она, вероятно, кричала, но крика не было слышно — шум поглотил его.
Единственный полицейский грудью старался оттереть толпу, боясь, как бы она не растоптала лежавшего. Но напрасно он кричал на людей, наступал передним на ноги; растерявшись, он стал озираться по сторонам в поисках помощи.
И она явилась. В управлении регирунгспрезидента распахнулось окно, показалась большая борода и раздался голос, вернее, грозный рык; толпа, еще не поняв, чего требует этот голос, услышала его, несмотря на шум, как слышат отдаленный гул канонады.
— Вулков, — сказал Ядассон. — Ну, наконец!
— Что за безобразие? — грохотал голос. — Кто смеет шуметь у меня под окнами?
Над притихшими людьми прогремело:
— Где часовой?
Только теперь люди увидели, что часовой скрылся в свою будку и забился в угол. Наружу торчала одна лишь винтовка.
— Выходи, сын мой! — приказал тот же бас. — Ты выполнил свой долг. Этот человек вывел тебя из терпения. Его величество вознаградит тебя за доблесть. Понятно?
Все поняли и смолкли, даже девушка. И в этой тишине особенно яростно грохотал бас:
— Немедленно разойтись, иначе я прикажу стрелять!
Минута — и вот уж кое-кто побежал. Рабочие группами отделялись от толпы и, помедлив, с опущенными головами уходили. Регирунгспрезидент еще крикнул кому-то вниз:
— Пашке, позовите-ка врача! — и захлопнул окно.
У входа в управление закипела жизнь. Откуда-то появились важные господа, властно отдававшие распоряжения, со всех сторон стекались полицейские, они наседали на оставшуюся публику, раздавали тумаки и кричали — одни только они и кричали. Дидерих и его спутники, отойдя за угол, увидели на лестнице масонской ложи кучку мужчин. Доктор Гейтейфель, отстраняя их, прошел вперед.
— Я врач, — громко сказал он, торопливо пересек улицу и склонился над раненым. Он повернул его на спину, расстегнул жилет и приник ухом к груди. Все притихли, даже полицейские перестали орать; девушка стояла возле, подавшись вперед, вздернув плечи, точно в ожидании удара, и держа стиснутый кулак у сердца, как будто это и было то самое сердце, которое, быть может, уже остановилось.
Доктор Гейтейфель выпрямился:
— Он мертв. — В ту же секунду он заметил девушку: она пошатнулась. Он сделал движение, чтобы подхватить ее. Но она уже справилась с собой и, глядя в лицо убитого, произнесла только:
— Карл! — И еще тише: — Карл!
Доктор Гейтейфель обвел взглядом стоявших вокруг людей и спросил:
— Как же девушка?
Ядассон выступил вперед.
— Асессор Ядассон из прокуратуры, — представился он. — Девушку следует задержать. Ввиду того что ее возлюбленный спровоцировал часового, возникает подозрение, не причастна ли также и она к сему преступному действию. Мы возбудим против нее следствие.
Двое полицейских, которых он подозвал жестом, уже схватили девушку за руки. Доктор Гейтейфель повысил голос:
— Господин асессор, заявляю вам как врач, что состояние девушки не допускает ее ареста.
— Арестовали бы заодно и убитого, — сказал кто-то.
— Категорически запрещаю вам критиковать мои служебные мероприятия, господин фабрикант Лауэр! — каркнул Ядассон.
Дидерих тем временем выказывал признаки сильнейшего волнения:
— О!.. А!.. Но ведь это… — Он даже весь побелел; он несколько раз заговаривал: — Господа… Господа, я могу… Я знаю этих людей: да, да, именно этого рабочего и эту девушку. Моя фамилия Геслинг, доктор Геслинг. Оба до сегодняшнего числа работали на моей фабрике. Мне пришлось их рассчитать за публичное нарушение правил нравственности.
— Ага! — воскликнул Ядассон.
Пастор Циллих поднял палец.
— Вот уж воистину перст божий, — умилился он.
К лицу Лауэра прихлынула кровь, она, казалось, рдела даже сквозь его седую остроконечную бородку, вся его приземистая фигура сотрясалась от гнева.
— Насчет перста божьего еще можно поспорить. Но совершенно бесспорно, господин доктор Геслинг, что этот рабочий потому и разрешил себе переступить границы дозволенного, что увольнение привело его в отчаянье. У него жена, быть может, и дети…
— Они не венчаны, — сказал Дидерих, в свою очередь вспыхнув. — Он сам мне признался.
— Какое это имеет значение? — спросил Лауэр. Тут пастор воздел руки горе.
— Неужели мы так низко пали, — воскликнул он, — что не имеет значения, блюдутся ли божьи заповеди о нравственности?
Лауэр ответил, что было бы неуместно затевать дискуссию о нравственности на улице, да еще в момент, когда с соизволения властей совершено убийство; и он, повернувшись к девушке, предложил ей работу у себя на фабрике. Тем временем подъехала санитарная карета; убитого подняли с земли и положили на носилки. Но когда санитары вдвигали их в карету, девушка вдруг очнулась, кинулась к носилкам и навалилась на них всем телом; от неожиданности санитары выпустили их из рук, и девушка, судорожно вцепившись в тело убитого и пронзительно крича, вместе с ним покатилась по мостовой. Нелегко было оторвать ее от трупа, поднять, водворить в извозчичью пролетку. Врач, сопровождавший санитарную карету, поехал с девушкой.
На фабриканта Лауэра, который уже собирался удалиться вместе с Гейтейфелем и другими масонами, грозно насупившись, наступал Ядассон:
— Минутку! Прошу прощения! Вы давеча сказали, что здесь с соизволения властей — призываю вас, господа, в свидетели, что это подлинные слова господина Лауэра, — с соизволения властей совершено убийство. Я желал бы спросить, не являются ли ваши слова осуждением властей предержащих?
— Ах, вот как! — протянул Лауэр, пристально взглянув на господина из прокуратуры. — Вы, вероятно, не прочь и меня арестовать?
— Вместе с тем, — визгливым фальцетом продолжал Ядассон, — обращаю ваше внимание на точно такой же случай, происшедший несколько месяцев назад. Я имею в виду дело Люка. Поведение часового, который застрелил оскорбившего его субъекта, было одобрено высокой инстанцией. Часовой за правильный и доблестный образ действий отмечен наградами и монаршей милостью. Берегитесь же критиковать действия его величества.
— Я их не критиковал, — ответил Лауэр. — Пока что я выразил лишь порицание этому господину, отрастившему такие страшные усы.
— Что такое? — спросил Дидерих, все еще разглядывавший плитки мостовой в том месте, где лежал убитый рабочий и темнела лужица крови. Наконец до него дошло, что его хотят задеть.
— Такие усы носит его величество, — твердо произнес он. — Это истинно немецкие усы. А вообще я отказываюсь от препирательств с фабрикантом, поддерживающим бунтарей.
Лауэр, взбешенный, уже открыл было рот, чтобы ответить, хотя брат старика Бука, Гейтейфель, Кон и Фрицше старались увести его прочь, а рядом с Дидерихом, воинственно выпятив грудь, выстроились Ядассон и пастор Циллих, — но тут ускоренным маршем подошел отряд пехоты, оцепил уже совершенно безлюдную улицу, и лейтенант, командовавший отрядом, попросил господ разойтись. Все поспешно подчинились, но напоследок еще увидели, как лейтенант подошел к часовому и пожал ему руку.
— Браво! — крикнул Ядассон. Доктор же Гейтейфель сказал:
— А завтра явятся по очереди капитан, майор и полковник, каждый сочтет своим долгом похвалить этого малого и сделать ему денежный подарок.
— Вот именно! — воскликнул Ядассон.
— Однако… — Гейтейфель остановился. — Господа, давайте все-таки разберемся! Разве в том, что здесь произошло, есть какой-нибудь смысл? Убит человек только потому, что этот деревенский оболтус не понимает шуток! Меткое словцо, добродушный смех — и он обезоружил бы рабочего, который якобы хотел обидеть его, своего брата, такого же бедняка, как он сам. Вместо этого солдату приказывают стрелять. И венчают дело трескучими фразами.
Член суда Фрицше поддержал доктора Гейтейфеля и призвал умерить свои страсти. Дидерих, все еще бледный, дрожащим голосом сказал:
— Народ должен чувствовать над собой власть. Ощутить могущество монаршей власти — да за это человеческая жизнь совсем недорогая цена.
— Если только эта жизнь не ваша, — сказал Гейтейфель. А Дидерих, положив руку на сердце, ответил:
— Хотя бы и моя, поверьте!
Гейтейфель пожал плечами. По пути Дидерих, немного отстав с пастором Циллихом от остальных, силился описать ему свои чувства.
— Для меня, — говорил он, сопя от сдержанного восторга, — в этом эпизоде есть нечто великолепное, можно сказать, царственно-величественное; вот так, без суда, прямо на улице, застрелить субъекта, который имел наглость забыться! Только представить себе — сквозь толщу нашей обывательской косности вдруг прорывается… нечто прямо-таки героическое! Вот когда чувствуешь, что такое власть!
— Но какая?! Власть божьей милостью! — подхватил пастор.
— Разумеется. Именно. Вот почему этот случай привел меня почти что в религиозный трепет. Вот так мы замечаем вдруг, что существуют высшие силы — силы, которым все мы подвластны. Взять, например, берлинские беспорядки в феврале прошлого года: его величество с таким изумительным хладнокровием ринулся тогда в беснующееся море восстания; должен сказать, что я… — Остальные уже дожидались у входа в погребок, и Дидерих повысил голос: — Если бы в ту минуту кайзер приказал оцепить всю Унтерденлинден и стрелять в нас всех, палить из пушек, то должен сказать вам, что я…
— Вы, конечно, кричали бы «ура», — закончил за него Гейтейфель.
— А вы не кричали бы? — спросил Дидерих, пытаясь сверкнуть очами. — Я все же надеюсь, что все мы единодушны в своих националистических чувствах.
У фабриканта Лауэра опять чуть было не сорвалось с языка опрометчивое возражение, но его удержали. Вместо него в разговор вступил Кон:
— Я, конечно, тоже националист. Но разве мы содержим нашу армию для подобных забав?
Дидерих смерил его взглядом с головы до ног.
— Как вы сказали? У господина магазиновладельца Кона есть своя армия? Вы слышали, господа? — Он надменно рассмеялся. — До сих пор я знал одну лишь армию — армию его величества кайзера.
Доктор Гейтейфель заикнулся было о правах народа, но Дидерих гаркнул, рубя слова на слоги, как командир перед полком: он, мол, за то, чтобы кайзер был кайзером, а не марионеткой. Народ, сказал он, утративший способность к безусловному повиновению, обречен на загнивание…
Тем временем все вошли в ресторан. Лауэр со своими друзьями уже сидел за столиком.
— Не присядете ли к нам? Ведь в конце концов все мы либералы, — обратился к Дидериху Гейтейфель.
— Либералы, само собой. Но в таком важном вопросе, как национализм, я не признаю половинчатости. Для меня существуют только две партии. Их самолично определил кайзер: за его величество и против него. Поэтому, господа, за вашим столом мне нечего делать.
Он отвесил чопорный поклон и подошел к свободному столику. Ядассон и пастор Циллих последовали за ним. Посетители, сидевшие за соседними столами, начали оглядываться; в зале наступила тишина. Опьяненный событиями дня, Дидерих решил заказать шампанское. За первым столиком шушукались, затем кто-то отодвинул свой стул. Это был член окружного суда. Он откланялся, подошел к столу Дидериха, пожал руки ему, Ядассону, пастору Циллиху и покинул ресторан.
— Давно бы так, — сказал Ядассон. — Фрицше своевременно понял шаткость своего положения.
— Во всем нужна четкость и ясность, — сказал Дидерих. — У кого чистая совесть в вопросах национализма, тому совершенно нечего бояться этих людей.
Но пастору Циллиху было явно не по себе.
— Путь праведника, — сказал он, — устлан терниями. Вы еще не знаете, на какие интриги способен Гейтейфель. Завтра он по всему городу растрезвонит о нас, припишет нам бог весть какие ужасы.
Дидерих вздрогнул. Доктор Гейтейфель ведь знает о той, надо признаться, темной полосе его жизни, когда он пытался увильнуть от военной службы! Гейтейфель написал ему язвительное письмо, отказался выдать свидетельство о болезни! Он держал Дидериха в руках, мог при желании навек уничтожить. С перепугу Дидериху пришло даже в голову, что доктор Гейтейфель может припомнить ему еще и школьные дела, когда Гейтейфель смазывал ему горло и при этом упрекал в трусости. Лоб Дидериха покрылся испариной. Поэтому он с особенным шумом заказал омары и шампанское.
Среди масонской братии вновь шел взволнованный разговор о насильственной смерти молодого рабочего. Что возомнили о себе военщина и юнкера, задающие в ней тон? Лица запылали, и друзья, наконец, договорились до того, что бразды правления должны быть переданы буржуазии, на которой фактически все держится. Фабрикант Лауэр желал знать, какими такими особыми достоинствами может похвастать перед остальными смертными господствующая каста?
— Чистотой расы? Даже этого сказать нельзя, — утверждал он. — Все они, включая княжеские семьи, — не без примеси еврейской крови. Не в обиду будь сказано моему другу Кону.
Пора было вмешаться. Дидерих сознавал это. Он быстро опрокинул в себя бокал вина, встал, твердо ступая вышел на середину зала и остановился под готической люстрой.
— Господин фабрикант Лауэр, — сказал он, — я позволю себе спросить вас: когда вы говорите о княжеских фамилиях, в которых, по вашему личному мнению, есть примесь еврейской крови, вы имеете также в виду и немецкие княжеские фамилии?
Лауэр спокойно, почти дружелюбно, ответил:
— Разумеется!
— Так! — протянул Дидерих и перевел дыхание, готовя решительный удар. При общем внимании всего зала он продолжал:
— А к числу оевреившихся княжеских фамилий вы относите и ту, которую мне незачем называть? — Дидерих внутренне ликовал, вполне уверенный, что теперь уж его противник растеряется, залопочет бессвязный вздор, спрячется под стол. Но он не предвидел меры цинизма, на который натолкнулся.
— Ну, конечно, — сказал Лауэр.
Дидерих от ужаса растерял весь свой апломб. Он оглянулся по сторонам, как бы проверяя, не изменил ли ему слух. По лицам окружающих понял, что он не ослышался. Тогда он заявил, что в дальнейшем выяснится, какие последствия для господина фабриканта будут иметь подобные речи, и в весьма относительном порядке отступил в дружественный лагерь. В эту минуту на сцене появился Ядассон, на время отлучавшийся неизвестно куда. — Я не был свидетелем происшедшего, — тотчас объявил он. — Я подчеркиваю это обстоятельство, так как в дальнейшем оно может оказаться весьма важным. — Он попросил все подробно изложить ему. Дидерих с жаром выполнил его просьбу; то, что противнику теперь отрезаны все пути, он считал своей неотъемлемой заслугой.
— Теперь господин фабрикант у нас в руках.
— Еще как, — сказал Ядассон, что-то записывая.
В ресторан, с трудом передвигая негнущиеся ноги, вошел пожилой человек с угрюмой физиономией. Раскланиваясь направо и налево, он направился было к столу крамольников. Но Ядассон успел вовремя перехватить его.
— Господин майор Кунце! Одну минуту! — Он принялся шепотком уговаривать его, движением глаз указывая то вправо, то влево. Майор, видимо, не знал, на что решиться.
— Вы ручаетесь мне честным словом, господин асессор, — сказал он, — что так действительно было сказано?
Ядассон дал слово. Тут к столику подошел брат господина Бука, высокий и элегантный. Вежливо улыбаясь, он предложил дать майору исчерпывающие объяснения. Майор ответил, что весьма сожалеет, но подобным речам нет оправдания. Он был мрачен, как туча, и все же с грустью поглядывал на старое насиженное место. Но в решающую минуту Дидерих достал из ведерка бутылку шампанского. Майор заметил это и направил свои стопы туда, куда повелевал долг. Ядассон представил:
— Господин Геслинг, фабрикант.
Дидерих и майор обменялись крепким рукопожатием. Они твердо и ясно взглянули друг другу в глаза.
— Господин доктор, — сказал майор, — вы поступили как истый немец. — Послышалось шарканье, скрип стульев, все подняли бокалы, чокнулись и, наконец, выпили. Дидерих тотчас же заказал вторую бутылку. Майор опрокидывал в себя бокал, как только его наполняли, и заверял своих собутыльников, что, если дело коснется немецкой верности, он спуску никому не даст.
— Хотя моему государю угодно было уволить меня с действительной службы…
— Господин майор в последнее время служил в штабе нашего военного округа, — пояснил Ядассон.
— …но в груди моей бьется сердце старого солдата, — он постучал пальцами по груди, — и я везде и всюду буду искоренять антимонархические взгляды! Огнем и мечом! — выкрикнул он и стукнул кулаком по столу. В то же мгновение Кон, низко поклонившись за его спиной, поспешно удалился. Брат господина Бука сперва вышел в туалет, чтобы хоть сколько-нибудь замаскировать свое бегство.
— Ага! — громко воскликнул Ядассон. — Господин майор, враг разбит!
Пастор Циллих, однако, все еще не был в этом уверен.
— Гейтейфель остался. Я не доверяю ему.
Но Дидерих, заказывая третью бутылку, покосился на Лауэра и Гейтейфеля; оба сиротливо сидели друг против друга, смущенно глядя в свои пивные кружки.
— Власть в наших руках, — сказал Дидерих, — и наши враги это понимают. Они уже не возмущаются часовым. На лицах у них написана боязнь, что скоро и до них доберутся. И доберутся, поверьте мне!
Дидерих заявил, что обратится в прокуратуру с жалобой на Лауэра, пусть держит ответ за свои крамольные речи.
— А я уж позабочусь, — обещал Ядассон, — чтобы жалобе был дан ход, и на процессе выступлю сам, как представитель обвинения. Вам известно, господа, что свидетелем я быть не могу, так как лично не присутствовал при инциденте.
— Мы осушим это болото, — пригрозил Дидерих и завел речь о ферейне воинов; ферейн должен быть главной опорой истинных немцев и убежденных монархистов. Майор напустил на себя важный вид. Да, он состоит членом правления ферейна. По мере сил продолжает служить своему кайзеру. Он выразил готовность выдвинуть кандидатуру Дидериха, это укрепит националистические элементы ферейна воинов. Надо прямо сказать, что перевес пока еще на стороне все тех же пресловутых демократов. По мнению майора, власти слишком церемонятся — зря они мирятся с создавшейся в Нетциге обстановкой. Лично он, если бы его назначили командующим округом, учредил бы на выборах надзор за офицерами запаса. Всенепременно!
— Но поскольку мой государь лишил меня этой возможности…
Дидерих, в утешение ему, вновь наполнил бокалы. Пока майор пил, Ядассон наклонился к Дидериху и шепнул:
— Ни единому слову не верьте! Это тряпка, а перед Буком он на брюхе ползает. Надо пустить ему пыль в глаза.
Дидерих тотчас же принялся за дело.
— Я уже официально договорился с регирунгспрезидентом фон Вулковым. — И так как майор изумленно посмотрел на него, продолжал: — В будущем году выборы в рейхстаг. Нас, благомыслящих, ждет трудная работа. Борьба начинается.
— В атаку! — яростно воскликнул майор. — Ваше здоровье!
— Ваше здоровье! — ответил Дидерих. — Но, господа, как ни сильны тлетворные влияния в стране, мы победим, ибо у нас есть агитатор, которого нет у противника, — его величество.
— Браво!
— Его величество требует от граждан всей страны, а стало быть, и нетцигских, чтобы они, наконец, очнулись от спячки! И мы этого добьемся!
Ядассон, майор и пастор Циллих в доказательство того, что они уже очнулись, стучали кулаками по столу, орали «браво» и чокались. Майор ревел:
— Нам, офицерам, его величество молвил: «Вы надежнейший оплот мой».
— А нам он сказал, — кричал пастор Циллих, — если церкви понадобится помощь государя…
Теперь ничто не мешало закусить удила, ресторан давно опустел, Лауэр и Гейтейфель незаметно испарились, а газовые рожки под аркой, в глубине сводчатого зала, уже были погашены.
— Он сказал еще… — Дидерих надул багровые щеки, усы лезли ему в глаза, но он все же пытался грозно сверкать очами. — «Мы живем в эпоху расцвета промышленности!» И это верно. Вот почему мы исполнены твердой решимости делать дела под его высочайшим покровительством.
— И карьеру! — каркнул Ядассон. — Его величество объявил: каждого, кто готов помочь ему, он приветствует. Пусть кто-нибудь посмеет сказать, что это не относится и ко мне! — запальчиво выкрикнул Ядассон; уши его рдели, как кровь. Майор снова взревел:
— Мой государь может положиться на меня, как на каменную гору. Он раньше времени дал мне отставку, и я, как истый немец, скажу ему это в лицо. Когда грянет гром, я еще понадоблюсь. Что же, мне в мои годы только и дела, что стрелять хлопушками на балах? Я проливал кровь под Седаном.
— Батюшки, а я разве не проливал! — послышался пискливый голос словно из потустороннего мира, и под темными сводами показался маленький старичок с развевающимися белыми волосами. Он доковылял до стола, стекла его очков посверкивали, щеки пылали. Он крикнул:
— Кого я вижу? Майор Кунце! Старый фронтовой друг! Тут у вас дым коромыслом, как во время оно во Франции. Я ведь всегда говорю: жить так жить и лучше на годок-другой дольше!
Майор представил его:
— Господин Кюнхен, преподаватель гимназии.
Как случилось, что его забыли во тьме и мраке? Старичок оживленно высказывал свои соображения на этот счет. Он сидел в одной компании… Ну, надо полагать, чуток всхрапнул, а эти чертовы дети дали тягу. Сон еще не успел убавить в нем жара от поглощенных напитков; захлебываясь и визжа, старикашка напоминал майору об их общих доблестных подвигах в «железном году{13}».
— Партизаны! — кричал он, и из его морщинистого беззубого рта бежала слюна. — Ох, и бандиты же были! Вот, господа, убедитесь, до сих пор у меня этот палец как деревянный. Партизан укусил. Только за то, что я хотел слегка полоснуть его саблей по горлу. Этакая свинья! — Кюнхен по очереди показал всем сидящим за столом знаменитый палец; посыпались возгласы изумления. Дидериха, правда, несмотря на восторженные чувства, мороз продрал по коже, он невольно вообразил себя на месте французского партизана: вот маленький свирепый старикашка уперся ему коленом в грудь и приставляет клинок к горлу. Дидериху пришлось на минутку выйти.
За столом, когда он вернулся, майор и учитель Кюнхен, стараясь перекричать друг друга, описывали какой-то жаркий бой. Никто ничего не мог понять. Но фальцет Кюнхена, прорываясь сквозь рев майора, становился все пронзительнее, пока, наконец, майор волей-неволей не умолк, и тогда старикашка уж без помех пошел и пошел отливать пули.
— Э, нет, старый друг, вы человек аккуратный. Если уж вы катитесь с лестницы, то все ступеньки до единой пересчитаете. А поджег-то дом, в котором засели партизны, не кто другой, как Кюнхен, тут и разговора быть не может. Я прибег к военной хитрости и прикинулся мертвым, а эти ослы поверили. Но когда вдруг поднялось пламя, защита отечества вылетела у них из головы и уж только одно осталось — как бы вырваться, соофгипё [1] и ничего больше. Видели бы вы, что тут наши творили. Подстреливали их, как только они появлялись на стене и начинали спускаться! Ну и скачки же они делали. Кроликам под стать!
Кюнхену пришлось прервать свою вольную импровизацию, он пронзительно захихикал. Ему ответил громовый гогот застольной компании. Наконец Кюнхен возобновил рассказ:
— Эти продувные бестии и нас научили коварству. А их женщины! Таких фурий, как француженки, свет не видывал. Кипяток лили нам на головы. Ну, подобает это дамам, я вас спрашиваю? Когда все запылало, они стали бросать детей в окна и еще, видите ли, хотели, чтобы мы ловили их. Умно придумали. Мы и ловили этих выродков, да только на штыки. А потом и дам таким же манером. — Кюнхен согнул изувеченные подагрой пальцы так, словно охватывал ими приклад ружья, и поднял глаза кверху, будто собираясь кого-то поддеть на штык. Стекла его очков поблескивали, он продолжал вдохновенно врать. — Под конец, — пищал он, — какая-то толстая-претолстая баба хотела пролезть через окно, но, как ни ловчилась, ничего не выходило. Тогда она попыталась вылезть задом наперед. Только она, милочка, не приняла в расчет Кюнхена. Я, не будь ленив, вскакиваю на плечи двух солдат и ну щекотать штыком ее толстую французскую…
Шумные хлопки, хохот заглушили последние слова. Кюнхен смог только выкрикнуть:
— В день Седана я всегда рассказываю эту историю своему классу, конечно в благопристойных выражениях. Пусть молодежь знает, какими героями были их отцы.
Все сошлись на том, что подобные рассказы могут только укрепить националистический образ мыслей у молодого поколения, и один за другим потянулись чокаться с Кюнхеном. От восторга они вошли в такой раж, что никто не заметил, как к столу подошел новый посетитель. Ядассон неожиданно увидел скромного господина в сером пальто à la Гогенцоллерн и покровительственно кивнул ему.
— Смелей, смелей, господин Нотгрошен, присаживайтесь.
Дидерих, весь еще во власти возвышенных чувств, напустился на него:
— Кто вы такой?
Незнакомец отвесил низкий поклон:
— Нотгрошен, редактор «Нетцигского листка».
— Кандидат в голодающие, стало быть? — сказал Дидерих и сверкнул очами. — Неудачливые гимназисты, голодранцы с аттестатами, опасная братия!
Все рассмеялись; редактор смиренно улыбнулся.
— Его величество заклеймил вас, — сказал Дидерих. — А в общем, садитесь.
Он даже налил ему шампанского, и Нотгрошен, благодарно склонясь, выпил. Трезвый и смущенный, он оглядывал компанию, раззадоренную и взвинченную выпитым вином, а многочисленные пустые бутылки, стоявшие на полу, свидетельствовали, что выпито немало. О редакторе тут же забыли. Он терпеливо ждал, пока кто-то не осведомился, как он попал сюда среди ночи, точно с неба свалился.
— А кто же выпустит газету? — ответил Нотгрошен с той важностью, с какой обычно говорят о своей работе мелкие чиновники. — Ведь вы же захотите утром прочесть все подробности убийства рабочего.
— Подробности мы знаем лучше вашего! — крикнул Дидерих. — Вы-то, голодная рать, все высасываете из пальца.
Редактор беззлобно улыбнулся и угодливо выслушал сбивчивое описание событий, которые все наперебой излагали ему. Когда шум улегся, он заговорил:
— Так как вы, господин…
— Доктор Геслинг! — гаркнул Дидерих.
— Нотгрошен, — пробормотал редактор. — Так как вы давеча упомянули имя кайзера, вам, я думаю, небезынтересно будет узнать о новом манифесте его величества.
— Я запрещаю критиковать его величество! — крикнул Дидерих.
Редактор втянул голову в плечи и прижал руку к сердцу.
— Речь идет о новом послании кайзера.
— А как оно попало на ваш письменный стол? Опять подлое предательство? — спросил Дидерих.
Нотгрошен, защищаясь, поднял руку.
— Сам кайзер приказал обнародовать послание. Завтра утром вы все прочтете в газете. Вот гранки!
— Читайте, доктор! — скомандовал майор.
— Какой доктор? — воскликнул Дидерих. — Вы разве доктор?
Но никто уже ничем, кроме послания, не интересовался. Гранки вырвали из рук редактора.
— Браво! — крикнул Ядассон, еще сохранивший способность читать. — Его величество признает себя последователем позитивного христианства.
Пастор Циллих так обрадовался, что на него напала икота.
— Теперь Гейтейфель узнает… ик! Наконец-то этому наглецу, который кичится своей ученостью… ик!.. будет воздано по заслугам. Они уже берутся решать вопрос об откровении! В нем даже я… ик!.. едва разбираюсь. А ведь я изучал богословие!
Учитель Кюнхен, высоко подняв руку, размахивал листками гранок.
— Г-а-ас-пада! Плюньте мне в лицо, если я не прочту сие послание в классе и не задам сочинения на эту тему.
Дидерих впал в благоговейную серьезность.
— Воистину, господь избрал Хаммураби{14} своим орудием! Посмотрим, кто дерзнет оспаривать это! — и он, сверкая очами, оглядел всех по очереди.
Нотгрошен поежился.
— Ну, а кайзер Вильгельм Великий? — продолжал Дидерих. — Тут уж я не потерплю никаких возражений. Если он не орудие господне, значит, господь бог понятия не имеет, что такое орудие.
— Полностью согласен, — поддакнул майор. К счастью, и все остальные были согласны. Дидерих был настроен воинственно. Цепляясь за стол, он с трудом поднялся.
— Ну, а наш несравненный молодой кайзер? — спросил он с угрозой в голосе. Со всех сторон послышалось:
— Исключительная личность… Весь порыв и действие… Многосторонен… Оригинальный мыслитель…
Но Дидериху и этого было мало.
— Предлагаю причислить его к орудиям!
Предложение было принято.
— Предлагаю далее телеграфировать его величеству о нашем решении.
— Поддерживаю! — взревел майор.
Дидерих подытожил:
— Принято единогласно! — и рухнул на стул.
Кюнхен и Ядассон взялись общими силами сочинить телеграмму. Составив фразу, они немедленно читали ее вслух.
— Общество, собравшееся в ресторане города Петцита…
— Собрание граждан города Нетцига, заседающее в… — потребовал Дидерих. Они продолжали:
— Собрание граждан националистического образа мыслей…
— Националистического… ик! и христианского! — добавил пастор Циллих.
— Неужели вы, господа, действительно намерены… — с тихой мольбой взывал Нотгрошен. — Я думал, это только шутка…
Дидерих разгневался:
— Мы не шутим священнейшими чувствами! Быть может, разъяснить вам это осязательно, жалкий вы неудачник?
Взглянув на руки Нотгрошена, поднятые в знак полного признания им своей ошибки, Дидерих мгновенно успокоился и проговорил:
— Ваше здоровье!
Майор самозабвенно орал:
— На нас его величество может положиться, как на каменную гору.
Ядассон призвал всех к молчанию и прочел:
— «Граждане города Нетцига, исповедующие националистический и христианский образ мыслей, собравшись в ресторане при муниципальном управлении, единодушно повергают к стопам Вашего величества свои верноподданнические чувства по случаю признания Вашим величеством религии откровения и заверяют Ваше величество в своей глубочайшей ненависти к крамоле, где бы она и как бы она ни проявлялась, и усматривают в геройском деянии часового, имевшем место сегодня в городе Нетциге, отрадное доказательство того, что Ваше величество столь же, сколь Хаммураби и император Вильгельм Великий, является орудием господа бога».
Все рукоплескали, Ядассон, польщенный, улыбался.
— Подписываться! — заорал майор. — А может быть, у кого из присутствующих есть еще замечания?
Нотгрошен откашлялся:
— Одно-единственное словечко. Со всей подобающей скромностью.
— А то как же еще? — сказал Дидерих.
Выпитое вино придало редактору храбрости, он покачивался на стуле и без всякого основания хихикал.
— Я не хочу сказать ничего плохого о часовом, господа. Наоборот, я всегда полагал, что солдаты на то и существуют, чтобы стрелять.
— Ну, значит, все хорошо.
— Да, но разве нам известно, что кайзер того же мнения?
— Само собой. А дело Люка?
— Прецеденты… хи-хи… это прекрасно, но все мы знаем, что кайзер оригинальный мыслитель и… хи-хи… весь порыв и действие. Он не любит, чтобы его опережали в чем-нибудь. Если, к примеру, я сообщу в своей газете, что вам, господин Геслинг, предстоит назначение на пост министра, то этого… хи-хи… наверняка не случится.
— Бросьте ваши еврейские штучки! — крикнул Ядассон.
Нотгрошен возмутился:
— Я по случаю каждого церковного праздника даю в своей газете полтора столбца размышлений на божественные темы. А что до часового, то не исключено, что ему могут предъявить обвинение в убийстве. Тогда мы влипли.
Наступила тишина. Майор в раздумье выпустил из рук карандаш. Дидерих подхватил его.
— Мы что — исповедуем националистический образ мыслей или нет? — И он размашисто подписался. Всех обуял исступленный восторг. Нотгрошен обязательно хотел поставить свою подпись вторым.
— На телеграф!
Дидерих велел ресторатору прислать ему счет на дом, и все поднялись. Нотгрошен преисполнился вдруг самых смелых чаяний.
— Если я смогу напечатать ответ кайзера, мне к самому Шерлю{15} открыта дорога.
— Мы все-таки посмотрим, — ревел майор, — долго ли еще я буду заниматься только устройством благотворительных балов!
Пастор Циллих мысленно уж видел в своей церкви толпы народа, побивающие каменьями Гейтейфеля. Кюнхен грезил о кровавой бане на улицах Нетцига. Ядассон каркал:
— Пусть только кто-нибудь посмеет усомниться в моих верноподданнических чувствах!
А Дидерих:
— Теперь старику Буку не поздоровится! А с ним заодно и Клюзингу в Гаузенфельде! Мы очнулись от спячки!
Все держались очень прямо, и только время от времени кто-нибудь неожиданно для самого себя выскакивал вперед. С грохотом проводили они своими палками по спущенным железным шторам магазинов и пели кто в лес, кто по дрова «Стражу на Рейне». На углу, против здания суда, стоял полицейский, на свое счастье, он не двинулся с места.
— Вы, дружок, может быть, желаете сказать нам что-нибудь? — крикнул ему Нотгрошен. Он не помнил себя от возбуждения. — Мы телеграфируем кайзеру!
Перед почтамтом с пастором Циллихом, у которого был не особенно крепкий желудок, случилась беда. Пока приятели старались облегчить его положение, Дидерих позвонил, и когда вышел дежурный, вручил ему телеграмму. Прочитав ее, чиновник нерешительно взглянул на Дидериха, но тот так грозно повел глазами, что телеграфист попятился и принялся оформлять телеграмму. Дидерих уже без всякой надобности продолжал вращать глазами; он стоял, как истукан, в позе кайзера, которому флигель-адъютант докладывает о подвиге часового, а министр двора вручает телеграмму с изъявлением верноподданнических чувств. На голове он ощущал каску; хлопнув себя по бедру — по невидимой сабле, — он сказал:
— Кто дерзнет помериться со мной силой?
Телеграфист принял это за предупреждение и, пододвигая сдачу, еще раз пересчитал ее. Дидерих взял мелочь, подошел к одному из столов, набросал на клочке бумаги несколько строк и, сунув бумажку в карман, вернулся к своей компании.
Пастора посадили в наемную карету; он уже отъезжал, проливая слезы, как перед вечной разлукой, и махал рукой из окошечка. Возле оперного театра Ядассон свернул за угол, хотя майор и орал ему вслед, что он живет вовсе не здесь. Внезапно испарился и майор. Дидерих и Нотгрошен одни добрались до Лютерштрассе. У театра «Валгалла» редактор остановился. Не поддаваясь никаким уговорам, он во что бы то ни стало желал тотчас же, среди ночи увидеть «электрическое чудо», которое здесь показывали, — даму, мечущую огненные искры. Дидериху пришлось долго и настойчиво разъяснять ему, что в такую минуту неуместно заниматься столь легкомысленными вещами. Впрочем, как только показалось здание «Нетцигского листка», Нотгрошен забыл об «электрическом чуде».
— Остановить! — закричал он. — Остановить машины! Нужно еще тиснуть телеграмму от немцев-националистов… Ведь вы же захотите утром прочесть ее в газете? — обратился он к проходившему мимо ночному сторожу. Вдруг Дидерих крепко взял редактора под руку.
— Не только эту телеграмму, — отрывисто и тихо произнес он. — У меня есть еще одна. — Он вытащил из кармана бумажку. — Дежурный телеграфист оказался моим знакомым, он мне доверился. Но я требую, чтобы вы обещали ни в коем случае не разглашать, откуда к вам попал этот документ: телеграфист может лишиться места.
Нотгрошен немедленно все обещал, и Дидерих, не глядя на бумажку, проговорил:
— Телеграмма адресована в штаб полка, и полковнику предлагается самолично сообщить о ней часовому, застрелившему рабочего. Телеграмма гласит: «За доблесть, проявленную тобой на поле чести в борьбе с внутренним врагом, выражаю мою высочайшую благодарность и присваиваю тебе чин ефрейтора…» Убедитесь сами. — И Дидерих протянул редактору бумажку. Но редактор не взглянул на нее; как ошалелый уставился он на Дидериха, на его каменную фигуру и на усы, поднимавшиеся до самых глаз, — сверкающих очей.
— Мне почудилось, что… — пробормотал Нотгрошен. — У вас такое поразительное сходство с…
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Дидерих, как в лучшие «новотевтонские» времена, проспал бы час обеда, если бы из ресторана не прислали счет, и настолько солидный, что пришлось встать и отправиться в контору. Он чувствовал себя прескверно, а его донимали всякими пустяками. Да и кто? Свои, домашние. Сестры требовали увеличить сумму, которая ежемесячно полагалась им «на булавки». И когда он сослался на полное безденежье, попрекнули его тем, что у старика Зетбира они отказа не знали. Дидерих решил в корне пресечь эту попытку к бунту. Осипшим с перепоя голосом он сказал сестрам, что придется им еще и не к таким вещам привыкать. Зетбир, конечно, раздавал деньги направо и налево, но зато и довел фабрику до полного развала.
— Если бы мне пришлось сейчас выплатить вам вашу долю, вы бы ахнули от удивления, — такой она оказалась бы ничтожной. — Говоря это, он думал о том, как несправедливо, что ему, вероятно, придется когда-нибудь привлечь их к участию в деле. «Надо бы заранее принять меры». Сестры между тем распалялись все больше:
— Нам нечем уплатить шляпнице, а господину доктору, видите ли, можно выбросить на шампанское полтораста марок.
Дидерих рассвирепел, лицо у него перекосилось. Его письма вскрывают! За ним шпионят! Он не хозяин в своем доме, он приказчик, негр, он тянет из себя жилы ради того, чтобы милые сестрицы могли целыми днями прохлаждаться! Он орал и топал ногами так, что стекла звенели. Фрау Геслинг умоляюще хныкала, сестры возражали уже только из страха, но Дидерих закусил удила.
— Как вы смеете? Дуры безмозглые! Разве вы в состоянии понять, что эти полтораста марок — блестящее помещение капитала? Да, да, помещение капитала! Думаете, я распивал бы с этими остолопами шампанское, если бы они мне не нужны были? Этого вы тут, в Нетциге, слыхом не слыхивали, это новый курс, это… — Он подбирал слово: — Это — размах! Да, размах!
И он вышел, хлопнув дверью. Фрау Геслинг на цыпочках последовала за ним в гостиную. Он рухнул на диван; она взяла его за руку и сказала:
— Мой дорогой сын, я с тобой! — И она посмотрела на него так, точно хотела вместе с ним помолиться «словами, идущими от сердца». Дидерих потребовал маринованной селедки и стал сердито жаловаться, как трудно в Нетциге привить новый дух. Хоть бы домашние щадили его нервы!
— У меня насчет нашей семьи грандиозные планы. Дайте же мне возможность действовать по собственному разумению. Хозяином должен быть кто-то один. Тут нужны, конечно, предприимчивость и размах. Зетбир мне теперь не подходит. Пусть старик еще попыхтит немного, а потом я его выставлю.
Фрау Геслинг кротко заверяла, что не сомневается в своем дорогом сыне — он, конечно, всегда сумеет ради своей матери поступить так, как надо, и Дидерих направил свои стопы в контору. Там он написал письмо в дирекцию машиностроительного завода Бюшли и К0, в Эшвейлере, прося выслать ему «новый патентованный двойной голландер» системы Майер. Оставив написанное письмо на столе, он вышел из комнаты. Когда он вернулся, Зетбир стоял у его конторки; прикрываясь своим зеленым козырьком, старик несомненно плакал: на письмо капали слезы.
— Отдайте его переписать, — холодно сказал Дидерих.
Тогда Зетбир заговорил:
— Патрон, наш голландер не патентованный, но с ним старый хозяин начинал дело и с ним привел фабрику к процветанию…
— А я возымел желание сделать то же самое с помощью собственного голландера, — отчеканил Дидерих.
Зетбир горевал:
— Наш старый голландер никогда не подводил нас. — Так подведет.
Зетбир клялся, что старая машина не уступает по своей мощности самым новым, все это одна жульническая реклама. Видя, что Дидерих упорствует, старик открыл дверь и крикнул:
— Фишер! Зайдите-ка на минутку!
Дидерих вскинулся:
— Что вам от него нужно? Нечего ему совать нос в мои дела.
Но Зетбир ссылался на мнение механика, работавшего на крупнейших бумажных фабриках.
— Фишер, расскажите же господину доктору, как хорошо работает наш голландер.
Дидерих не желал слушать, он бегал из угла в угол, уверенный, что механик не упустит случая досадить ему. И вдруг Наполеон Фишер начал с того, что превознес до небес деловые качества Дидериха, а затем наговорил о старом голландере столько плохого, что больше уж и сказать нельзя было. Послушать Фишера, так он уже готов был потребовать расчет, до того его замучил старый голландер. Дидерих фыркнул: ему, дескать, потрясающе везет, — шутка ли, такой бесценный работник, как господин Фишер, решил не покидать его! Но Фишер пропустил мимо ушей иронические слова хозяина и по снимкам, помещенным в проспекте, растолковал Дидериху все преимущества патентованного голландера и главным образом легкость его обслуживания.
— Лишь бы вам было легче работать! — снова фыркнул Дидерих. — Только об этом я и мечтаю. Благодарю, можете идти.
После ухода механика Зетбир и Дидерих долго молчали и занимались каждый своим делом. Вдруг Зетбир спросил:
— А чем мы за него заплатим?
Дидерих мгновенно вспыхнул до ушей: он тоже все время об этом думал.
— Есть о чем беспокоиться! Чем заплатим! Прежде всего я выговорю большую рассрочку, а затем, если уж я заказываю такую дорогую машину, то неужели вы думаете, что я не знаю, для чего! Знаю, милый мой, ясно, что у меня есть определенные виды на расширение моего предприятия в ближайшем будущем… но пока я не считаю нужным говорить об этом.
И он удалился, надменно вскинув голову, хотя его и грызли сомнения. Разве Наполеон Фишер не оглянулся с таким видом, словно ему удалось порядком околпачить хозяина? «Кругом враги, — подумал Дидерих и еще больше выпятил грудь, — но от этого силы только крепнут. Всех сотру в порошок. Они узнают, с кем имеют дело!» И он решил выполнить намерение, с которым проснулся сегодня утром. Он отправился к доктору Гейтейфелю. Доктор как раз принимал больных. Дидериху пришлось ждать. Гейтейфель принял его в своем процедурном кабинете, где все: запахи и предметы — напомнило Дидериху, с каким страхом он, бывало, входил сюда. Доктор Гейтейфель взял со стола газету, коротко рассмеялся и сказал:
— Вы пришли, вероятно, похвалиться своими победами? Еще бы! Сразу два таких успеха! Напечатаны ваши подогретые шампанским верноподданнические излияния, да и телеграмма часовому от кайзера, с вашей точки зрения, не оставляет желать лучшего.
— Какая телеграмма? — спросил Дидерих. Доктор Гейтейфель показал; Дидерих прочел: «За доблесть, проявленную тобой на поле чести в борьбе с внутренним врагом, выражаю мою высочайшую благодарность и присваиваю тебе чин ефрейтора». Телеграмма, напечатанная черным по белому, произвела на него впечатление совершеннейшей подлинности. Он даже умилился и сдержанно, как и подобает мужчине, сказал:
— Каждый истинный националист обеими руками под этим подпишется. — Гейтейфель лишь плечом повел, и Дидерих собрался с духом: — Я пришел не для этого, я хочу выяснить наши отношения.
— Они, надо полагать, давно выяснены, — сказал Гейтейфель.
— Отнюдь нет. — Дидерих стал уверять, что склонен заключить почетный мир. Он готов действовать в духе правильно понятого либерализма, если только встретит уважение к своему строго националистическому образу мыслей. Доктор Гейтейфель ответил, что все это пустозвонные фразы, и Дидерих почувствовал, как почва ускользает у него из-под ног. Этот человек держит его в своей власти; он может обвинить Дидериха в трусости, опираясь на документ! В иронической улыбке, игравшей на желтом китайском лице Гейтейфеля, во всей его самоуверенной повадке притаился вечный намек. Он молчит, он хочет, чтобы дамоклов меч постоянно висел над головой Дидериха. Этому необходимо положить конец!
— Я прошу вас, — сказал Дидерих охрипшим от волнения голосом, — вернуть мне мое письмо.
Гейтейфель прикинулся удивленным.
— Какое письмо?
— Которое я написал вам, когда был призван. Врач сделал вид, что припоминает.
— Ах, да: вы хотели уклониться от военной службы.
— Я так и думал, что вы придадите оскорбительный для меня смысл неосторожно высказанным пожеланиям. Еще раз прошу вернуть мне письмо. — И Дидерих надвинулся на Гейтейфеля. Тот не тронулся с места.
— Оставьте меня в покое… Я вашего письма не сохранил.
— Я требую честного слова.
— Честного слова я по приказу не даю.
— В таком случае предупреждаю вас о последствиях вашего нечестного образа действий. Если вы вздумаете воспользоваться письмом, чтобы при случае учинить мне гадость, я обвиню вас в нарушении профессиональной тайны. Я подам жалобу во врачебную палату, потребую наложить на вас штраф и употреблю все свое влияние, чтобы вас уничтожить. — И, не помня себя от бешенства, сорвавшимся голосом прохрипел: — Я готов на все. Между нами — открытая война не на жизнь, а на смерть.
Доктор Гейтейфель взглянул на него с любопытством и помотал головой, шевеля китайскими усами, — Вы охрипли, — сказал он.
Дидерих отшатнулся.
— Какое вам до этого дело? — пробормотал он.
— Никакого, — сказал Гейтейфель. — Я обратил на это внимание, потому что всегда предсказывал нечто подобное.
— Что именно? Извольте говорить яснее.
Но Гейтейфель отказался. Дидерих сверкнул глазами.
— Я решительно требую, чтобы вы исполнили свой врачебный долг.
— Я не ваш врач, — ответил Гейтейфель.
Дидерих сменил повелительный тон на жалобнопытливый.
— Порой я чувствую боль в горле. Вы полагаете, что это серьезно? Есть основания опасаться самого страшного?
— Советую вам обратиться к специалисту.
— Да ведь вы единственный в городе специалист! Бога ради, господин доктор, не берите греха на душу, у меня на руках семья.
— Да вы бы поменьше курили и пили. Вчера вечером вы хватили через край.
— Ах, так. — Дидерих выпрямился. — Вы мне не можете простить вчерашнее шампанское. И верноподданнический адрес.
— Если вы подозреваете меня в низменных побуждениях, зачем вы меня спрашиваете?
Но Дидерих уже снова молил:
— Скажите по крайней мере, не угрожает ли мне рак?
Гейтейфель не улыбнулся.
— Ребенком, правда, вы всегда отличались золотушным и рахитическим складом. Зря вы не служили в армии, вы бы не обрюзгли так.
В конце концов он сменил гнев на милость, осмотрел Дидериха и принялся смазывать ему горло. Дидерих задыхался, боязливо вращал глазами и стискивал руку врача. Гейтейфель убрал шпатель.
— Так я, разумеется, ничего сделать не смогу. — Он хмыкнул. — Вы ничуть не изменились — такой же, как в детстве.
Как только Дидерих отдышался, он немедленно унес ноги из этой камеры пыток. Не успели у него просохнуть глаза, как он натолкнулся на Ядассона.
— Что с вами? — спросил Ядассон. — Вчерашняя попойка вам повредила? Так почему же вы обратились именно к Гейтейфелю?
Дидерих уверил его, что чувствует себя превосходно.
— Но этот тип довел меня до белого каления! Я отправился к нему, ибо счел своим долгом потребовать удовлетворительного объяснения по поводу вчерашних речей Лауэра. Пререкаться с самим Лауэром не очень-то приятно человеку благомыслящему.
Ядассон предложил зайти в пивную Клапша.
— Я, значит, отправляюсь к нему, — продолжал Дидерих, уже сидя с Ядассоном за столиком, — в надежде, что вся эта история объяснится очень просто: либо сей господин был пьян в дым, либо на него нашло временное затмение! Вместо этого, как вы думаете, что происходит? Гейтейфель держит себя нагло. Принимает самоуверенный тон. Подвергает циничной критике наш верноподданнический адрес и — вы не поверите! — даже телеграмму его величества!
— Ну, а затем? — спросил Ядассон; одна рука его была занята обследованием фрейлейн Клапш.
— Для меня здесь не существует никаких «затем»! С этим господином я раз навсегда покончил счеты! — воскликнул Дидерих, хотя у него изрядно сосало под ложечкой от мысли, что в среду ему опять предстоит смазывание.
— Ну, а я еще не покончил, — отрезал Ядассон. — И в ответ на удивленный взгляд Дидериха: — Вы забыли, что существует учреждение, именуемое королевской прокуратурой, и оно весьма интересуется господами, подобными Лауэру и Гейтейфелю. — Он оставил в покое фрейлейн Клапш и сделал ей знак скрыться с глаз.
— Что вы намерены предпринять? — спросил неприятно пораженный Дидерих.
— Я думаю предъявить им обвинение в оскорблении величества.
— Вы?
— Да, я. Прокурор Фейфер находится в отпуску, и я его замещаю. Во время самого происшествия я отсутствовал и тотчас же установил это при свидетелях. Стало быть, я имею право выступить на процессе как представитель обвинения.
— Но если никто не возбудит, его?
На лице Ядассона появилась жесткая усмешка.
— Слава богу, мы можем и без этого обойтись… Кстати, напоминаю вам, что вчера вечером вы сами предложили себя в свидетели.
— Решительно не помню, — живо сказал Дидерих.
Ядассон похлопал его по плечу.
— Ничего, вспомните, как только вас приведут к присяге.
Дидерих вспылил. Он так расшумелся, что Клапш осторожно заглянул в комнату.
— Господин асессор, не могу не выразить вам крайнего удивления. Мои частные замечания вы… По-видимому, вы рассчитываете с помощью политического процесса скорее выскочить в прокуроры. Но я хотел бы знать, какое мне дело до вашей карьеры?
— А мне до вашей, — ответил Ядассон.
— Так. Значит — враги?
— Надеюсь, мы еще с вами поладим.
И Ядассон разъяснил, что у Дидериха нет никаких оснований бояться процесса. Все свидетели событий в погребке, включая и друзей Лауэра, не могут не показать то же, что и Дидерих. Дидериху отнюдь не придется отважиться на какой-либо особый шаг.
— К сожалению, я его уже сделал, — ответил Дидерих, — ведь именно я затеял скандал с Лауэром.
Но Ядассон его успокоил:
— Это никого не интересует. Важно установить одно: произнес ли Лауэр инкриминируемые ему слова, или нет? Вы, точно так же, как все остальные, дадите свои показания. При желании можете это сделать с осторожностью.
— С большой осторожностью, — подхватил Дидерих. И, глядя на сатанинскую усмешку Ядассона: — Да разве мне когда-нибудь могло прийти в голову засадить в тюрьму такого порядочного человека, как Лауэр? Да, да, порядочного! Ибо политические убеждения, на мой взгляд, сами по себе никого не позорят.
— Особенно когда это касается зятя старика Бука, ведь в Буке вы еще пока нуждаетесь, — сказал в заключение Ядассон, и Дидерих опустил голову. Этот карьерист, этот еврей бессовестно эксплуатирует его, а он перед ним беззащитен! Верь после этого в дружбу! Дидерих сказал себе — в который раз! — что все поступают в жизни бессовестнее и коварнее, чем он. Его главная задача теперь: научиться идти напролом. Он выпрямился и сверкнул очами. На большее он пока не решился. С чиновниками из прокуратуры надо держать ухо востро! Кто их ведает?.. Впрочем, Ядассон заговорил о другом.
— А знаете ли вы, какие странные слухи пошли в управлении регирунгспрезидента и у нас в суде? Относительно телеграммы его величества в штаб полка? Полковник, говорят, утверждает, будто он никакой телеграммы не получал.
Дидерих сохранил твердость голоса, хотя сердце у него екнуло.
— Телеграмма-то ведь напечатана в газете!
Ядассон двусмысленно ухмыльнулся.
— Чего там только не напечатано. — Он попросил Клапша, снова просунувшего в дверную щель свою лысину, принести «Нетцигский листок». — Смотрите-ка, в этом номере вообще нет ни строчки, которая не имела бы прямого отношения к его величеству. Вот передовица. Тема — послание кайзера о религии откровения. Далее телеграмма кайзера командиру полка, в местных новостях — репортаж о героическом подвиге часового, а в отделе «Смесь» три эпизода из семейной жизни кайзера.
— Ужасно трогательные истории, — вставил словечко Клапш и завел глаза под лоб.
— Весьма, весьма, — подтвердил Ядассон, а Дидерих:
— Даже такая крамольная газета, как «Нетцигский листок», и та не может не признать величия нашего кайзера!
— Но при таком похвальном рвении вполне возможно, что редакция на день раньше опубликовала высочайшую телеграмму… то есть до того, как она была отправлена…
— Исключается! — решительно сказал Дидерих. — Стиль его величества неповторим.
Клапш тоже узнал стиль его величества.
Ядассон согласился.
— Ну, да… Мы не выступаем с опровержением только потому, что в таких случаях разве знаешь… Возможно, что полковник не получил телеграммы, а газета получила ее непосредственно из Берлина. Фон Вулков вызвал к себе редактора Нотгрошена, но этот малый отказался дать показания. Вулков рассвирепел, он сам явился к нам и потребовал репрессивных мер против Нотгрошена, ведь редактор обязан назвать прокуратуре источник информации. Посовещавшись, мы отказались от этой мысли и предпочли ждать опровержения из Берлина… именно потому, что ничего нельзя знать…
Клапша позвали на кухню. Когда он вышел, Ядассон прибавил:
— Странно, не правда ли? Всем эта история кажется подозрительной, но никто не хочет принимать меры, ибо в этом случае… в этом исключительном случае, — сказал Ядассон, иезуитски подчеркивая каждое слово, и выражение лица его было иезуитским, даже уши, казалось, иезуитски топорщатся, — именно самое невероятное чаще всего оказывается правдой.
Дидерих потерял дар слова: ему и во сне не снилось, что возможно такое черное предательство. Ядассон заметил, как он потрясен, и смешался; он начал вилять.
— Строго между нами, у этого человека тоже есть свои слабости.
Дидерих холодно и предостерегающе ответил:
— Вчера вечером вы как будто были другого мнения.
Ядассон сослался на шампанское, конечно, заглушающее голос критики. Неужели доктор Геслинг принял всерьез энтузиазм всей компании? Большего злопыхателя, чем майор Кунце, мир не видывал… Дидерих отодвинулся вместе со стулом, его пробирала дрожь, ему казалось, что он очутился в каком-то разбойничьем притоне. Он твердо и решительно сказал:
— Националистический образ мыслей нашей вчерашней компании, надеюсь, так же бесспорен, как и мой собственный, в котором я никому не позволю усомниться.
Ядассон заговорил своим обычным вызывающим тоном:
— Если в ваших словах содержится намек, бросающий тень на мою личность, то я отвергаю его с негодованием. — И он так завизжал, что Клапш с любопытством приоткрыл дверь. — Я — королевский асессор доктор Ядассон и в любое время к вашим услугам.
В ответ на это Дидериху ничего не оставалось, как промямлить, что он и не думал кого-либо оскорблять. Однако он немедленно уплатил за себя. Прощание вышло холодным.
Дидерих шел домой и всю дорогу громко сопел. Пожалуй, не мешает быть полюбезнее с Ядассоном: а вдруг Нотгрошен проговорится. Правда, затевая процесс против Лауэра, Ядассон нуждается в Дидерихе. Так или иначе, хорошо, что Дидерих раскусил теперь этого господина. «Его уши с первого взгляда показались мне подозрительными. У человека с такими ушами не может быть истинно националистического образа мыслей».
Дома Дидерих первым делом развернул берлинский «Локаль-анцейгер». Он пробежал коротенькие рассказы о кайзере, которые завтра появятся в «Нетцигском листке». А может, и завтра, и послезавтра, в одном номере все не уместятся. Он продолжал искать; руки у него тряслись… Вот! Он рухнул на стул.
— Тебе дурно, сын мой? — спросила фрау Геслинг. Дидерих глядел на эти буквы, как на сказку, которая стала былью. Вот она напечатана среди других сообщений о доподлинных фактах в единственной газете, которую его величество читает сам! В душе, в таких сокровенных ее глубинах, что сам он едва это слышал, Дидерих сказал себе: «Моя телеграмма». Боязливое счастье распирало грудь. Возможно ли? Неужели он так безошибочно почувствовал, что скажет кайзер? Неужели слух его так чутко улавливает слова, идущие из недосягаемой дали? Неужели его мозг работает в унисон с мозгом?.. Это сверхъестественное мистическое сродство потрясало его воображение… Но назавтра может еще появиться опровержение, и он будет отброшен назад в ничто, из которого поднялся. Всю ночь он мучился страхами, а утром впился в свежий номер «Локаль-анцейгера». Эпизоды из жизни кайзера. Открытие памятника. Речь. Заметка: «Из Нетцига». В ней сообщалось о почестях, оказанных ефрейтору Эмилю Пахольке за доблесть, проявленную в борьбе с внутренним врагом. Все офицеры, начиная с полковника, пожимали ему руку. Он получил денежные подарки. «Как известно, кайзер уже вчера по телеграфу присвоил молодцу-солдату чин ефрейтора». Черным по белому! Какое там опровержение! Наоборот — подтверждение! Слова Дидериха он сделал своими и поступил так, как Дидерих ему подсказал!.. Дидерих развернул перед собой газету; он смотрелся в нее, как в зеркало, и видел себя облаченным в горностай.
О своей победе и головокружительном взлете Дидерих, к сожалению, не смел проронить ни единого звука, но достаточно было взглянуть на его осанку, на эту четкость в движениях и в манере говорить, на властное око… И дома и на фабрике все и вся немели перед ним. Сам Зетбир не мог не признать, что на фабрике повеяло свежим ветром. А Наполеон Фишер! Чем прямее и уверенней держался Дидерих, тем суетливее, совсем по-обезьяньи, шмыгал мимо него механик: свесив руки наперед, глядя в сторону и скаля зубы под редкими черными усами — воплощение укрощенного бунтарства… Теперь в самый раз было начать кампанию за Густу Даймхен. Дидерих отправился с визитом.
Вдова обер-инспектора фрау Даймхен приняла его сначала одна; она сидела на потертом плюшевом диване, но в шелковом коричневом платье, сплошь в бантах, растопырив на животе руки, красные и набрякшие, как у прачки, чтобы гость мог все время любоваться новыми перстнями. От неловкости Дидерих выразил свое восхищение, и фрау Даймхен с готовностью принялась расписывать, как хорошо им с Густой живется, хватает, слава богу, на все. Они еще только не решили, какой обстановкой обзавестись, в старонемецком стиле или в стиле Людовика… надцатого. Дидерих горячо советовал остановиться на старонемецком, в Берлине его встречаешь в лучших домах. Но фрау Даймхен выразила сомнение.
— Кто знает, доводилось ли вам бывать в таких аристократических домах, как наш. Ведь многие только фасон держат, знаю я это, на брюхе шелк, а в брюхе щелк.
Дидерих растерянно замолчал, а фрау Даймхен, довольная, побарабанила пальцами по животу. К счастью, сильно шурша юбками, вошла Густа. Дидерих, изогнувшись, вскочил с кресла, картаво сказал: «Многоуважаемая фрейлейн» — и галантно приложился к ручке. Густа расхохоталась.
— Глядите, еще ногу вывихнете! — Но тут же утешила его — Сразу виден светский человек. Вот точно так здоровается и лейтенант фон Брицен.
— Да, да, — сказала фрау Даймхен, — у нас бывают все господа офицеры. Еще только вчера говорю я Густе, что надо бы, значит, на всех креслах у нас вышить баронский герб, потому что на каждом уже сидело по барону.
Густа скривила губы.
— Но если говорить о семейных домах… и вообще… то надо сказать, что Нетциг изрядно-таки мещанский городок. Мы, вероятно, переедем в Берлин.
С этим фрау Даймхен была не согласна.
— Такого удовольствия мы людям не доставим. Старуха Гарниш чуть не лопнула сегодня, когда увидела мое шелковое платье.
— Вот мама всегда так, — сказала Густа, — ей бы только перед кем-нибудь покуражиться, а там хоть трава не расти. Я же думаю о своем женихе. Вы знаете, что Вольфганг уже сдал государственный экзамен? Что ж ему делать здесь, в Нетциге? Ну, а в Берлине, при наших деньгах, ему простор.
— Да, конечно, — подтвердил Дидерих, — он еще в детстве мечтал стать министром или чем-то в этом роде. — И с легкой ноткой иронии добавил — По его мнению, это совсем просто.
Густа сразу же ощетинилась.
— Сын господина Бука не первый встречный, — сказала она запальчиво.
Дидерих со светской мягкостью, но и с чувством превосходства объяснил, что в нашу эпоху нужны качества, отсутствие которых одним влиянием старика Бука не восполнишь. Надо быть сильной личностью и обладать духом предприимчивости, широким размахом, а главное — строго националистическим образом мыслей. Девушка уже не перебивала, она даже с уважением уставилась на лихо закрученные усы Дидериха. Но Дидерих, увидев, что он производит впечатление, перегнул палку.
— Всех этих качеств я еще пока у господина Вольфганга Бука не заметил, — сказал он. — Он философствует и брюзжит, да и развлекается не в меру… Ничего удивительного, — заключил он, — ведь его мать тоже была актрисой.
Он смотрел вбок, хотя чувствовал, что негодующий взор Густы ищет его взгляда.
— Что вы хотите этим сказать? — спросила она.
Он ответил с деланным удивлением:
— Я? Абсолютно ничего. Я говорю лишь о том, как живет в Берлине золотая молодежь, а Буки ведь аристократы.
— Надеюсь, — резко сказала Густа. На фрау Даймхен напала зевота, она напомнила дочери о портнихе. Густа выжидательно посмотрела на Дидериха; ему только и оставалось, что встать и раскланяться. К ручке он уже не приложился, учитывая напряженную атмосферу. Но Густа его нагнала в передней.
— Быть может, вы все-таки скажете, на что вы намекали, когда говорили об актрисе? — спросила она.
Дидерих открыл рот, как бы запасаясь воздухом, закрыл его и густо покраснел. Он чуть было не выболтал того, что сестры рассказали ему о Вольфганге Буке. Голосом, полным сострадания, он ответил:
— Фрейлейн Густа, мы ведь с вами старые знакомые… Я хотел лишь сказать, что Бук для вас неподходящая пара. У него, что называется, плохая наследственность по материнской линии. Да ведь и старик тоже приговорен был к смертной казни. И вообще что в них особенного, в этих Буках, не понимаю! Верьте мне, не стоит родниться с семьей, которая катится под гору. Это грех по отношению к себе, — добавил он.
Густа подбоченилась.
— Катится под гору? А вы, конечно, идете в гору? Только потому, что пьянствуете по ресторанам, а потом скандалите и пристаете к людям? Вы уже стали притчей для всего города, а еще позволяете себе чернить высокопорядочную семью! Катится под гору! Кому достанутся мои деньги, тот уж под гору не покатится. Да вас попросту зависть гложет, думаете, я не понимаю? — И она посмотрела ему в лицо; в глазах у нее стояли слезы ярости.
Он чувствовал себя как побитая собака, ему хотелось броситься перед ней на колени, целовать ее короткие пухлые пальцы и поцелуями осушить слезы на глазах… — Но как решиться? Она сделала презрительную гримаску, розовые подушечки на ее круглом полном лице как-то оттянулись книзу. Густа повернулась к нему спиной, вышла и хлопнула дверью. Дидерих, с бьющимся от страха сердцем, еще помедлил немного и, удрученный чувством собственного ничтожества, побрел прочь.
Поразмыслив, он решил, что сюда ему нечего соваться, что ему до всего этого нет дела, а Густа, при всех своих капиталах, как была толстой дурой, так и осталась… Этот вывод его успокоил. А когда Ядассон однажды вечером сообщил ему, что через магдебургский суд удалось получить точные сведения, Дидерих возликовал: пятьдесят тысяч марок, есть о чем говорить! И с таким капиталом разыгрывать из себя графиню! Девица, прибегающая к подобным мошенническим уловкам, и впрямь ко двору захудалым Букам, но не такому здоровому душой и телом, националистически мыслящему немцу, как он, Дидерих. Уж лучше тогда Кетхен Циллих. Внешне у нее с Густой много общего, она не менее соблазнительна, а кроме того, отзывчивее и уступчивей. Он зачастил к пастору, приходил обычно к послеобеденному кофе и усердно ухаживал за Кетхен. Она предостерегала Дидериха насчет Ядассона, и он не мог не согласиться с ней. Она с возмущением говорила о фрау Лауэр, которая с членом суда Фрицше… Что касается процесса против Лауэра, то одна только Кетхен целиком поддерживала Дидериха.
А дело это грозило обернуться против него. Ядассон добился, чтобы следователь по требованию прокурорского надзора допросил всех свидетелей ночного происшествия в погребке; и как ни осторожны были показания Дидериха, все остальные свалили на него ответственность за неловкое положение, в котором они очутились. Кон и Фрицше избегали его; брат старика Бука, всегда необычайно вежливый, не раскланивался с ним; Гейтейфель свирепо смазывал ему горло, но уклонялся от личных разговоров. В тот день, когда стало известно, что фабриканту Лауэру вручен обвинительный акт, Дидерих, зайдя в погребок, увидел, что за его столиком нет ни души. Учитель Кюнхен надевал пальто. Дидерих остановил его уже на ходу. Но Кюнхен очень торопился, его ждали в ферейне свободомыслящих избирателей, где он собирался выступить с речью против нового законопроекта о военном бюджете. Он удрал, а Дидерих с горечью вспомнил ту победную ночь, когда на улице пролилась кровь внутреннего врага, здесь же рекой лилось шампанское, и из всех националистов самым воинственным был Кюнхен. А теперь он выступает против усиления нашей достославной армии… Дидерих сиротливо созерцал свою вечернюю кружку пива; но вот появился майор Кунце.
— Здравствуйте, господин майор, — с деланной бодростью встретил его Дидерих. — Что это вас совсем не слышно?
— Зато вас очень даже слышно! — Майор еще что-то пробурчал и, стоя в пальто и шляпе, озирался по сторонам, точно перед ним расстилалась снежная пустыня. — Ни души!
— Разрешите предложить вам стаканчик вина! — отважился сказать Дидерих, но получил жестокую отповедь:
— Благодарю, я еще ваше шампанское не переварил.
Майор заказал пива и сидел молча, с таким свирепым видом, что становилось страшно. Ради того лишь, чтобы нарушить невыносимое молчание, Дидерих сказал наобум:
— Ну, а что с ферейном воинов, господин майор? Я надеялся, что вот-вот буду принят, и ждал извещения.
Майор так посмотрел на него, точно хотел его съесть.
— Ах, так. Вы надеялись. Вы, вероятно, надеялись также, что окажете мне честь, втянув меня в ваше скандальное дело?
— Мое? — пробормотал Дидерих.
— Да, да, многоуважаемый! — заорал майор. — Ваше! У господина фабриканта Лауэра вырвалось невзначай лишнее слово, это со всяким может случиться, даже со старыми солдатами, которые проливали кровь за своего государя, не боясь ни увечий, ни смерти. Вы же коварнейшим образом спровоцировали Лауэра на неосторожные речи. Я не откажусь все это подтвердить на следствии. Лауэра я знаю: он воевал во Франции, он член нашего ферейна воинов. А вы, сударь, кто вы такой? Откуда я знаю, служили ли вы вообще? Предъявите документы!
Дидерих полез во внутренний карман пиджака. Он стал бы во фронт, если бы майор ему скомандовал. Майор вытянул перед собой руку с воинским билетом Дидериха. Вдруг он отшвырнул билет прочь и саркастически хмыкнул:
— Ну, вот вам! Зачислен в ополчение. А что я говорил? Плоскостопие, конечно.
Дидерих был бледен, каждое слово майора повергало его в дрожь, он заклинающе поднял руку:
— Господин майор, даю вам честное слово, что я служил. И лишь несчастный случай, который только делает мне честь… Пришлось через три месяца покинуть армию…
— Несчастный случай!.. Знаем мы! Кельнер, счет!
— А то я навсегда остался бы в армии, — прибавил Дидерих неуверенным голосом. — Душой и телом был я предан своему воинскому долгу. Спросите мое начальство.
— Прощайте! — Майор был уже в пальто. — Вот что я скажу вам, сударь: кто не служил, пусть не суется в такие дела, как оскорбление величества. Его величество презирает не служивших господ. Грюцмахер, — обратился он к ресторатору, — вам бы следовало знать публику, которая у вас бывает. По милости одного вашего слишком частого посетителя господину Лауэру грозит чуть не арест, а я со своей больной ногой обязан явиться в суд свидетелем обвинения и со всеми перессориться. Бал в «Гармонии» уже отменен. Мне теперь нечего делать, а когда захожу сюда, — он опять огляделся, словно перед ним простиралась пустыня, — не застаю ни живой души. Кроме, конечно, этого доносчика! — крикнул он, уже подымаясь по лестнице.
— Даю честное слово, господин майор… — Дидерих побежал за майором, — я не подавал никаких жалоб, все это недоразумение. — Майор был уже на улице. — Прошу вас по крайней мере ничего не разглашать… — крикнул Дидерих ему вдогонку.
Он вытер лоб.
— Господин Грюцмахер, вы должны все-таки принять во внимание… — сказал он со слезами в голосе. И так как он заказал вина, ресторатор все принял во внимание.
Дидерих пил и скорбно покачивал головой. Он не понимал, почему вышла осечка. У него были чистые намерения, и если на них брошена тень, то лишь по вине вероломных недругов… В погребок вошел член суда Фрицше; он нерешительно огляделся и, удостоверившись, что, кроме Дидериха, никого в зале, нет, подсел к нему.
— Доктор Геслинг, — сказал он, поздоровавшись, — у вас такой вид, словно ваш урожай побило градом.
— Без огорчений в большом деле не бывает, — пробормотал Дидерих. Заметив на лице у Фрицше сочувственную улыбку, он окончательно размяк. — Вам, господин советник, я могу признаться. Эта история с Лауэром для меня крайне тягостна.
— Для него еще больше, — не без строгости сказал Фрицше. — Не будь у нас уверенности, что в данном случае попытка к бегству исключается, волей-неволей пришлось бы сегодня же взять его под стражу. — Увидев, как Дидерих побледнел, он прибавил — А это было бы тяжело даже для нас, судей. Ведь люди же мы в конце концов и живем среди людей. Но, конечно… — Он поправил пенсне на носу и продолжал, сделав сухо-официальное лицо: — С законом шутки плохи. Если у Лауэра в тот вечер — меня самого-то не было уже в ресторане — действительно сорвалось с языка неслыханное оскорбление величества… Так утверждает обвинение… А главный свидетель обвинения — вы…
— Я? — Дидерих в ужасе подскочил. — Да я ничего не слышал. Ни единого слова.
— Это противоречит вашим показаниям на следствии.
Дидерих смешался:
— В первую минуту как-то не знаешь, что следует говорить. Но когда я сейчас восстанавливаю в памяти весь эпизод, то мне кажется, что все мы были изрядно на взводе. Я в особенности.
— Вы в особенности, — повторил Фрицше.
— Совершенно верно. И я задавал господину Лауэру преднамеренные вопросы. А что он мне отвечал на них, я бы этого под присягой не мог теперь сказать. Да и вообще все это было только шуткой.
— Так, так. Только шуткой. — Фрицше облегченно вздохнул. — Но что же вам мешает попросту изложить все это следователю? — Он поднял палец. — Без малейшего, разумеется, нажима с моей стороны.
— Ядассону я этого подвоха никогда не прощу, — повысил голос Дидерих.
И он рассказал о кознях сего господина, о том, как он умышленно удалился, чтобы не присутствовать при самой сцене и не оказаться ее свидетелем, а затем немедленно принялся собирать данные для обвинения, воспользовался почти невменяемым состоянием присутствующих, вынудил у них показания и тем самым наперед отрезал путь к отступленью.
— Я считаю господина Лауэра, так же как и он меня, человеком чести. Как смеет этот еврей науськивать нас друг на друга!
Фрицше серьезным тоном разъяснил, что в данном случае дело не в личности Ядассона, а в шагах, предпринятых прокуратурой. Впрочем, Ядассон, признаться, переусердствовал.
— Вот видите, — прибавил он, понизив голос, — этим как раз и объясняется, почему мы неохотно сотрудничаем с лицами иудейского происхождения. Такой господин не задумывается над тем, как подействует на народ осуждение образованного человека, работодателя, обвиненного в оскорблении величества. Ему наплевать на подобные деловые соображения. Он склонен к радикальным решениям.
— Иудейский радикализм, — вставил Дидерих.
— Ядассон ни перед чем не остановится, лишь бы выдвинуть себя на первый план, хотя я отнюдь не отрицаю, что со своей точки зрения он блюдет и служебные и националистические интересы.
— Полноте! — воскликнул Дидерих. — Это гнусный карьерист, спекулирующий на всем, что для нас свято.
— Именно, если не бояться резких выражений… — Фрицше удовлетворенно улыбнулся. Он придвинулся ближе. — Допустим, что следствие будет возложено на меня: есть случаи, когда по известным мотивам отказываешься от выполнения своих служебных обязанностей.
— Вы очень дружны с семьей Лауэров, — сказал Дидерих, многозначительно кивнув.
Фрицше сменил официальное выражение лица на светское.
— Но вы, конечно, согласитесь, что это дало бы новую пищу известным слухам.
— Нет, этого делать нельзя, — произнес Дидерих. — Было бы не по-джентльменски.
— Тогда мне остается только исполнить свои обязанности спокойно и деловито.
— Быть деловитым — значит быть немцем, — сказал Дидерих.
— Тем более что господа свидетели, смею надеяться, не станут без надобности усложнять мою задачу.
Дидерих приложил руку к сердцу.
— Господин советник, иногда поддаешься порыву. Да и как не поддаться, когда посягают на твою святыню. Я человек горячий. Но я никогда не забываю, что держу ответ перед господом богом. — Он потупился и мужественно кончил — И я не гоню от себя раскаяния.
Фрицше, по-видимому, больше ничего не нужно было; он стал расплачиваться. Друзья пожали друг другу руки, многозначительно, с чувством полного взаимопонимания.
На следующий же день Дидериха вызвали к следователю. Это был Фрицше. «Слава богу», — подумал Дидерих и дал показания, выдержанные в деловом чистосердечном тоне. И Фрицше, казалось, тоже стремился к единственной цели — к установлению истины. Общественное мнение по-прежнему оставалось, конечно, на стороне обвиняемого. О социал-демократическом «Гласе народа» и говорить нечего: этот листок имел наглость затронуть частную жизнь Дидериха; за этим несомненно стоял Наполеон Фишер. Да и «Нетцигский листок», всегда такой благонамеренный, именно теперь напечатал обращение фабриканта Лауэра к своим служащим и рабочим, в котором заявлялось, что он честно делит доходы предприятия с теми, кто своим трудом умножает их: четверть отдает служащим, четверть — рабочим. За восемь лет они сверх заработной платы и жалованья разделили между собой сто тридцать тысяч марок. На широкие круги это произвело весьма благоприятное впечатление. Дидерих видел вокруг себя недружелюбные лица.
Даже редактор Нотгрошен, когда Дидерих потребовал объяснений, и тот позволил себе ехидно улыбнуться и заговорить о социальном прогрессе, которому не преградить путь националистическим пустословием. Но особенно удручали его неприятности делового порядка. Заказы, на которые он имел все основания рассчитывать, уплывали. Владелец универсального магазина Кон известил его, что заказ на рождественские прейскуранты передан гаузенфельдской бумажной фабрике. Когда дело касается политики, ему, Кону, приходится соблюдать осторожность, иначе он растеряет всю свою клиентуру. Дидерих являлся теперь на фабрику чуть свет, стараясь перехватить такого рода письма, но Зетбир приходил еще раньше, и молчание старого управляющего, его безмолвный упрек доводили Дидериха до белого каления.
— Вот прихлопну к черту всю эту лавочку! — кричал он. — Тогда узнаете, почем фунт лиха! А я со своим докторским дипломом завтра же получу место директора на сорок тысяч!
— Я жертвую собой ради вас! — кричал он рабочим, в нарушение всех правил распивающим пиво во время работы. — Я терплю убытки, только бы не рассчитывать вас!
Незадолго до рождества ему все же пришлось уволить около трети рабочих. Зетбир высчитал, что иначе к началу нового года не удастся соблюсти сроки по очередным платежам.
— Ведь мы задолжали две тысячи марок, чтобы внести задаток за голландер.
И он упорно твердил свое, хотя Дидерих схватился за чернильницу. На лицах оставшихся рабочих ясно читалось недоверие и пренебрежение. Стоило ему увидеть кучку рабочих, как ему уже мерещилось слово «доносчик». Поросшие черными волосами жилистые руки Наполеона Фишера свисали теперь, казалось, не так низко, а на щеках как будто даже румянец появился.
В последнее воскресенье рождественского поста — окружной суд только что вынес решение об открытии процесса — пастор Циллих произнес в церкви Девы Марии проповедь на стих священного писания: «Возлюбите врагов ваших». Дидерих замер от страха. Он почувствовал, как насторожились прихожане. «Мне отмщение и аз воздам, — сказал господь». Пастор Циллих, выкрикивая эти слова, явно повернулся к скамье Геслингов. Эмми и Магда не знали куда деваться, фрау Геслинг всхлипывала. Дидерих встречал устремленные на него взгляды, грозно насупившись. «Кто же мстит — судим будет». Все повернулись к нему, и Дидерих, сраженный, опустил голову.
Дома сестры закатили ему сцену. В обществе они встречают плохой прием. Молодой учитель Гельферих никогда теперь не подсаживается к Эмми, его интересует только Мета Гарниш, и Эмми знает почему.
— Ты просто для него перезрела, — сказал Дидерих.
— Вовсе нет, на нас переносят антипатию к тебе.
— Все пять дочек брата старого Бука не раскланиваются с нами! — крикнула Магда.
Дидерих в ответ:
— Я им влеплю пять пощечин.
— Нет уж, спасибо. С нас хватит и одного процесса.
— С вас? — Дидерих вскипел. — Вам-то какое дело до моих политических битв?
— По милости твоих политических битв мы останемся в старых девах.
— А то вы не старые? Засиделись тут на моей шее, а я работай на вас как вол, и после всего вы еще смеете брюзжать и издеваться над моими священнейшими задачами? Так, пожалуйста: вот бог, а вот порог! По мне, хоть в няньки нанимайтесь! — И он хлопнул дверью, не обращая внимания на фрау Геслинг, ломавшую руки.
В такой тоскливой атмосфере наступило рождество. Сестры и брат не разговаривали друг с другом. Фрау Геслинг заперлась в комнате, где она украшала елку, и выходила оттуда не иначе как с опухшими от слез глазами. А в сочельник, позвав туда детей, она одна дребезжащим голосом пропела «Тихую ночь{16}».
— Вот это Дидель дарит своим дорогим сестрам, — говорила она, глазами умоляя сына, чтобы он не уличил ее во лжи.
Эмми и Магда сконфуженно благодарили брата, а он смущенно рассматривал дары, якобы приготовленные для него сестрами. Он жалел, что, вопреки настоятельному совету Зетбира, отменил традиционную елку для рабочих, чтобы наказать эту братию за распущенность. Теперь он посидел бы с ними. В семейной же обстановке елка была чем-то искусственным, подогреванием старых, отжитых настроений. Только один человек мог бы оживить все: Густа… Двери ферейна воинов были для Дидериха закрыты, а в погребке все равно никого не застанешь, во всяком случае ни одного приятеля. Дидерих чувствовал себя всеми презираемым, непонятым, гонимым. В какое далекое прошлое ушла беззаботная пора «Новотевтонии», когда молодые люди, сидя за длинными столами, согретые взаимным расположением, распевали песни и пили пиво! Нынче, в этой беспощадной жизни, уже не славные корпоранты наносят друг другу честные удары рапирами, а хищные конкуренты готовы по-волчьи схватить тебя за глотку. «Не создан я для этого жестокого времени», — думал Дидерих, отламывая кусочки марципана, лежавшего перед ним на тарелке, и задумчиво уставившись на елочные огни. «Я безусловно хороший человек. Зачем же меня втягивают в такие нечистые махинации, как этот процесс, ведь они отражаются на делах, и я даже не смогу — о боже милостивый! — не смогу уплатить очередной взнос за новый голландер». Он весь похолодел, на глазах выступили слезы, и, чтобы скрыть их от матери, все время боязливо косившейся на его озабоченное лицо, он украдкой проскользнул в соседнюю неосвещенную комнату. Облокотившись на пианино, он закрыл руками лицо и всхлипнул.
В столовой Эмми и Магда пререкались из-за пары перчаток, а мать не смела решить, которой из сестер они предназначались. Дидерих горько плакал. Везде осечка — в политике, в делах, в любви. «Что мне еще осталось?» Он открыл пианино. Дрожь била его, он чувствовал себя безмерно одиноким, он боялся прервать тишину. Звуки полились сами собой, он едва сознавал, что пальцы бегают по клавишам. Причудливо сплетались обрывки народных мелодий, Бетховен, студенческие песни, и от этого сумерки потеплели, а в голове у Дидериха все приятно смешалось. Вдруг ему почудилось, что кто-то проводит рукой по его волосам. Что это, сон? Нет, на пианино неожиданно оказалась кружка с пивом. Милая мама! Шуберт, простодушная мягкость и задушевность отчего дома… Наступила тишина, но он не замечал ее, пока не пробили стенные часы: прошел целый час!
— Вот и отмечен сочельник, — вслух произнес Дидерих и вернулся в столовую.
Он успокоился и подтянулся. Сестер, все еще препиравшихся из-за перчаток, он обозвал бесчувственными созданиями, а перчатки сунул в карман — решил обменять их на мужские.
Праздники прошли уныло: грызла забота о голландере. Шесть тысяч марок за новый патентованный голландер системы Майера! Денег не было, и при создавшемся положении взаймы тоже никто не даст. Непостижимый рок, гнусный отпор со стороны людей и вещей доводили Дидериха до бешенства. В отсутствие Зетбира он с силой хлопал крышкой от конторки, расшвыривал папки по всем углам. У нового хозяина, взявшего бразды правления в свои властные руки, все начинания должны удаваться сами собой, успех — сопутствовать на каждом шагу, события — соответствовать размаху его натуры… Вспышку гнева сменял приступ малодушия. Дидерих принимал меры предосторожности на случай краха. Он был мягок с Зетбиром — не выручит ли старик и на сей раз? Он смиренно просил пастора Циллиха убедить прихожан, что в своей нашумевшей проповеди он вовсе не имел в виду его, Дидериха. Пастор обещал, проявляя явное раскаяние под укоризненным взглядом супруги, а она подтвердила его обещание. Затем родители оставили Дидериха и Кетхен вдвоем, и присмиревший, приниженный Дидерих почувствовал такой прилив благодарности, что чуть было не объяснился Кетхен в любви. «Да», уже порхавшее на милых пухлых губках Кетхен, означало бы все-таки успех, оно дало бы ему союзников, и он не был бы так одинок во вражеском стане. Но этот неоплатный голландер! Машина сожрала бы четверть приданого… Дидерих вздохнул: ему пора на фабрику. И губы Кетхен сомкнулись, не вымолвив заветного словечка.
Надо было решать, что делать, срок доставки голландера приближался. Дидерих сказал Зетбиру:
— Я бы на их месте доставил машину в срок, минута в минуту: пусть только опоздают, и я без всяких церемоний отошлю ее обратно.
Зетбир напомнил, что обычное право предоставляет заводам несколько дней отсрочки. Как ни горячился Дидерих, Зетбир стоял на своем. Впрочем, машина пришла точно в срок. Не успели ее распаковать, как Дидерих разбушевался:
— Машина слишком громоздка! Эти господа ручались, что она меньше старой. К чему такие затраты, если я не выгадаю на площади. — И как только голландер установили, он, вооружившись метром, принялся со всех сторон обмеривать машину. — Голландер чересчур велик! Я не позволю себя обжуливать. Подтвердите, Зетбир, что он слишком велик.
Но Зетбир неопровержимо доказал ошибку в обмере, допущенную Дидерихом. Тот, громко сопя, отступил, придумывая новый план атаки. Он подозвал Наполеона Фишера.
— А где же механик? Разве с завода не прислали механика? — И он раскричался. — Я ведь договорился насчет механика, — солгал он. — Эта публика, видно, хорошо понимает свое дело. Я не удивлюсь, если с меня потребуют за механика по двенадцать марок в сутки, а он будет блистать своим отсутствием. Кто мне установит эту злополучную машину?
Фишер сказал, что разбирается в этих вещах. Дидерих вдруг проникся к нему необычайным благоволением.
— Уж лучше, понимаете, уплатить вам сверхурочные, чем выбросить деньги на совершенно чужого человека. Ведь вы в конце концов наш старый рабочий.
Наполеон Фишер вскинул брови, но промолчал. Дидерих коснулся его плеча.
— Видите ли, друг мой, — сказал он, понизив голос, — откровенно говоря, я разочарован в этом голландере. Рисунок в прейскуранте произвел на меня совсем другое впечатление. Барабану полагается быть гораздо шире, а при таком барабане разве возможна большая производительность? Вы согласны со мной? А тяга, по-вашему, хороша? Боюсь, что масса не будет двигаться.
Наполеон Фишер смотрел на Дидериха испытующе, хотя уже смекнул, чего от него хотят.
— Надо бы испробовать машину, — медленно сказал он.
Дидерих, избегая встречаться с ним глазами, делал вид, что рассматривает голландер. В заключение, как бы подбадривая Фишера, он сказал:
— Значит, договорились. Вы устанавливаете эту штуку, я вам плачу сверхурочные с надбавкой в двадцать пять процентов, и давайте поскорее загрузим машину. Вот и увидим, какой подарочек нам преподнесли.
— Уж, наверное, из ряда вон, — сказал механик, явно желая угодить хозяину.
Дидерих, не думая о том, что делает, схватил его за плечо: Наполеон Фишер был другом, спасителем.
— Пойдемте-ка, дорогой мой…
Его голос звучал растроганно. Он повел Наполеона Фишера к себе, велел фрау Геслинг налить механику стакан вина; не поднимая глаз, сунул ему в руку пятьдесят марок.
— Полагаюсь на вас, Фишер, — сказал он. — Если бы не вы, завод, вероятно, здорово околпачил бы меня. Две тысячи марок я уже выбросил на ветер.
— Они обязаны вернуть их, — поддакнул механик.
— Ведь и вы того же мнения, не правда ли? — не унимался Дидерих.
На следующий же день Наполеон Фишер в обеденный перерыв занялся голландером и вскоре доложил своему хозяину, что новое приобретение гроша ломаного не стоит. Масса не движется, без мешалки не обойдешься, как в любом голландере самой старой системы.
— Стало быть, надувательство! — воскликнул Дидерих. — Кроме того, голландер требует больше двадцати лошадиных сил. Это противоречит договору! Неужели мы будем молчать, а, Фишер?
— Ни в коем случае, — решил вопрос механик и провел узловатыми пальцами по заросшему черными волосами подбородку. Дидерих в первый раз прямо взглянул ему в лицо.
— Значит, вы можете засвидетельствовать, что голландер не отвечает условиям заказа?
Наполеон Фишер чуть заметно усмехнулся в свою бороденку.
— Могу, — сказал он.
Дидерих заметил усмешку. Тем энергичнее распрямил он плечи и направился к дверям.
— В таком случае эти господа еще услышат обо мне.
Он тотчас же, в весьма категорическом тоне, написал письмо фирме Бюшли и К0 в Эшвейлер. Ответ пришел с обратной почтой. Его претензии, говорилось в нем, вызывают удивление; новый патентованный голландер системы Майер установлен и испытан уже на многих бумажных фабриках, список коих прилагается. Посему не может быть и речи о том, чтобы завод согласился принять голландер обратно, а тем более — вернул полученный задаток в сумме двух тысяч марок; напротив того, господин Геслинг благоволит немедленно уплатить остаток суммы, указанной в договоре. Дидерих написал вторично, в еще более решительном тоне, пригрозив обратиться в суд. Теперь Бюшли и К0 старались его урезонить, предлагая еще раз испытать машину.
— Поджали хвост, — скаля зубы, проговорил Наполеон Фишер, которому Дидерих показал письмо. — Судебный процесс им сейчас не с руки, их голландер еще мало известен.
— Правильно, — сказал Дидерих. — Молодчики у нас в руках.
И, заранее торжествуя победу, он наотрез отказался от полюбовной сделки и от предложенной ему скидки. Ответа не было довольно долго, и Дидерих уже встревожился. А вдруг они ждут результатов обращения в суд? Или сами строчат на него жалобу? Взгляд его часто обращался на Фишера, и тот отвечал ему взглядом исподлобья. Они больше не разговаривали друг с другом. И вот как-то утром, в одиннадцать часов, когда Дидерих сидел с домашними за вторым завтраком, горничная подала ему визитную карточку: Фридрих Кинаст, доверенный фирмы Бюшли и К0 в Эшвейлере; и пока Дидерих вертел карточку и так и этак, гость уже вошел. Переступив порог, он остановился.
— Прошу прощения, — сказал он. — Произошла, как видно, ошибка. Меня направили сюда, я же прибыл исключительно для деловых переговоров.
Дидерих опомнился.
— О, это ничего не значит, прошу вас, пройдите. Доктор Геслинг, — представился Дидерих. — А это моя мать и сестры Эмми и Магда.
Гость подошел к столу и раскланялся с дамами.
— Фридрих Кинаст, — пробормотал он. Это был высокий мужчина с русой бородкой, в коричневой пиджачной паре. Все три дамы самозабвенно улыбнулись.
— Можно поставить для вас прибор? — спросила фрау Геслинг.
— Конечно, мама, — поспешил сказать Дидерих. — Господин Кинаст ведь позавтракает с нами, не так ли?
— Не смею отказаться, — ответил представитель фирмы Бюшли и К0 и потер руки.
Магда положила ему на тарелку копченой рыбки; он не успел поднести ее ко рту, как уже похвалил.
— Полагаю, что в трезвом состоянии вы неохотно занимаетесь делами? — спросил Дидерих с простодушным смешком.
— Занимаясь делами, я всегда трезв, — так же шутливо ответил Кинаст.
— В таком случае, пожалуй, мы с вами столкуемся.
— Вопрос только в том, как… — с плутовато-задорным видом сказал Кинаст, бросая взгляд в сторону Магды.
Она покраснела. Дидерих налил гостю пива.
— Вероятно, в Нетциг вас привели и другие дела? — Там видно будет, — сдержанно ответил Кинаст.
— У Клюзинга в Гаузенфельде вам вряд ли удастся что-либо сделать, — на всякий случай сказал Дидерих. — У него застой.
И так как гость промолчал, Дидерих подумал: «Вся суть в голландере. Процесс им сейчас некстати». Вдруг он заметил, что Магда и гость одновременно пьют из своих бокалов, глядя друг другу в глаза. Эмма и фрау Геслинг сидели как деревянные. Дидерих, громко сопя, наклонился над своей тарелкой; и вдруг принялся превозносить прелести семейной жизни.
— Вам повезло, господин Кинаст, второй завтрак — это отраднейшие минуты дня. Когда оторвешься от работы и поднимешься к себе, тогда только замечаешь, что ты, так сказать, тоже человек. А это необходимо.
Кинаст подтвердил, что это действительно необходимо. На вопрос фрау Геслинг, женат ли он, Кинаст, глядя на склоненную голову Магды, ответил отрицательно.
Дидерих встал из-за стола и щелкнул каблуками.
— Господин Кинаст, — рявкнул он, — я к вашим услугам.
— Господин Кинаст еще выкурит сигару, — попросила Магда.
Она собственноручно поднесла ему огня, он многообещающе улыбнулся и выразил надежду, что еще увидит дам. Но едва вышли во двор, как он резко переменил тон.
— Какие старые тесные бараки, — заметил он холодно и презрительно. — Жаль, что вы не видели наших заводских корпусов.
— В таком заштатном городишке, как Эшвейлер, не штука развернуться, — так же презрительно ответил Дидерих. — А здесь — как вы снесете этот массив домов!
Он повелительно крикнул механику, чтобы тот запустил новый голландер. Механик не сразу вышел, и Дидерих ворвался в цех.
— У вас что, любезный, уши заложило?
Но, увидев Фишера, он сразу перестал кричать и, тараща глаза, сказал приглушенным голосом:
— Я вашей работой, Фишер, очень доволен, поэтому решил с первого числа повысить вам заработную плату до ста восьмидесяти марок.
Наполеон Фишер коротко, с видом заговорщика, кивнул, и они расстались. Дидерих снова расшумелся. Рабочие курят! Ему возразили, что это дым его собственной сигары. Представителю Бюшли и К0 он сказал:
— Вообще-то говоря, я застрахован, но дисциплина прежде всего. Безупречное производство, верно?
— Устарелое оборудование, — сказал Кинаст, равнодушно оглядывая машины.
— Сам знаю, уважаемый, — насмешливо отпарировал Дидерих. — Но уж никак не хуже вашего голландера.
И, пропустив мимо ушей возражение Кинаста, он разразился упреками по адресу отечественной промышленности. Надо съездить в Англию, вот тогда он переоборудует фабрику. Он человек большого размаха. С тех пор как он возглавил свое предприятие, производительность неизмеримо возросла.
— А возможности еще далеко не исчерпаны. — Дидерих сымпровизировал: — У меня договоры с двадцатью газетами окружного масштаба. От берлинских универсальных магазинов отбоя нет…
— Вероятно, сегодня как раз все отгрузили, нигде почему-то не видно готовой продукции.
Дидерих возмутился.
— Могу вам сказать, милостивый государь, что я только вчера разослал всем своим мелким заказчикам циркулярное письмо: до окончания переоборудования фабрики прием заказов прекращен.
Механик позвал их в цех. Новый патентованный голландер был наполовину загружен, и все-таки движение массы оказалось настолько слабым, что подсобный рабочий подталкивал ее мешалкой. Дидерих взглянул на часы.
— Ну вот. Вы утверждаете, что масса оборачивается в вашем голландере за двадцать — тридцать секунд, а я уже насчитал пятьдесят… Механик, спустите массу… Что там такое? Это тянется целую вечность!
Кинаст наклонился над чаном. Он выпрямился, он проницательно усмехнулся:
— Само собой, если вентили законопачены… — И пристально взглянув прямо в забегавшие глаза Дидериха: — А какие там еще фокусы проделаны с машиной, я наспех установить не могу.
Дидерих вспыхнул и густо покраснел:
— Это что — намек? Вы хотите сказать, что я с моим механиком…
— Я ничего не сказал, — решительно возразил Кинаст.
— Я заранее категорически протестую!
Дидерих сверкнул очами. На Кинаста это, по-видимому, не произвело никакого впечатления. Глаза его оставались холодными, он ехидно улыбался в расчесанную на две стороны бороду. Сбрей он бороду и закрути до самых глаз кончики усов, он походил бы на Дидериха, как родной брат. Это была сила! Тем внушительнее наступал на него Дидерих.
— Мой механик социал-демократ: смешно даже думать, что он захочет оказать мне услугу. А помимо того, я — офицер запаса. Помните, что подобные намеки чреваты последствиями.
Кинаст вышел во двор.
— Бросьте вы это, господин доктор! — холодно сказал он. — В делах я трезв, как уже докладывал вам за завтраком. Мне остается лишь повторить, что мы доставили вам голландер в безупречном виде и о возврате его нечего и думать.
— Посмотрим, — бросил Дидерих. — Бюшли и К0 считают, вероятно, что судебный процесс будет хорошей рекламой для новой машины? А в специальных журналах я еще особо отрекомендую ваш голландер!
Кинаст в ответ: шантажом его не запугаешь. Дидерих: невежу, которого даже на дуэль не вызовешь, попросту выставляют вон.
Вдруг в воротах показалась Магда. На ней был меховой жакет, который она получила к рождеству; она вся сияла розовыми улыбками.
— Вы все еще заняты, господа? — спросила она лукаво. — Погода чудесная, перед обедом хорошо прогуляться. Кстати, — продолжала она скороговоркой, — мама спрашивает, не отужинает ли с нами господин Кинаст?
Кинаст сказал, что благодарит, но, к сожалению, прийти не сможет. Она улыбнулась и произнесла настойчивей:
— А мне вы тоже откажете?
Кинаст горько усмехнулся:
— Я-то не отказал бы, но не знаю, как ваш уважаемый брат?..
Дидерих засопел, Магда взглянула на него с мольбой.
— Господин Кинаст, — выжал он из себя, — весьма буду рад. Быть может, мы все же поладим с вами.
Кинаст ответил, что он и сам не потерял надежды. Повернувшись к Магде, он галантно предложил сопровождать ее.
— Если брат не возражает, — сказала она скромно и не без иронии.
Дидерих и на это дал свое согласие, а потом с изумлением смотрел, как она выступает рядом с уполномоченным Бюшли и К0. Откуда только все это взялось?
Придя домой обедать, он услышал в гостиной сердитые голоса сестер. Эмми бранила Магду за непристойное поведение:
— Так же нельзя.
— Конечно! — кричала Магда. — Я забыла спросить у тебя разрешения!
— Не помешало бы. И вообще на очереди я.
— А, вот что тебя волнует! — Магда ядовито рассмеялась.
Вошел Дидерих, и она сразу замолчала. Дидерих грозно поводил очами. Но фрау Геслинг зря заламывала руки, прячась за спинами дочерей: он считал ниже своего достоинства вмешиваться в женскую свару.
За обедом говорили о госте. На взгляд фрау Геслинг, он производил впечатление солидного человека. Эмми прокомментировала: еще бы приказчику не быть солидным. Разговаривать с дамой он совершенно не умеет. Магда раздраженно возражала. И так как все ждали решающего слова Дидериха, он, после некоторого колебания, сказал: лоска ему, конечно, не хватает. Академическое образование, как ни вертись, ничем не восполнишь.
— Но что он прекрасный делец, в этом я убедился.
Эмми потеряла терпение.
— Если Магда собирается выйти за этого субъекта, то заявляю: больше я с вами ничего общего не имею. Он ест компот с ножа!
— Она сочиняет!
Магда зарыдала. Дидериху стало жаль ее. Он напустился на Эмми:
— Выходи, сделай милость, за наследного принца и оставь нас в покое.
Эмми положила нож и вилку и кинулась вон из комнаты. Вечером, перед самым закрытием фабрики, Кинаст явился к Дидериху в контору. Он облачился в сюртук и держался так, точно пришел на чашку чая, а не по делу. Оба, словно сговорившись, болтали о пустяках, пока старик Зетбир не убрал свои бумаги. Когда он удалился, бросив недоверчивый взгляд на хозяина и гостя, Дидерих сказал:
— Старик выдыхается. Наиболее важные дела я решаю сам.
— Ну, а насчет нашего дела что вы решили? — спросил Кинаст.
— А вы? — вопросом на вопрос ответил Дидерих.
Кинаст заговорщицки подмигнул:
— Мои полномочия не столь широки, но, так и быть, беру это на себя. Верните голландер на завод. Какой-нибудь изъян уж найдется.
Дидерих понял.
— Конечно, найдется, — пообещал он, — будьте покойны.
— За нашу уступчивость, — деловым тоном сказал Кинаст, — вы обязуетесь впредь все оборудование заказывать у нас. Минутку! — попросил он, увидев, что Дидерих так и взвился. — Кроме того, вы возмещаете нам расходы по доставке, плюс мои дорожные издержки — суммой в пятьсот марок, которую мы удержим из вашего задатка.
— Но, послушайте, это уже ростовщичество! — Чувство справедливости громко заговорило в Дидерихе. Однако Кинаст тоже повысил голос:
— Господин доктор…
Дидерих спохватился и овладел собой: он положил руку на плечо Кинасту:
— Теперь пойдемте наверх. Дамы ждут нас.
— В общем, договорились, — сказал Кинаст примирительно.
— Остались мелочи, все уладится, — пообещал Дидерих.
В квартире Геслингов носились праздничные ароматы. Фрау Геслинг блистала своим черным атласным платьем. Сквозь кружевную блузку Магды просвечивало больше, чем она имела обыкновение показывать в семейном кругу… Только у Эмми и платье и лицо были серыми и будничными. Магда указала гостю куда сесть и опустилась на стул по правую руку от него; не успели все как следует рассесться и откашляться, как она выпалила, подняв на гостя лихорадочно блестевшие глаза:
— Надеюсь, господа, что с вашими глупыми делами покончено?
Дидерих подтвердил, что они превосходно столковались. Бюшли и К0 весьма предупредительны.
— Вполне естественно, ведь предприятие-то гигантское, — пояснил доверенный. — Тысяча двести рабочих и служащих, целый городок, собственная гостиница для заказчиков! — Он пригласил Дидериха: — Приезжайте, поживете у нас с комфортом и без всяких издержек.
Увидев, с каким вниманием слушает его Магда, он наговорил с три короба о своей должности, о своих полномочиях, о вилле, где он пока занимает одну половину.
— Но как только женюсь, я получу и вторую.
Дидерих оглушительно захохотал:
— Чего же проще — женитесь! Ваше здоровье!
Магда потупилась, и Кинаст переменил тему. А понятно ли Дидериху, почему он так быстро пошел на уступки?
— Я по вас, господин доктор, сразу увидел, что впоследствии мы будем ворочать большими делами. Пока ваша фабрика еще очень скромно оборудована, но это ничего не значит, — покровительственно сказал он. Дидерих хотел заверить гостя в широте размаха и потенциальной мощи своего предприятия, но Кинаст пресек все попытки прервать ход его мысли. Знание людей, продолжал он, на этом он специализировался. Человека, с которым ведешь дела, надо прежде всего увидеть в его домашней обстановке. И если дом у него ведется так превосходно, как этот…
Тут на стол подали аппетитно пахнущего гуся; фрау Геслинг, которая тайком оглядывалась на дверь, с тревогой дожидаясь его, быстро придала своему лицу совершенно обыденное выражение, словно гусь у них не в диковинку. Тем не менее господин Кинаст сделал благоговейную паузу. Фрау Геслинг спрашивала себя, действительно ли взгляд гостя прикован к гусю, или же сквозь пряные пары устремлен на ажурную блузку Магды. Но вот господин Кинаст вышел из оцепенения и взял в руки бокал.
— Вот почему я поднимаю тост за семью Геслингов; за почтенную мать семейства, за ее цветущих дочерей.
Магда выгнула грудь, стараясь показать, как она пышно цветет. Эмми рядом с ней казалась совсем плоскогрудой. Кинаст чокнулся сначала с Магдой. Дидерих ответил на его тост.
— Мы, — сказал он, — немецкая семья. — Кого мы принимаем в свой дом, тому раскрываем свои сердца. — На глазах у него показались слезы, а Магда опять покраснела. — И пусть это скромный дом, но зато сердца — верные.
Он поднял стакан за гостя, и тот немедленно заверил, что всегда был сторонником скромности, особенно в семьях, где есть молодые девушки.
В разговор вступила фрау Геслинг.
— Вот именно! Иначе как же решиться молодому человеку… Мои дочери шьют себе все сами.
Эти слова дали повод Кинасту склониться над блузкой Магды, чтобы по достоинству ее оценить.
На десерт Магда очистила Кинасту апельсин и в его честь пригубила токайское. Когда переходили в гостиную, Дидерих, обняв за талии обеих сестер, остановился с ними на пороге.
— Да, да, господин Кинаст, — сказал он проникновенно. — Перед вами картина мирной семейной жизни, вглядитесь в нее хорошенько! — Магда приникла к его плечу с видом самозабвенной преданности. Эмми старалась вырваться, но ее ткнули кулаком в спину. — Так и проходит наша жизнь. Целый день я тружусь на благо сестер и матери, а вечером мы собираемся вокруг лампы. Посторонними людьми, так называемым обществом, этой кликой мы стараемся не интересоваться; нам достаточно того, что мы черпаем в самих себе.
Эмми, наконец, удалось высвободиться из нежных объятий; слышно было, как где-то в коридоре хлопнула дверь. Зато Дидерих и Магда, усаживаясь за стол, мягко поблескивающий серебром, являли собой трогательную картину. Кинаст мечтательным взором следил за фрау Геслинг, которая с кроткой улыбкой несла к столу огромную чашу с пуншем. Пока Магда наполняла гостю бокал, Дидерих разливался соловьем: он, мол, довольствуется этим тихим семейным уютом, но зато надеется дать за сестрами хорошее приданое.
— Мои деловые успехи — прямая выгода для сестер, ведь они совладелицы фабрики, не говоря уже о приданом наличными. А если один из моих будущих шурьев пожелает вложить капитал в дело, то…
Но Магда, увидев, что господин Кинаст озабоченно хмурится, перевела разговор. Она спросила, живет ли он в семье, с родными? Неужели он совсем одинок? Гость взглянул на нее растроганным взором и придвинулся поближе. Дидерих сидел рядом, пил и вертел большими пальцами. Время от времени он пытался вставить слово в разговор Магды и Кинаста, которые словно забыли о его присутствии.
— Свой год военной службы вы, разумеется, уже благополучно отбыли? — покровительственно спросил он, с удивлением поглядывая на фрау Геслинг, которая делала ему за спиной гостя и Магды какие-то знаки. Наконец она незаметно выскользнула за дверь, и только тогда Дидерих понял. Захватив свой бокал с пуншем, он направился в соседнюю неосвещенную комнату, где стояло пианино. Он взял несколько аккордов, сам того не замечая, заиграл студенческую песню и во все горло запел: «Черта с два они знают, что свободой зовется». Кончив, он прислушался к тому, что делается рядом: там было так тихо, точно все заснули; и как ему ни хотелось налить себе еще пуншу, сознание долга пересилило, и он затянул новую песню: «Сижу в глубоком погребке…»
Только он дошел до середины куплета, как в гостиной упал стул и вслед за этим раздался звук, происхождение которого было вполне ясно Дидериху. Он бросился в гостиную.
— Ого! — простодушно крякнул он. — У вас, как видно, серьезные намерения.
Кинаст и Магда отстранились друг от друга.
— Я не говорю — нет, — сказал Кинаст.
Дидерих вдруг сильно взволновался. Глядя в глаза Кинасту, он одной рукой тряс его руку, другой привлекал к себе Магду.
— Вот это сюрприз! Господин Кинаст, сделайте же мою сестренку счастливой! Во мне вы найдете доброго брата, каким я всегда и был. Думаю, я вправе это сказать. — И, утирая глаза, он крикнул в дверь: — Мама, у нас событие!
Фрау Геслинг почему-то оказалась тут же, за дверью, но в первую минуту от полноты чувств не сразу совладала с подкосившимися ногами. Опираясь на Дидериха, она кое-как вошла, упала Кинасту на грудь и разразилась потоком слез. Дидерих тем временем стучался к Эмми: дверь оказалась запертой на ключ.
— Выйди, Эмми, у нас событие!
Наконец она рывком распахнула дверь, вся красная от злости.
— Чего ради ты поднимаешь меня с постели? Представляю себе, что это за событие! Уж меня-то, пожалуйста, избавьте от ваших непристойностей!
И она захлопнула бы дверь, если бы Дидерих не вставил ногу в щель. Он сурово отчитал Эмми, сказал, что за такое бессердечие она навек останется старой девой, и поделом. Он не дал ей даже одеться, и как она была, в ночной кофте и с распущенными волосами, поволок за собой. В коридоре она вырвалась от него.
— Ты делаешь из нас посмешище, — прошипела она и вошла в гостиную первая, высоко вскинув голову, меряя обрученных насмешливым взглядом. — Неужели нельзя было подождать до утра? — спросила она. — Впрочем, счастливые часов не наблюдают.
Кинаст поглядел на нее: ростом она была выше Магды, и порозовевшее лицо ее, обрамленное распущенными волосами, длинными и пышными, казалось теперь полнее. Кинаст задержал ее руку в своей дольше, чем полагалось; она ее выдернула, и он, явно колеблясь, перевел взгляд на Магду. Эмми метнула в сестру победную улыбку, повернулась и, расправив плечи, быстро вышла. Магда испуганно уцепилась за руку Кинаста, но в это время подошел Дидерих с полным бокалом пунша и предложил своему будущему шурину выпить на брудершафт.
Утром он зашел за Кинастом в гостиницу и пригласил его распить вместе утреннюю кружку пива.
— До обеда, будь любезен, умерь свою тоску по «вечно женственному». Нам предстоит чисто мужской разговор.
В пивной Клапша Дидерих разъяснил Кинасту, как обстоит дело. Двадцать пять тысяч наличными в день свадьбы — с документами можно в любое время ознакомиться — и пополам с Эмми четверть прибылей с фабрики.
— Следовательно, только одна восьмая, — уточнил Кинаст.
— А ты что же, хотел, чтобы я даром жилы из себя тянул?
Оба недовольно помолчали.
Дидерих попытался подогреть остывшие чувства.
— За твое здоровье, Фридрих!
— За твое, Дидерих! — ответил Кинаст.
Вдруг Дидериха осенила блестящая идея.
— Ты имеешь полную возможность расширить свою долю — вложи капитал. Ведь у тебя, надо думать, немалые сбережения? При твоем-то великолепном окладе!
Кинаст заявил, что в принципе не возражает. Но срок его договора с Бюшли и К0 еще не истек. А кроме того, ему пообещали в этом году значительно повысить жалованье, и было бы преступлением против самого себя заявить теперь об уходе.
— Если же я вложу деньги в предприятие, я должен войти в него компаньоном. При всем доверии, которое я питаю к тебе, дорогой Дидерих…
Дидерих согласился с ним. У Кинаста была своя идея:
— Округлил бы ты цифру приданого до пятидесяти тысяч, и тогда Магда отказалась бы от своей доли.
Однако Дидерих решительно отклонил предложение будущего шурина.
— Это было бы нарушением воли покойного отца, а она для меня священна. При моем размахе доля Магды через каких-нибудь два-три года в десять раз превысит сумму, которую ты сейчас требуешь. Я никогда не соглашусь с тем, что может оказаться убыточным для моей бедной сестренки!
Кинаст скептически ухмыльнулся. Родственные чувства Дидериха, сказал он, разумеется, делают ему честь, но на одном размахе далеко не уедешь. Дидерих с нескрываемым раздражением заявил, что он, слава богу, ни перед кем, кроме господа и самого себя, не обязан держать ответ.
— Двадцать пять тысяч наличными и одна восьмая чистой прибыли, это все.
Кинаст побарабанил пальцами по столу.
— Не знаю, решусь ли я в таком случае взять за себя твою сестру, — сказал он. — Последнее слово я оставляю за собой.
Дидерих пожал плечами. Допили пиво. Кинаст отправился обедать вместе с Дидерихом, который уже опасался, не улизнет ли он. К счастью, Магда приняла все меры, чтобы казаться еще обольстительнее, чем вчера, «будто знала, что сегодня все решится», — подумал Дидерих, глядя на нее с изумлением. К тому времени, когда подали пирожное, она так распалила Кинаста, что он пожелал отпраздновать свадьбу не далее, как через месяц.
— Это твое последнее слово? — спросил, поддразнивая, Дидерих.
Вместо ответа Кинаст вынул из кармана обручальные кольца.
После обеда фрау Геслинг на цыпочках вышла из комнаты, где сидели жених с невестой, Дидерих тоже хотел удалиться, но обрученные решили пойти погулять и пригласили его с собой.
— Куда же мы направимся? А что мама и Эмми?
Эмми отказалась пойти с ними, поэтому и фрау Геслинг осталась дома.
— Пойдем, Дидель, иначе, знаешь, как-то некрасиво будет, — сказала Магда.
Дидерих согласился с ней. Он даже стряхнул пыль, приставшую к ее меховому жакету, когда она заходила на фабрику. Он проникся к Магде уважением, — ведь она одержала победу.
Прежде всего они направились к ратуше. Пусть на них поглазеют, это не мешает, не так ли? Правда, первый, кто попался им навстречу еще на Мейзештрассе, был всего лишь Наполеон Фишер. Он оскалил зубы, приветствуя жениха и невесту, и кивнул Дидериху, как бы говоря, что ему все ясно! Дидерих густо покраснел: остановить бы этого субъекта и тут же, на улице, задать ему хорошую взбучку, — но мог ли он позволить себе это? «Какая оплошность, что я связался с ним, с коварным пролетарием, доверился ему! И так все обошлось бы! Теперь он все время вертится здесь, старается напомнить, что я у него в руках! Еще и шантажировать вздумает». Но, слава богу, он, Дидерих, договаривался с механиком без свидетелей, и пусть Наполеон Фишер болтает что угодно, — все можно объявить клеветой. Дидерих посадит его за решетку! Но он так ненавидел механика за сообщничество, что, несмотря на двадцатиградусный мороз, его бросило в жар и в пот. Он оглянулся по сторонам. Неужели на голову Наполеона Фишера ниоткуда не свалится кирпич?
На Герихтсштрассе Магда решила, что их прогулка уже оправдала себя — у одного из окон в доме члена суда Гарниша стояли Мета Гарниш и Инга Тиц. Магда не сомневалась, что при виде Кинаста лица у обеих беспокойно вытянулись. На Кайзер-Вильгельмштрассе, к сожалению, ничего интересного не случилось, разве что майор Кунце и Гейтейфель, направлявшиеся в «Гармонию», издали проследили за ними любопытным взглядом. Зато на углу Швейнихенштрассе произошла совершенно неожиданная для Дидериха встреча: впереди, в нескольких шагах от них, шли фрау Даймхен и Густа. Магда тотчас же прибавила шагу и принялась болтать еще оживленнее. Расчет оказался точным. Густа оглянулась. Это был превосходный случай сказать:
— Фрау Даймхен, позвольте вам представить моего жениха господина Кинаста.
Жениха осмотрели с ног до головы; по-видимому, он понравился, так как Густа, которая шла с Дидерихом позади, не без почтительности спросила:
— Где вы его откопали?
— Не всякой посчастливится, как вам, найти своего суженого рядом, под рукой, так сказать, — отшутился Дидерих. — Зато наш посолидней.
— Вы опять за свое? — воскликнула Густа, впрочем без запальчивости. Их взгляды на мгновение встретились, и она слегка вздохнула. — Мой Вольфганг бог весть где носится. Чувствуешь себя словно вдова какая.
Она задумчиво посмотрела на Магду, шедшую впереди под руку с Кинастом.
— О мертвых нечего горевать, — многозначительно сказал Дидерих, — займитесь лучше живыми.
Он наступал на Густу, оттесняя ее чуть ли не к стенам домов и настойчиво заглядывая в глаза. И вот на какой-то миг в этом милом пухлом лице что-то раскрылось ему навстречу.
К сожалению, перед ними уже высился дом номер 77 по Швейнихенштрассе; мать и дочь попрощались и скрылись в подъезде. За Саксонскими воротами уже ничего привлекательного не было. Повернули обратно. Магде захотелось подбодрить Дидериха. Опираясь на руку жениха, она сказала:
— Ну, что ты думаешь на этот счет?
Дидерих вспыхнул и засопел.
— Что уж тут думать! — пробормотал он, и Магда рассмеялась.
По безлюдной улице, в сгущающихся сумерках, кто-то шел им навстречу.
— Уж не Бук ли это? — нерешительно спросил Дидерих.
Человек приближался: толстый, несомненно молодой, в мягкой широкополой шляпе, одетый не без изящества. Он загребал на ходу ногами.
— И в самом деле Вольфганг Бук! — Дидерих был разочарован: «А послушать Густу, так он на краю света. Я ее отучу лгать».
— Ах, это вы! — Бук крепко пожал руку Дидериху. — Очень рад!
— И я также, — ответил Дидерих, досадуя на Густу, и познакомил своего будущего шурина со старым школьным товарищем. Бук принес свои поздравления и, присоединившись к Дидериху, пошел за четой обрученных.
— Вы, вероятно, направляетесь к невесте? — спросил Дидерих. — Она дома. Мы только что проводили ее.
— Да? — протянул Бук и пожал плечами. — К ней я всегда успею, — прибавил он флегматично. — А сейчас я рад, что мы с вами снова встретились. Наша беседа в Берлине, — единственная беседа, — была крайне интересной.
Дидериху и самому так казалось, хотя в свое время этот разговор вызвал у него только раздражение. Он необычайно оживился:
— Я очень виноват перед вами — так и не ответил на ваш визит. Но кому-кому, а вам-то хорошо известно, что в Берлине всегда что-нибудь да помешает. Здесь, конечно, времени сколько угодно! Тоска, верно? Неужели можно прожить здесь всю жизнь? Трудно себе представить, право! — Дидерих показал рукой на серый ряд домов.
Вольфганг Бук наморщил слегка изогнутый нос, втянул воздух и пошевелил губами, как бы пробуя его на вкус. Взгляду он придал глубоко задумчивое выражение.
— Прожить жизнь в Нетциге… — медленно проговорил он. — Да, этого нам не миновать. Наш брат не в состоянии обеспечить себе жизнь, достаточно богатую сенсациями. Впрочем, они и здесь бывают. — Его улыбка насторожила Дидериха. — Сенсация с часовым достигла весьма высоких сфер.
— Ах, так… — Дидерих выпятил живот. — Вы опять брюзжите. Предупреждаю, что в этом деле я целиком на стороне его величества.
Бук махнул рукой.
— Оставьте. Знаю я его.
— А я еще лучше вас, — настаивал Дидерих. — Кому довелось во время февральских беспорядков оказаться с ним в Тиргартене один на один, кому довелось видеть эти сверкающие очи, очи великого Фридриха, тот — я глубоко убежден в этом — верит в наше будущее.
— Верит в наше будущее… потому что сверкали очи… — Уголки губ и щеки у Вольфганга меланхолически опустились. Дидерих громко сопел.
— Знаю, знаю, вы отрицаете выдающуюся роль личности в наше время. Иначе вы стали бы Лассалем или Бисмарком.
— А что же — мог бы! Не сомневаюсь. С таким же успехом, как и он… Хотя и не в столь благоприятной обстановке. — Голос его окреп, в нем зазвучала убежденность. — Для каждого из нас не так уж важно многое перестроить в этом мире, главное — выработать в себе жизнеощущение, будто ты это действительно делаешь. Для этого необходим талант, а талант у него есть.
Дидерих беспокойно озирался по сторонам.
— Мы, правда, здесь одни, эта пара занята обсуждением более важных дел, но все же, право…
— Напрасно вы думаете, что я имею что-либо против него. Да он, уверяю вас, антипатичен мне не более, чем я сам себе. Будь я на его месте, я точно так же, как он, принял бы всерьез ефрейтора Люка и нашего нетцигского часового. Власть не власть, если у нее нет врагов. Только и чувствуешь свою силу, когда против тебя бунтуют. Что стало бы с ним, если бы выяснилось, что социал-демократия вовсе не в него метит, что в самом крайнем случае она имеет в виду более разумное распределение доходов?
— Ого! — воскликнул Дидерих.
— Верно ведь? Это вас возмутило бы. И его тоже. Стоять вне течения событий, не управлять ходом вещей, а быть лишь одним из звеньев общей цепи, — да можно ли такое стерпеть?.. Сознавать себя неограниченным самодержцем — и в то же время не быть в состоянии даже ненависть возбудить чем-либо иным, кроме слов и жестов. Ибо что дает пищу зоилам? Что особенного произошло? Ведь и дело Люка только жест. Рука опустилась, и опять все, как было: но и актер и публика получили сильное ощущение. Вот чего, собственно, все мы жаждем, дорогой мой Геслинг. Поверьте, тот, кого мы имеем в виду, сам был бы изумлен больше всех, если бы война, призрак которой он непрерывно призывает, или революция, которую он столько раз мысленно пережил, стали бы действительностью.
— Этого не придется долго ждать! — воскликнул Дидерих. — И вы увидите, что все истинные немцы верой и правдой постоят за своего кайзера.
— Разумеется. — Бук все чаще пожимал плечами. — Вот стереотипная фраза, продиктованная им самим. Вы употребляете слова, которые он вам диктует, а образ мыслей никогда так превосходно не был отрегулирован сверху, как сейчас. Но деяния? Наше время, милейший мой современник, отличается неспособностью к деяниям. Для того чтобы много пережить, надо прежде всего жить, а всякое деяние сопряжено с риском для жизни.
Дидерих выпрямился.
— Вы собираетесь, быть может, свой упрек в трусости бросить по адресу?
— Я не выносил никакого морального приговора. Я говорил лишь о факте из истории Германии нашего времени, касающемся всех нас. Впрочем, мы заслуживаем снисхождения. Тот, кто действует на сцене, в жизни уже не действует, ибо свою действенность он изжил там. Чего в самом деле требует от него действительность? А знаете ли вы, кого история назовет типичным героем нашего времени?
— Кайзера, — сказал Дидерих.
— Нет, — сказал Бук. — Актера.
Дидерих ответил таким взрывом хохота, что шедшие впереди жених и невеста отскочили друг от друга и оглянулись. Но здесь, на середине Театральной площади, бушевал ледяной ветер, и все поспешили дальше.
— Ну, конечно же, — выговорил, наконец, Дидерих. — Удивительно, как это я сразу не сообразил, откуда у вас вся эта несусветная чушь! Ведь вы тесно связаны с театром. — Он похлопал Бука по плечу. — Сами-то вы еще не заделались актером?
В глазах у Бука вспыхнул неспокойный огонек: резким движением он сбросил с плеча руку Дидериха, и тот даже решил, что это не по-товарищески.
— Я? Нет, не стал, — ответил Бук. В сердитом молчании дошли до Герихтсштрассе. И только тут он возобновил разговор:
— Да, вы, конечно, еще не знаете, что привело меня в Нетциг.
— Вероятно, желание повидать свою невесту.
— Разумеется, и это. Но, главное — я взял на себя защиту своего шурина Лауэра.
— Вы выступаете?.. В процессе Лауэра? — У Дидериха перехватило дыхание, он стал как вкопанный.
— Ну, да, выступаю, — сказал Бук и пожал плечами. — Вас это удивляет? Я недавно внесен нетцигским судом в списки адвокатов. Вам отец не говорил?
— Я теперь редко вижу вашего почтенного батюшку… Я почти нигде не бываю. Мои обязанности по фабрике… Эта помолвка… — невнятно бормотал Дидерих. — Тогда, значит, вы часто… Или вы уже совсем сюда переехали?
— Временно, надеюсь.
Дидерих овладел собой.
— Признаться, я не всегда понимал вас. А теперь и вовсе перестал понимать. Вы гуляете со мной по Нетцигу…
Бук, прищурившись, посмотрел на него:
— Хотя я завтра выступаю защитником на процессе, где вы являетесь главным свидетелем обвинения? Да ведь это чистая случайность. Могло быть и наоборот: все зависит от распределения ролей.
— Благодарю покорно! — вскипел Дидерих. — Каждый занимает свое место. Если вы не питаете никакого уважения к своей профессии, то…
— Уважения? Что это значит? Я с радостью взял на себя защиту, не отрицаю. Вот уж отведу душу, об этом долго буду помнить. В ваш адрес, господин доктор, наговорю кучу неприятных вещей. Не взыщите, мне это нужно для эффекта.
Дидериху стало страшно.
— Позвольте, господин адвокат, как же так? Разве вам известны мои показания? Они не так уж неблагоприятны для господина Лауэра.
— Это уж мое дело! — На лице Бука появилось ироническое выражение, не сулившее ничего хорошего.
Так вышли на Мейзештрассе. «Процесс!» — думал, громко сопя, Дидерих. В сутолоке последних дней он совсем о нем забыл, а теперь его обуял такой страх, точно завтра ему предстояла ампутация обеих ног. Густа — притворщица, дрянь, с умыслом, значит, ничего не сказала, пусть, мол, в последний момент его ошарашит. Он простился с Буком, не доходя до дома. Только бы Кинаст ничего не заметил! Бук предложил зайти куда-нибудь в пивную, посидеть.
— Вас, по-видимому, не очень-то тянет к вашей невесте? — сказал Дидерих.
— В настоящую минуту меня больше прельщает рюмка коньяку.
Дидерих язвительно засмеялся:
— Она, кажется, всегда вас прельщает. — Из опасения, как бы Кинаст не заподозрил недоброе, он пошел провожать Бука.
— Видите ли, моя невеста, — неожиданно заговорил Бук, — это тоже один из вопросов, которые я ставлю судьбе.
— Как вас понять? — спросил Дидерих, и Бук продолжал:
— Если я останусь в Нетциге, то Густа Даймхен вполне на своем месте. Но кто знает? Мало ли какие обстоятельства могут вторгнуться в мою жизнь. Вот на этот случай у меня есть в Берлине другая связь…
— Я слышал: актриса! — Дидерих покраснел за Бука, который с таким цинизмом признавался в этом. — Простите, — пробормотал он, запинаясь, — я ничего такого не думал.
— Значит, вам это известно, — заключил Бук. — Ну, так вот. Я там еще не свободен, а потому не могу уделять Густе столько внимания, сколько следовало бы. Не примете ли вы участие в этой славной девушке? — спокойно, почти наивно спросил он.
— Чтобы я…
— Так сказать, немножко помешивать варево, которое стоит у меня на огне… Пока я не развяжусь там. Ведь мы питаем друг к другу симпатии.
— Благодарю, — холодно сказал Дидерих. — Так далеко во всяком случае мои симпатии к вам не идут. Поручите это кому-нибудь другому. Я все-таки серьезнее отношусь к жизни.
И он, не простившись, ушел.
Помимо отсутствия моральных устоев, Дидериха возмущала в этом человеке его беспринципная фамильярность, и это после того, как сию минуту вновь подтвердилось, что они и по убеждениям и по образу жизни противники. Как несносны подобные люди, в них ни черта не поймешь! «Какой же сюрприз он мне готовит?»
Дома он дал волю своему раздражению.
— Не человек, а медуза. А самомнение! Сохрани бог нашу семью от подобной все разъедающей беспринципности. Это симптом вырождения!
Ему сообщили, что Кинаст вечером уезжает.
— Не жди в письмах от Магды каких-нибудь потрясающих новостей, — неожиданно сказал он Кинасту и рассмеялся. — Весь город может ходуном ходить, я дальше своей конторы и дома — ни шагу.
Но едва Кинаст вышел за дверь, как Дидерих остановился перед фрау Геслинг:
— Ну? Где повестка из суда?
Ей пришлось сознаться, что она спрятала зловещее письмо.
— Я не хотела, чтобы оно испортило тебе праздничное настроение, дорогой мой сын.
Но он не желал никаких подслащиваний!
— Заладила одно: дорогой сын, дорогой сын. А что стол становится все хуже за исключением тех дней, когда бывают гости, — это тоже из любви ко мне? Деньги, которые я даю на хозяйство, идут на ваши тряпки. Думаете, я поверю, будто Магда сама пошила кружевную блузку? Как бы не так! Надо быть ослом, чтобы поверить этой басне. — Магда возмутилась: с какой стати он оскорбляет ее жениха, но Дидерих оборвал ее: — Помалкивай лучше! Твой меховой жакет тоже наполовину краденый. Вы в сговоре со служанкой. Когда я посылаю ее за вином, она норовит купить какое подешевле, а сдачу отдает вам.
Все три женщины пришли в ужас, отчего он только еще больше расшумелся. Эмми сказала, что понимает, почему он так бесится: завтра он осрамится на весь город. Дидерих в ответ схватил со стола тарелку и швырнул ее об пол. Магда встала, пошла к двери и на пороге обернулась:
— Какое счастье, что я в тебе больше не нуждаюсь!
Дидерих подскочил к ней:
— Думай, пожалуйста, о чем говоришь! Если ты, наконец, выйдешь замуж, то лишь благодаря моей самоотверженности! Твой жених торговался из-за приданого до непристойности. Ты, вообще говоря, только бесплатное приложение!
Внезапно он почувствовал ожог от звонкой пощечины и не успел опомниться, как Магда уже заперлась в своей комнате. Дидерих, сразу замолчав, тер щеку. Он, правда, побушевал еще немного, но чувство удовлетворения одержало верх. Кризис миновал.
Ночью он твердо решил явиться в суд с опозданием и всем своим поведением подчеркнуть, как мало его касается вся эта история. Но дома усидеть не мог, и когда он вошел в зал заседаний, там еще слушалось чье-то дело. Ядассон, грозный в своей черной мантии, требовал для какого-то подростка из простонародья двух лет заключения в исправительном доме. Суд приговорил парнишку только к году, но юный преступник так завыл, что Дидериху, который сам был напуган и подавлен, сделалось дурно от жалости. Он вышел из зала и кинулся в уборную, хотя на дверях висела табличка: «Только для господина председателя». Вслед за ним туда вошел Ядассон. Увидев Дидериха, он хотел было улизнуть, но Дидерих спросил, что значит исправительный дом и что в нем делают заключенные.
— Нам только и заботы, что об этом думать! — бросил Ядассон на ходу и вышел.
Дидерих весь сжался от ощущения глубокой пропасти, которая легла между Ядассоном, представлявшим здесь власть, и им, Дидерихом, дерзнувшим слишком близко подойти к ее машине. Руководили им самые лучшие намерения, высочайшее почитание власти, но не все ли равно? Теперь держи ухо востро, иначе очутишься между ее жерновами и тебя разотрут в порошок; надо втянуть голову в плечи и быть тише воды ниже травы, может как-нибудь удастся унести отсюда ноги. Эх, уйти бы опять в скорлупу своей частной жизни. Он давал себе слово отныне жить только во имя собственных незначительных, но разумных интересов.
В коридорах уже толпилась публика: и кто попроще и цвет общества. Пять сестер Бук, расфуфыренные в пух и прах, точно судебный процесс их свояка Лауэра составлял величайшую честь для семьи, без умолку болтали с Кетхен Циллих, ее матерью и супругой бургомистра Шеффельвейса. Теща бургомистра не отпускала его от себя, и по взглядам, которые она бросала на брата старого Бука и его друзей Гейтейфеля и Кона, видно было, что она старается восстановить бургомистра против Буков. Майор Кунце, в полной форме, с мрачной физиономией стоял рядом, но воздерживался от каких бы то ни было высказываний. Вот появились пастор Циллих и учитель Кюнхен; однако, увидев столь многолюдное общество, они остановились за колонной. Редактор Нотгрошен, серенький и невидный, переходил от группы к группе. Тщетно искал Дидерих, к кому бы примкнуть, и уже раскаивался, что запретил своим прийти. Он прятался за поворотом коридора и только осторожно высовывал из-за угла голову. Вдруг он попятился: Густа Даймхен с матерью! Густу тотчас окружили сестры Бук, для их лагеря это было прекрасное подкрепление. Одновременно в глубине коридора открылась дверь, и оттуда вышел Вольфганг Бук в берете и в мантии; из-под мантии виднелись только лаковые штиблеты. Сегодня Бук как-то особенно заметно загребал ногами. Он празднично улыбался, точно на каком-нибудь приеме, со всеми поздоровался, а невесте поцеловал руку. О, это будет увлекательно, — сулил он. Прокурор, да и сам он сегодня в ударе. Затем он отошел к свидетелям защиты и шепотом посовещался с ними. Неожиданно все смолкло: в дверях показались обвиняемый Лауэр и его жена. Супруга бургомистра кинулась ей на шею: до чего же она, фрау Лауэр, мужественна!
— А что тут особенного? — откликнулась та низким звучным голосом. — Нам не в чем упрекнуть себя, верно ведь, Карл?
— Конечно, не в чем, Юдифь.
В эту минуту мимо прошел член суда Фрицше. Наступило молчание; когда он раскланялся с дочерью старого Бука, все вокруг переглянулись, а теща бургомистра вполголоса обронила замечание; правда, по выражению ее глаз нетрудно было догадаться, что она сказала.
Дидериха, хотя он и старался держаться в тени, отыскал Вольфганг Бук и подвел к сестре:
— Дорогая Юдифь, разреши тебе представить, если ты еще не знакома, нашего уважаемого противника, господина доктора Геслинга. Сегодня он нас изничтожит.
Но фрау Лауэр не улыбнулась, она и на поклон Дидериха не ответила, лишь взглянула на него с беспощадным любопытством. Трудно было выдержать этот сумрачный взгляд, тем труднее, что она была так изумительно хороша. Дидерих почувствовал, как прихлынула к лицу жаркая волна крови, глаза его забегали, он забормотал:
— Господин адвокат изволит шутить, конечно… Вообще… Все это одно недоразумение.
Но тут брови на белоснежном лице сдвинулись, углы рта выразительно опустились, и Юдифь Лауэр показала Дидериху спину.
Появился судебный пристав; Вольфганг Бук вместе со своим шурином Лауэром направился в зал заседаний, и так как двери не были распахнуты настежь, а все устремились вперед, у входа возникла давка; сливки общества оттеснили публику попроще. Нижние юбки всех пяти сестер Бук ожесточенно шуршали во время сражения. Дидерих попал в зал суда последним и на скамье свидетелей оказался рядом с майором Кунце; тот немедленно резко отодвинулся. Председатель Шпрециус, похожий на облезлого коршуна, объявил со своего возвышения заседание открытым и, вызвав свидетелей, напомнил им о святости присяги; лицо Дидериха сразу же стало таким, каким бывало в детстве, на уроках закона божия. Член суда Гарниш возился с папками и глазами искал среди публики свою дочь. Особый интерес вызывал к себе старый член суда Кюлеман, вставший с одра болезни; он занял место по левую руку от председателя. Говорили, что он уже не жилец на этом свете, теща бургомистра слышала из достоверных источников, будто он решил сложить с себя депутатские полномочия… А что будет с несметным богатством Кюлемана после его смерти? Циллих, сидевший на скамье свидетелей, поделился с соседями надеждой, что старик завещает свои миллионы на постройку церкви, а учитель Кюнхен пронзительным шепотом выразил на этот счет свои сомнения:
— Он и после смерти никому ничего не даст, он всю жизнь только и делал, что свое держал в кулаке, а по возможности и чужое прихватывал…
Тут председатель попросил свидетелей удалиться из зала.
Они собрались в коридоре — специальной комнаты для свидетелей не было. Гейтейфель, Кон и Бук-младший уединились в оконной нише; Дидерих под злобным взглядом майора Кунце думал в страхе: «Теперь допрашивают подсудимого. Знать бы, что он говорит. Я обелил бы его с неменьшим удовольствием, чем вы все». Тщетно старался он уверить пастора Циллиха, что не желает никому зла; он, мол, с самого начала говорил, что дело это раздули. Циллих смущенно отворачивался, а Кюнхен, убегая, просвистел сквозь зубы:
— Погоди, сокровище мое, мы тебе коготки пообломаем.
Общее молчаливое осуждение тяжело нависло над Дидерихом. Наконец появился судебный пристав:
— Доктор Геслинг!
Дидерих подтянулся, чтобы пройти мимо присутствующих, не роняя своего достоинства. Чувствуя на себе взгляд фрау Лауэр, он судорожно смотрел прямо перед собой и громко сопел; его чуть-чуть пошатывало. Слева, рядом с присяжным заседателем, который разглядывал свои ногти, стоял, грозно выпрямившись, Ядассон. Позади него находилось окно, и на свету оттопыренные уши прокурора алели, как кровь, а лицо выражало такое безоговорочное требование рабской покорности, что Дидерих старался не смотреть в его сторону. Справа, перед обвиняемым, только несколько ниже, Дидерих увидел Вольфганга Бука. Отбросив назад полы своей мантии и упершись кулаками в жирные ляжки, он сидел в небрежной и спокойной позе: лицо его дышало таким умом и задором, точно это был сам дух света. Председатель суда Шпрециус предложил Дидериху повторять за ним слова присяги и произносил не больше двух слов зараз, снисходительно глядя на свидетеля. Дидерих послушно принес присягу; затем его попросили описать все, что произошло в тот вечер в ресторане.
— Мы сидели веселой компанией, — начал он, — а напротив сидели господа, которые тоже…
Он сразу же замялся, и в публике послышался смех. Шпрециус вскинулся, долбанул воздух своим хищным клювом и пригрозил очистить зал.
— Это все, что вы можете сказать? — раздраженно спросил он.
Дидерих попросил учесть, что события того вечера, оттесненные последующими деловыми и прочими волнениями, несколько стерлись в его памяти.
— В таком случае я прочту показания, которые вы давали следователю, это подстегнет вашу память. — И председатель приказал подать протокол.
Из протокола Дидерих к досаде и к удивлению своему увидел, что, давая показания следователю Фрицше, он недвусмысленно заявил, будто бы подсудимый произнес слова, глубоко оскорбительные для его величества кайзера… Что скажет на это доктор Геслинг?
— Возможно, что и так, — пробормотал Дидерих, — но там сидела целая компания, и сказал ли это именно подсудимый…
Шпрециус весь подался вперед.
— Подумайте! И не забывайте, что вы давали присягу. Другие свидетели покажут, что не кто другой, а именно вы подошли к обвиняемому и только с ним вели упомянутый разговор…
— Разве это был я? — спросил Дидерих, заливаясь густой краской.
Тут уж весь зал разразился неудержимым хохотом, даже Ядассон скривил губы в пренебрежительной ухмылке. Шпрециус уже открыл было рот, собираясь одернуть публику, но в эту минуту встал Вольфганг Бук. Зримым усилием воли он придал мягким чертам своего лица энергичное выражение.
— В этот вечер вы были, вероятно, в подпитии? — спросил он Дидериха.
Тотчас же на него обрушились и прокурор и председатель.
— Прошу отклонить этот вопрос! — визгливо крикнул Ядассон.
— Господин защитник, с вопросами вы можете адресоваться только ко мне, — прохрипел председатель. — А задам ли я их затем свидетелю, это мое дело.
Но прокурор и председатель, — как с изумлением отметил Дидерих, — натолкнулись на стойкого противника. Вольфганг Бук не сел; звучным ораторским голосом он опротестовал поведение председателя, посягающего на права защиты, и потребовал, чтобы суд вынес решение: предоставляет ли существующий порядок судопроизводства право защитнику обращаться с вопросами непосредственно к свидетелю. Тщетно долбил своим клювом Шпрециус; ему не оставалось ничего другого, как вместе с остальными четырьмя судьями удалиться в совещательную комнату. Бук победоносным взглядом окинул зал: все его пять кузин сложили руки так, точно собирались аплодировать. Но и отец его уже был в зале; многие заметили, как старик Бук знаком выразил сыну неодобрение. А обвиняемый повернул к защитнику разгоряченное гневом, апоплексического склада лицо и пожал ему руку. Дидерих, стоявший на виду у всех, силился не потерять самообладания и оглядывал публику. Но увы! Густа Даймхен старалась не встречаться с ним взглядом. Один лишь старик Бук доброжелательно кивнул ему: показания Дидериха ему понравились. Он даже выбрался из тесно заставленной скамьями трибуны и протянул Дидериху свою мягкую белую руку.
— Благодарю вас, милый друг, — сказал он. — Вы правильно подошли к делу.
И всеми покинутый Дидерих почувствовал, как глаза его увлажнились: так тронула его доброта этого великого человека. Лишь когда старик направился к своему месту, Дидериху пришло в голову, что ведь он, Дидерих, льет воду на мельницу Бука! И Вольфганг Бук тоже отнюдь не такой простофиля, каким казался. Очевидно, он вел с Дидерихом политические разговоры только затем, чтобы теперь использовать их против него. Верность, истинно немецкая верность, где она? Ее не существует на свете, ни на кого нельзя положиться. «Долго еще они будут пялиться на меня?»
К счастью, суд вернулся. Старик Кюлеман обменялся сочувственным взглядом со стариком Буком, и Шпрециус, явно стараясь сдержать себя, зачитал решение. Дано ли защитнику право задавать вопросы непосредственно свидетелю — осталось невыясненным, так как самый вопрос, был ли свидетель в тот вечер пьян, отклонен, как не имеющий отношения к делу. Вслед за тем председатель спросил Ядассона, нет ли у него вопросов к свидетелю.
— Пока нет, — с брезгливой миной молвил Ядассон, — но предлагаю временно свидетеля из зала не удалять. — И Дидериху разрешено было сесть. Ядассон повысил голос: — Кроме того, ходатайствую о немедленном вызове следователя Фрицше; я попрошу его сообщить, какую позицию по отношению к обвиняемому занимал раньше доктор Геслинг.
Дидерих испугался; на местах для публики все повернулись к Юдифи Лауэр: даже оба заседателя, сидевшие за судейским столом, вперили в нее взоры. Ходатайство Ядассона было удовлетворено.
Вызвали пастора Циллиха, привели к присяге и потребовали показаний о фатальной ночи. Он заявил, что тогда на него нахлынуло слишком много впечатлений, а кроме того, его христианская совесть была сильно омрачена, ибо в тот день, пусть даже из верноподданнических чувств, на улицах Нетцига была пролита кровь.
— К делу не относится! — определил Шпрециус.
В эту минуту в зал вошел Регирунгспрезидент фон Вулков, в охотничьем костюме и в высоких облепленных грязью сапогах. Все оглянулись, председатель, сидя в своем кресле, отвесил поклон, а пастора Циллиха кинуло в дрожь. Председатель и прокурор наперебой наскакивали на него, Ядассон даже сказал с ужасающим ехидством:
— Полагаю, господин пастор, что нет особой надобности указывать вам, как духовному лицу, на святость присяги.
Это доконало Циллиха, и он признал, что слова, которые инкриминируются обвиняемому, он во всяком случае слышал. Обвиняемый вскочил и стукнул кулаком по скамье.
— Я не произносил имени кайзера! Я еще из ума не выжил!
Защитник кивком головы успокоил его и сказал:
— Мы докажем, что только провокационные вопросы свидетеля доктора Геслинга побудили обвиняемого произнести те слова, которые фигурируют в деле в искаженном виде. А сейчас я лишь прошу господина председателя задать вопрос свидетелю Циллиху, не произносил ли он проповеди против затеянной Геслингом травли?
Пастор Циллих пробормотал, что по долгу служителя культа он вообще призывал жить в мире. Тогда Бук пожелал узнать нечто другое.
— Не заинтересован ли опять-таки свидетель Циллих в поддержании хороших отношений с главным свидетелем обвинения доктором Геслингом ввиду того, что дочь пастора…
Ядассон, резко оборвав его, заявил протест по поводу постановки вопроса. Шпрециус признал вопрос недопустимым, а на скамьях для публики поднялся глухой ропот женских голосов. Регирунгспрезидент, наклонившись через скамью к старику Буку, сказал:
— Однако ваш сын позволяет себе милые шуточки!
Тем временем вызвали свидетеля Кюнхена. Старикашка ворвался в зал, очки его сверкали; он уже с порога прокричал имя, отчество, фамилию и звание, а присягу произнес скороговоркой, без подсказа. Но добиться от него членораздельных показаний не удалось, — кроме одного: в тот вечер волны националистического энтузиазма поднимались высоко. Во-первых — доблестный подвиг часового. Затем — изумительное послание его величества, заявившего себя сторонником позитивного христианства. «Вы спрашиваете насчет скандала с обвиняемым? Об этом, многоуважаемый господин судья, я совершенно ничего не знаю. Я как раз чуточку вздремнул».
— Но ведь и потом об этом говорили? — требовательно напомнил председатель.
— Я — нет! — воскликнул Кюнхен. — Я говорил только о наших доблестных делах в году семидесятом. Партизаны, сказал я, это бандиты. Палец у меня как деревяшка, его прокусил партизан. И почему бы, как вы думаете? Да потому, что я хотел немножко полоснуть его саблей по горлу! Не безобразие ли, а? — И Кюнхен собирался продемонстрировать судьям свой палец.
— Ступайте! — взвизгнул Шпрециус и опять пригрозил очистить зал.
К судейскому столу подошел майор Кунце; он стоял прямо, как на ходулях, а слова присяги звучали у него так, будто он бросал Шпрециусу в лицо тяжкие оскорбления. Он без обиняков заявил, что ко всей этой истории не имеет ни малейшего отношения; он пришел в погребок позднее.
— Могу только сказать, что в поведении доктора Геслинга есть неприятный душок. Душок клеветы.
Но с некоторого времени в зале чувствовался и другой душок. Никто не знал, откуда он исходит, на скамьях для публики сосед подозревал соседа и, прикрыв платочком рот, незаметно отодвигался от него. Председатель водил носом во все стороны, а старик Кюлеман, давно уже опустивший подбородок на грудь, беспокойно мотал головой во сне.
На замечание Шпрециуса, что все, кто в тот вечер рассказывал майору об этом эпизоде, благонамеренные националисты, майор сказал только, что, так или иначе, с доктором Геслингом он вовсе незнаком. Но тут выступил вперед Ядассон; уши его пылали, он спросил отточенным, как лезвие ножа, голосом:
— Господин свидетель, я желал бы спросить у вас, не знакомы ли вы зато — и даже очень коротко — с обвиняемым? Соблаговолите сообщить суду, не одолжил ли вам обвиняемый всего неделю назад сто марок?
Зал в испуге замер, все впились глазами в майора, который стоял в полной военной форме и что-то бормотал в ответ. Дерзость Ядассона произвела впечатление. Он тотчас же использовал свой успех и вырвал у Кунце признание, что немцы-националисты, в том числе и он сам, были возмущены речами Лауэра. Без сомнения, обвиняемый имел в виду его величество.
Вольфганг Бук вскочил, он не мог больше сдерживать себя:
— Если господин председатель не находит нужным поставить на вид господину прокурору, что он оскорбляет своих же свидетелей, то нам это и вовсе безразлично.
Шпрециус немедленно долбанул своим клювом в сторону Бука:
— Господин защитник! Я сам решаю, ставить на вид или не ставить.
— Именно это я и хотел установить, — невозмутимо продолжал Бук. — Что же касается существа дела, то мы как раньше, так и теперь утверждаем и докажем свидетельскими показаниями, что обвиняемый не оскорблял его величества.
— Я еще из ума не выжил! — выкрикнул обвиняемый.
— Если все же, вопреки истине, будет признано обратное, — продолжал Бук, — то я вхожу с ходатайством привлечь издателя «Готского альманаха{17}» в качестве эксперта по вопросу о том, у кого из немецких князей течет в жилах еврейская кровь.
Он сел на место, довольный рокотом, прокатившимся по рядам изумленной публики. Чей-то громовый бас прогудел: «Неслыханно!» Шпрециус уже готов был долбануть клювом, но вовремя догадался, кому принадлежал бас. Вулкову! Даже Кюлеман очнулся от этого возгласа. Судьи шепотом посовещались, после чего председатель объявил, что ходатайство защитника отклонено, так как суд не считает возможным разбирать, соответствуют ли истине инкриминируемые подсудимому слова. Для состава преступления достаточно и того, что выражено неуважение. Бук потерпел фиаско, его пухлые щеки по-детски грустно вытянулись. В зале послышалось хихиканье, теща бургомистра, в нарушение всех правил приличия, громко смеялась. Дидерих подумал о ней с благодарностью. Боязливо вслушиваясь, он чувствовал, как общественное мнение меняет курс и осторожно примыкает к тем, у кого больше ловкости, у кого в руках власть. Он обменялся взглядом с Ядассоном.
Следующим свидетелем выступил редактор Нотгрошен. Серенький и неприметный, он предстал перед судьями и выполнял свою роль без запинки, словно всю жизнь только тем и занимался, что давал показания. Все, кто знал его, дивились: такой самоуверенности в нем никогда не замечалось. Он обо всем был осведомлен, давал убийственные для подсудимого показания и говорил гладко, точно читал передовую; разве что председатель между двумя абзацами, одобрительно кивая, подсказывал ему нужное словечко, как примерному ученику. Бук, встряхнувшись, напомнил Нотгрошену, что «Нетцигский листок» защищал Лауэра. Редактор ответил:
— «Нетцигский листок» либеральная, а следовательно, надпартийная газета. Это рупор общественного мнения. А так как оно складывается не в пользу обвиняемого…
По-видимому, там, в коридоре, он уже разнюхал, куда ветер дует! Бук сказал с иронией в голосе:
— Я прошу отметить, что свидетель обнаруживает несколько странное понимание долга, налагаемого на него присягой.
Но смутить Нотгрошена нельзя было.
— Я журналист, — заявил он и прибавил: — Я прошу господина председателя оградить меня от оскорблений защитника.
Шпрециус не заставил себя упрашивать; затем он милостиво отпустил редактора.
Пробило двенадцать. Ядассон обратил внимание председателя на то, что следователь доктор Фрицше явился и находится в распоряжении суда. Его вызвали; и с этой минуты взгляды обращались то на него, то на Юдифь Лауэр. Она побледнела еще больше, темные глаза, провожавшие Фрицше к судейскому столу, раскрывались все шире и как будто безмолвно гипнотизировали его; но Фрицше избегал ее взгляда. Все нашли, что у него тоже плохой вид, хотя в походке чувствовалась решительность. Дидерих отметил про себя, что из двух своих личин он на этот случай избрал сухо официальную.
Какое впечатление произвел на него свидетель доктор Геслинг на предварительном следствии? Свидетель давал свои показания вполне добровольно, отвечал Фрицше: он был еще под свежим впечатлением событий и потому волновался. Надежность его показаний, которые Фрицше имел возможность проверить в дальнейшем ходе следствия, сомнению не подлежит. Если сегодня свидетель не мог по памяти восстановить отчетливую картину происшедшего, то это объясняется волнением, связанным с обстановкой суда… А подсудимый? Слышно было, как насторожился зал. Фрицше проглотил слюну. И подсудимый лично произвел на него, пожалуй, благоприятное впечатление, невзирая на множество отягчающих моментов.
— Свидетельские показания противоречивы. А как по-вашему, способен ли подсудимый на инкриминируемое ему высказывание? — спросил Шпрециус.
— Подсудимый человек образованный; он, конечно, воздержался от прямых оскорблений, — ответил Фрицше.
— Это заявляет и сам подсудимый, — строго заметил председатель.
Фрицше заговорил быстрее:
— В своей общественной деятельности он сочетал авторитетность с радикальными воззрениями. Он, по всей видимости, считает себя человеком более просвещенным, чем многие другие, и имеющим большее право на критику. Поэтому легко допустить, что в состоянии раздражения, — а смерть рабочего от пули часового привела его в таковое, — он заговорил о политике, и, как ни безупречна была форма, в которую он облек свои высказывания, в них все же проглядывало намерение оскорбить.
Председатель и прокурор вздохнули с явным облегчением. Члены суда Гарниш и Кюлеман оглядывали публику, по рядам которой прошло движение. Заседатель, сидевший слева от Шпрециуса, и теперь все изучал свои ногти, заседатель же справа, молодой человек с вдумчивым лицом, наблюдал обвиняемого, — тот сидел прямо против него. Руки Лауэра судорожно стискивали перила, а глаза, выпуклые карие глаза, неотрывно смотрели на жену. Ее взгляд был устремлен на Фрицше, в этом взгляде было все: и стыд, и мука, и слабость. Теща бургомистра громко сказала:
— А дома у нее двое детей.
Лауэр как будто услышал вдруг шепот, который вился вокруг него, и заметил взгляды, избегавшие его взгляда. Он ссутулился; кровь так неожиданно и быстро отлила от его побагровевшего лица, что молодой заседатель испуганно заерзал на своем стуле.
Дидерих, вероятно, был единственный, кто с каждой минутой чувствовал себя все лучше, кто еще вслушивался в диалог между председателем и следователем. Хорош Фрицше! Вначале вся эта история, по достаточно веским мотивам, ни для кого, даже для самого Дидериха, не была так мучительно неприятна, как для Фрицше. Разве не пытался он оказать нажим на Дидериха, наперекор своему служебному долгу? И тем не менее показания Дидериха, внесенные им в протокол, оказались тяжкой уликой, а показания самого Фрицше и вовсе топили обвиняемого. Фрицше поступил не менее беспощадно, чем Ядассон. Несмотря на тесную связь с семьей Лауэров, связь особого рода, он не решился уклониться от возложенной на него задачи: быть на страже власти. Ничто человеческое не может устоять перед властью. Какой урок для Дидериха! Видно, и Вольфганг Бук понял это по-своему. Он исподлобья смотрел на Фрицше, и лицо у него было такое, будто его вот-вот вырвет.
Пока следователь шел к выходу какой-то неестественной, вихляющей походкой, в зале стоял громкий шепот. Теща бургомистра, нацелясь лорнетом на жену подсудимого, сказала:
— Премиленькая компания!
Ей не возражали. Лауэров, как видно, уже предоставили собственной судьбе. Густа Даймхен прикусила нижнюю губу., Кетхен Циллих исподлобья метнула взгляд в Дидериха. Доктор Шеффельвейс наклонился к главе семьи Бук и сладким голосом пропел:
— Надеюсь, дорогой друг и благодетель, все еще будет хорошо.
Председатель велел судебному приставу ввести свидетеля Кона.
Очередь была за свидетелями защиты! Председатель понюхал воздух.
— Здесь дурно пахнет, — заметил он. — Креке, откройте-ка окно!
Он пошарил глазами среди публики попроще, тесно сидевшей на хорах. Но именно на нижних скамьях образовалось много свободного места, и больше всего вокруг регирунгспрезидента фон Вулкова, явившегося в пропотелой охотничьей куртке… Открытое окно, в которое задувал ледяной ветер, вызвало глухой ропот на задних скамьях, где сидели иногородние журналисты. Но Шпрециусу стоил© только клювом повести в их сторону, и они сразу же втянули головы в поднятые воротники пиджаков.
Ядассон победоносно смотрел на свидетеля. Шпрециус некоторое время не мешал Кону говорить. Но вот Ядассон откашлялся; в руках он держал какую-то бумагу.
— Свидетель Кон, — начал Ядассон, — ведь вы с тысяча восемьсот восемьдесят девятого года являетесь владельцем существующего под вашим именем универсального магазина, не так ли? — И не давая ему ответить — Признаете ли вы, что вскоре после открытия магазина один из ваших поставщиков, некто Леман, покончил жизнь самоубийством, застрелившись в помещении магазина?
И Ядассон с дьявольским удовлетворением поглядел на Кона; действие его слов было необычайным. Кона всего передергивало, он задыхался.
— Старая клевета! — взвизгнул он. — Самоубийство Лемана не имело ко мне никакого отношения. Он несчастливо женился. Эта история уже однажды чуть не погубила меня, а теперь этот субъект опять ворошит ее!
Защитник тоже выразил протест. Шпрециус долбанул клювом в сторону Кона. Господин прокурор не «субъект»! А за выражение «клевета» суд налагает на свидетеля штраф в пятьдесят марок. И с Коном было покончено. Допрашивался брат господина Бука. Ядассон сразу же спросил его:
— Свидетель Бук, общеизвестно, что ваше предприятие приносит вам одни убытки. На какие средства вы живете?
В зале поднялся такой ропот, что Шпрециус счел необходимым вмешаться:
— Господин прокурор, ваш вопрос, мне кажется, не имеет прямого отношения к делу?
Но у Ядассона на все был готов ответ:
— Господин председатель, для прокуратуры важно установить факт, что свидетель находится в материальной зависимости от своих родственников, в особенности от обвиняемого, своего зятя. На этом основании мы можем судить о надежности показаний свидетеля!
Высокий элегантный Бук стоял с поникшей головой.
— Этого достаточно, — заявил Ядассон, и Шпрециус отпустил свидетеля.
Его пять дочерей, под перекрестными взглядами толпы, прижались друг к другу, как овцы в бурю. Люди попроще, сидевшие наверху, злорадно пересмеивались. Шпрециус снисходительно призвал к спокойствию и велел ввести свидетеля Гейтейфеля.
Как только Гейтейфель поднял руку, чтобы произнести слова присяги, Ядассон драматическим жестом тоже вскинул вверх руку.
— Раньше я попросил бы свидетеля ответить на вопрос: признает ли он, что своей поддержкой высказываний, представляющих собой преступное оскорбление величества, он одобрил их и еще более заострил?
— Ничего я не признаю, — ответил Гейтейфель. Тогда Ядассон предъявил ему протокол показаний на предварительном следствии.
— Ходатайствую перед судом о недопущении данного свидетеля к присяге, — повысил он голос, — как заподозренного в причастности к преступлению. И еще пронзительнее — Полагаю, что судом уже установлен образ мыслей свидетеля. Свидетель принадлежит к категории людей, справедливо названных его величеством бродягами, не помнящими родства. Помимо этого, свидетель Гейтейфель на сборищах, которые он называет воскресными собраниями свободных людей, усердно проповедует отъявленный атеизм, из чего само собой вытекает его отношение к нашему христианнейшему монарху.
Уши Ядассона теперь полыхали, словно огни костров, зажженных фанатиками всего мира.
Вольфганг Бук встал и скептически усмехнулся.
— По-видимому, господин прокурор в своих религиозных убеждениях монашески суров и не допускает, что нехристианин заслуживает доверия, — сказал он. — Но суд, надо надеяться, придерживается другой точки зрения и отклонит ходатайство господина прокурора.
Ядассон грозно расправил плечи. Он просит суд наложить на защитника дисциплинарное взыскание — штраф в размере ста марок. За издевательский личный выпад против него, прокурора! Суд удалился на совещание. В зале тотчас же начался страстный и беспорядочный обмен мнениями. Доктор Гейтейфель, засунув руки в карманы, мерил Ядассона такими взглядами, что тот, лишенный покровительства суда, почувствовал панический страх и попятился к стене. Выручил его не кто иной, как Дидерих; он счел себя обязанным сделать господину прокурору важное сообщение… Но тут вернулись судьи. Было объявлено, что приведение к присяге свидетеля Гейтейфеля пока откладывается. За выпад против личности господина прокурора на защитника налагается штраф в размере восьмидесяти марок.
В дальнейший допрос свидетеля вмешался защитник, пожелавший узнать, как расценивает семейную жизнь обвиняемого свидетель, являющийся его близким знакомым. Гейтейфель сделал какое-то движение, зал загудел: все поняли. Но допустит ли вопрос Шпрециус? Он уже было открыл рот, чтобы отказать защитнику, однако вовремя сообразил, что сенсация будет на руку обвинению. Гейтейфель дал самый лучший отзыв о семейной жизни Лауэров. И назвал ее образцовой. Ядассон упивался словами свидетеля, от нетерпения его пробирала дрожь. Наконец-то он смог задать свой вопрос, что он и сделал с непередаваемым торжеством в голосе:
— Не соблаговолит ли свидетель ответить, откуда он черпает свое знание семейной жизни? Не из знакомства ли с женщинами известного пошиба, и не посещает ли он некий дом, в просторечии именуемый «Маленький Берлин»?
Еще не закончив фразы, он увидел, что на лицах дам в зале, как и на лицах судей, появилось такое выражение, будто они оскорблены в своих лучших чувствах. Главный свидетель защиты был сокрушен. Гейтейфель пытался ответить:
— Господин прокурор не хуже меня это знает. Мы там неоднократно встречались.
Но реплика свидетеля лишь навлекла на него штраф в пятьдесят марок.
— Свидетель останется в зале, — решил под конец председатель. — Он понадобится суду для дальнейшего выяснения обстоятельств дела.
— А для меня вся эта механика совершенно ясна, — сказал Гейтейфель, — и я предпочту покинуть сие заведение.
Пятьдесят марок штрафа мгновенно превратились в сто.
Вольфганг Бук беспокойно озирался. Казалось, он губами пробует настроение в зале; они скривились, словно это настроение воплотилось в загадочном запахе, снова отравлявшем воздух с той минуты, как закрыли окно. Бук видел, что огонек симпатии, с которой его встретили вначале, гаснет и чадит, что весь порох растрачен впустую, а зевки, вытянутые от голода физиономии присутствующих и нетерпение судей, украдкой посматривающих на часы, не сулят ничего хорошего. Он вскочил: надо спасти все, что еще можно спасти. Придав своему голосу энергичные ноты, он предложил перенести вызов следующих свидетелей на послеобеденное время.
— Ввиду того что господин прокурор возвел в систему дискредитацию наших свидетелей, мы готовы доказать, что обвиняемый пользуется доброй славой среди наиболее видных людей Нетцига. Не кто иной, как доктор Шеффельвейс, скажет суду об общественных заслугах обвиняемого. Господин регирунгспрезидент фон Вулков также не откажется засвидетельствовать его благонамеренный и монархический образ мыслей.
— Ну уж! — донесся из опустевших первых рядов громовой бас. Бук заговорил громче.
— А о гражданских добродетелях обвиняемого, — и Бук повысил голос, — скажут здесь его рабочие.
И Бук сел, тяжело дыша.
— Господин защитник предлагает устроить всенародное голосование, — холодно заметил Ядассон.
Судьи шепотом посовещались, и Шпрециус объявил: суд принимает только одно из предложений защитника: о допросе бургомистра доктора Шеффельвейса. Бургомистр находился в зале, и его тут же вызвали.
Он с трудом выбрался из своего ряда. Жена и теща удерживали его с обеих сторон и второпях давали ему наказы, очевидно противоречивые, — перед судьями бургомистр предстал совершенно обалделый. Какой образ мыслей проявлял обвиняемый в своей общественной деятельности? На этот счет бургомистр ничего плохого сказать не может. На заседаниях комиссий городского самоуправления обвиняемый ратовал за восстановление старинного дома священнослужителей, знаменитого тем, что в нем хранились волосы, вырванные, как известно, Мартином Лютером из хвоста дьявола. Правда, обвиняемый требовал также постройки зала для «свободной общины», что вызвало немало протестов. В деловых сферах он пользуется всеобщим уважением, социальные реформы, проведенные им на своей фабрике, с одной стороны, многих приводят в восхищение, хотя, с другой стороны, кое-кто и возражает: они, мол, лишь чрезмерно разжигают аппетиты рабочих и таким образом все-таки способствуют развитию крамолы.
— Полагает ли уважаемый свидетель, — спросил защитник, — что обвиняемый способен на совершение вменяемого ему преступления?
— С одной стороны, — ответил Шеффельвейс, — конечно, не способен.
— А с другой стороны? — спросил прокурор.
— С другой стороны, конечно, способен.
И бургомистра сейчас же отпустили; его дамы, как одна, так и другая, встретили его с недовольными минами; председатель собрался уже было объявить перерыв, но в это мгновенье прокурор Ядассон откашлялся. Он ходатайствует о повторном допросе свидетеля доктора Геслинга, пожелавшего дополнить свои показания. Раздосадованный Шпрециус заморгал, публика, только что вставшая со своих скамей, громко роптала; но Дидерих уже твердым шагом подошел к судейскому столу и громко, отчетливо заговорил. После долгих размышлений он пришел к выводу, что показания, данные им на предварительном следствии, от начала до конца правильны; и он повторил их, заострил, дополнил. Он начал с убийства рабочего и пересказа критических замечаний Лауэра и Гейтейфеля на месте убийства. Слушатели, забыв, что они собирались уходить, следили за схваткой двух мировоззрений, разыгравшейся на окропленной кровью Кайзер-Вильгельмштрассе и перенесенной затем в муниципальный ресторан; они видели, как два враждующих стана построились для решающего боя, как Дидерих, высоко взмахнув под готической люстрой воображаемым мечом, кинулся вперед и вызвал обвиняемого на смертный бой.
— Ибо, уважаемые господа судьи, я не отрицаю более, что бросил ему вызов! Произнесет он слово, которое даст мне возможность нанести удар? И он произнес это слово, и я, уважаемые господа судьи, нанес удар и тем самым выполнил свой долг и повторил бы все это сегодня еще раз, хотя бы на меня посыпались новые и новые неприятности и общественного и делового характера, — а я немало их вытерпел за последнее время. Самоотверженный идеализм, уважаемые господа судьи, эта привилегия истинного немца, всегда руководит им, даже если мужество при виде сонма врагов иной раз ему изменяет. Вот и я, давая раньше свои показания, еще колебался. И не только в силу нашедшего на меня затмения, как сказал по доброте душевной господин следователь: это была, сознаюсь, попытка, быть может и понятная, уклониться от борьбы, в которую мне предстояло вступить. Но я беру на себя бремя борьбы, ибо того требует от меня не кто иной, как его величество наш несравненный кайзер…
Дидерих говорил без запинки и с таким пафосом, что у слушателей дух занялся. Ядассон уже начал беспокоиться, как бы свидетель не предвосхитил эффект заготовленной им, прокурором, обвинительной речи; он нервно оглядывался на председателя. Но Шпрециус, как видно, и не помышлял прерывать Дидериха. С застывшим в неподвижности хищным клювом, ни разу не моргнув, он уставился в железную физиономию Дидериха, в которой что-то грозно сверкало. Даже старик Кюлеман, распустив губы, слушал. А Вольфганг Бук, подавшись вперед, снизу вверх смотрел на Дидериха, он слушал его с интересом профессионала, и в глазах у него светились и ненависть и восхищение. «Вот уж подлинно речь демагога! На такую любая публика клюнет!»
— Пусть наши граждане, — восклицал Дидерих, — стряхнут с себя, наконец, сонную одурь, которая их так долго сковывала, и не полагаются всецело на государство и его органы в борьбе с крамолой, а действуют сами! Таково повеление нашего несравненного кайзера! Могу ли я, уважаемые господа судьи, колебаться? Крамола поднимает голову, горсточка людей, недостойных называться немцами, осмеливается обливать грязью священную особу монарха…
Среди публики попроще кто-то рассмеялся. Шпрециус повел клювом в его сторону и пригрозил весельчаку штрафом. Ядассон огорченно вздохнул: теперь Шпрециусу уже никак нельзя остановить свидетеля.
— До сих пор, — продолжал Дидерих, — боевой клич кайзера находил слишком слабый отклик в Нетциге! Здесь закрывали глаза и затыкали уши, не желая ни видеть, ни слышать надвигающейся опасности, люди закоснели в обветшалых понятиях мещанской демократии и гуманности и проложили путь не помнящим родства врагам божественного миропорядка. До здорового национального образа мыслей, до понимания всеобъемлющего империализма здесь еще не доросли. Задача всех немцев, идущих в ногу со временем, добиться и в Нетциге торжества нового духа, как его понимает наш несравненный молодой кайзер, призвавший всех благомыслящих — от дворянина до батрака — быть исполнителями его августейшей воли.
И Дидерих закончил:
— Поэтому, уважаемые господа судьи, я счел своим долгом дать решительный отпор обвиняемому, его злопыхательским проискам. Руководила мной не личная неприязнь, а интересы общего дела. Быть человеком дела значит быть немцем. И я, — он сверкнул очами в сторону Лауэра, — горжусь своим поступком, ибо он является итогом незапятнанной жизни человека, который и в собственном доме ставит честь превыше всего и не знает лжи и разврата!
Сильное движение в зале. Дидерих, захваченный благородством собственного образа мыслей, упоенный успехом, продолжал сверкать очами, повернувшись к обвиняемому. Но вдруг он попятился: обвиняемый встал, дрожа и пошатываясь, держась за спинку скамьи; он выпрямился, он вращал налитыми кровью глазами и двигал челюстью, точно его хватил паралич. «Ох!» — вскрикнули женские голоса, в которых трепетало сладостное ожидание чего-то ужасного. Но обвиняемый, обратившись к Дидериху, лишь прохрипел несколько нечленораздельных слов; защитник схватил его под руку, убеждая успокоиться. Между тем председатель, известив публику, что господин прокурор начнет свою обвинительную речь в четыре часа, мгновенно испарился вместе с членами суда и заседателями. Ошеломленный Дидерих неожиданно увидел себя среди бурно осаждавших его Кюнхена, Циллиха, Нотгрошена. Все поздравляли его. Незнакомые люди пожимали ему руку. Приговор «виновен» — это как дважды два четыре! Лауэр может укладываться. Майор Кунце напомнил торжествующему Дидериху, что между ними никогда не возникало ни малейших разногласий. В коридоре мимо Дидериха, окруженного роем дам, прошел старик Бук. Натягивая на руки черные перчатки и не отвечая на непроизвольный поклон Дидериха, он приковался к его лицу испытующим и грустным взглядом, таким грустным, что Дидерих, сквозь чад своего триумфа, так же грустно поглядел вслед старому Буку.
Он вдруг заметил, что все пять буковских племянниц не постеснялись засыпать его комплиментами. Они порхали вокруг него, шелестели шелками и спрашивали, почему он не привел на такой интересный процесс своих сестер. Он смерил с ног до головы этих расфуфыренных дур, одну за другой, и сурово отрубил, что есть вещи посерьезнее, чем театральное зрелище. Они отошли от него, ошарашенные. Коридор опустел. Под конец показалась Густа Даймхен. Она направилась к Дидериху, но Вольфганг Бук перехватил ее, улыбаясь как ни в чем не бывало; рядом с Вольфгангом шел обвиняемый и его жена. Густа метнула в Дидериха быстрый взгляд, возбудивший в нем нежность. Он укрылся за колонной и с бьющимся сердцем смотрел на идущих мимо побежденных.
Он уже собрался уходить, как вдруг из судейской комнаты вышел Регирунгспрезидент фон Вулков. Дидерих, со шляпой в руке, стал на его пути, вовремя щелкнул каблуками, и глянь! — Вулков действительно остановился.
— Молодцом! — прогудел он из чащи своей бороды и похлопал Дидериха по плечу. — Вы взяли приз! Образ мыслей правильный! Мы еще увидимся. — И он двинулся дальше, стуча облепленными грязью сапогами, тряся брюхом в пропотевших охотничьих штанах и оставляя за собой едкий запах, запах хищной мужественности, прочно устоявшийся в зале судебного заседания.
Внизу, у выхода, стоял бургомистр с женой и тещей, наседавшими на него с обеих сторон; бледный и отчаявшийся, он безуспешно пытался примирить их требования.
Дома уже все было известно. Мать и сестры дожидались в вестибюле суда конца заседания, и Мета Гарниш все рассказала им. Фрау Геслинг, вся в слезах, не говоря ни слова, обняла сына. Магда и Эмми были в замешательстве; только вчера они так пренебрежительно отзывались о роли Дидериха в процессе, и вдруг оказывается, что он так блестяще провел ее! Но Дидерих на радостях великодушно обо всем позабыл, велел подать к обеду вино и объявил сестрам, что сегодняшний день навечно укрепил их положение в нетцигском обществе.
— Пять буковских дочерей не посмеют теперь отворачиваться при встрече с вами. Пусть радуются, если вы ответите им на поклон. — Осуждение Лауэра, уверял Дидерих, не более чем пустая формальность. Оно предрешено так же, как и головокружительная карьера его, Дидериха. — Конечно, — сказал он, покачивая головой и глядя в свой бокал, — несмотря на мое безупречное выполнение долга, все могло очень плохо кончиться и, надо сознаться, дорогие, я мог взлететь в воздух вместе со свадьбой Магды. — Магда побледнела, но он похлопал ее по плечу. — Теперь-то мы на коне! — И, подняв бокал, твердо и мужественно воскликнул — Какой, с божьей помощью, оборот!
Он велел сестрам принарядиться — они пойдут все вместе. Фрау Геслинг просила пощадить ее, она избегает всяких волнений. Теперь Дидериху незачем было торопиться, пусть сестры спокойно одеваются. Когда они пришли, зал был уже полон, но состав публики изменился. Отсутствовала вся буковская родня, а с ними и Густа Даймхен, Гейтейфель, Кон, вся масонская ложа, весь ферейн свободомыслящих избирателей. Они признали себя побежденными! Новость уже облетела весь город, многие устремились в зал суда, чтобы собственными глазами увидеть картину их поражения; публика попроще продвинулась в передние ряды. Одинокие сторонники некогда влиятельной клики, такие, как Кюнхен и Кунце, стремились к одному: чтобы на их лицах каждый мог прочесть благонамеренный образ мыслей. Правда, среди публики были теперь и подозрительные фигуры: молодые люди с утомленными, но выразительными лицами, и девицы вызывающей внешности с чрезмерно ярким румянцем на щеках; и те и другие раскланивались с Вольфгангом Буком. Весь городской театр был здесь! Бук не постеснялся пригласить на свое выступление актеров!
Обвиняемый нервно поворачивал голову всякий раз, как кто-нибудь входил в зал. Он ждал свою жену! «Чудак, он еще надеется, что она придет!» — подумал Дидерих. Но она пришла, еще более бледная, чем утром, — долгим взглядом, исполненным мольбы, поздоровалась с мужем, села на край первой попавшейся скамьи и, гордая и безмолвная, устремила взгляд на судейский стол, словно там была ее судьба… Судьи вошли в зал. Председатель открыл заседание и предоставил слово господину прокурору.
Ядассон с места в карьер заговорил на крайне высокой ноте, так что после нескольких фраз выдохся и стал жевать жвачку; актеры городского театра обменивались презрительными улыбками. Ядассон заметил это и начал размахивать руками. Полы его мантии разлетались, голос срывался, а уши рдели. Нарумяненные девушки, уронив руки и головы на перила, изнемогали от душившего их смеха.
— А Шпрециус чего глядит? — спросила теща бургомистра.
Но судьи спали. Дидерих в душе ликовал: он отомстил Ядассону! Ядассон не нашел ни одной новой мысли, Дидерих использовал все. Он вышел победителем! А что он победил, это знал Вулков, это знал и Шпрециус, оттого-то он и спал с открытыми глазами. Ядассон чувствовал это лучше, чем кто бы то ни было, и чем визгливее становился его голос, тем больше неуверенности сквозило во всей его фигуре. Когда в заключение он потребовал двух лет тюрьмы для обвиняемого, все были до того замучены скукой, что сочли это несправедливым; в том числе, по всей видимости, и судьи. Старичок Кюлеман испуганно всхрапнул и проснулся. Шпрециус усиленно заморгал, стараясь взбодриться, и сказал:
— Слово имеет господин защитник.
Вольфганг Бук медленно поднялся. Его странные друзья одобрительно зашептались, хотя Шпрециус уставился клювом в их сторону. Бук спокойно выждал, пока воцарилась тишина. Затем легким тоном, словно ему достаточно нескольких минут, чтобы со всем покончить, заявил, что в результате свидетельских показаний создалась вполне благоприятная картина для обвиняемого. Господин прокурор необоснованно полагает, что показания против обвиняемого, исторгнутые у свидетелей лишь потому, что все их существование ставилось под угрозу, имеют какую-нибудь ценность. Ценность, пожалуй, есть, но заключается она именно в том, что эти показания блестяще доказывают невиновность обвиняемого, ибо многие лица, известные своей правдивостью, лишь в силу шантажа…
Договорить ему, разумеется, не удалось. Когда председатель угомонился, Бук невозмутимо продолжал.
— Если допустить, — сказал он, — что обвиняемый действительно произнес инкриминируемые ему слова, то и тогда понятие наказуемости здесь отсутствует. Свидетель доктор Геслинг открыто признал, что он преднамеренно спровоцировал обвиняемого. Спрашивается, не доктор ли Геслинг, с его провокационным намерением, является фактическим виновником наказуемого действия, которое он осуществил при невольном посредстве другого, сознательно воспользовавшись его возбужденным состоянием?
Защитник рекомендовал прокурору серьезно заняться свидетелем Геслингом. В зале многие повернули головы к Дидериху, и ему едва не стало дурно. Но пренебрежительная мина председателя вновь приободрила его.
В голосе Бука появились мягкие и теплые нотки. Нет, он далек от желания накликать беду на свидетеля Геслинга; он рассматривает Геслинга лишь как жертву личности, стоящей несравненно выше его.
— Почему, — спросил Бук, — так участились дела об оскорблении величества? Мне ответят: вследствие таких эпизодов, как убийство рабочего. Я же говорю: нет, они участились благодаря речам, которые следуют за этими эпизодами.
Шпрециус вытянул шею и навострил свой клюв, но промолчал. Бук все так же невозмутимо продолжал речь. Голос его звучал теперь сильно и мужественно.
— Угрозы и чрезмерные претензии неизбежно вызывают отпор. Лозунг — кто не за меня, тот против меня — проводит жирную черту между теми, кто раболепствует перед величеством, и теми, кто оскорбляет величество.
Тут уж Шпрециус долбанул клювом Бука.
— Господин защитник, я не потерплю здесь критики высказываний кайзера. Если вы намерены продолжать в таком же духе, суд немедленно наложит на вас дисциплинарное взыскание.
— Подчиняюсь вашим указаниям, господин председатель, — сказал Бук, и слова его с каждой секундой становились все более пластичными, полновесными. — В таком случае я буду говорить не о монархе, а о верноподданном, которого формует монарх: не о Вильгельме Втором, а о свидетеле Геслинге. Вы видели его! Это человек дюжинный, среднего ума, зависящий от среды и случая; когда обстановка на суде складывалась не в его пользу, он был жалок, а как только ветер подул в другую сторону, он исполнился невероятной самоуверенности.
Дидерих на своей свидетельской скамье громко сопел. Почему Шпрециус не вступится за него? Ведь это его долг! Националистически мыслящего немца публично поносят — и кто? Адвокат, который уже по профессии своей является выразителем подрывных бунтарских идей! Нет, что-то гнило в царстве датском!.. Стоило Дидериху взглянуть на Бука, и в нем все закипало. Вот он враг, антипод; остается одно: стереть с лица земли! Эта оскорбительная человечность в мясистом профиле Бука! Так и чувствуешь надменное любование словами, которые он подбирает, чтобы заклеймить Дидериха.
— Во всякую эпоху имя таким людям — легион, — говорил Бук, — это дельцы, и у них есть свои политические взгляды. Единственное, что прибавилось к этому стандартному типу и подновило его, это — повадка: крикливая поза, дутая воинственность так называемой сильной личности, жажда играть роль во что бы то ни стало, даже если расплачиваться придется другим. Инакомыслящие объявляются врагами нации, хотя бы они и составляли две трети ее. Может быть, это диктуется классовыми интересами? Возможно, но они подаются в шелухе лживой романтики. В порыве романтической экзальтации верноподданный припадает к стопам своего владыки, лелея надежду, что владыка наделит его частицей власти, и тогда он сам наступит пятой на младшую братию. Но так как в реальной действительности, да и в законе не существует ни владыки, ни простертого перед ним подданного, то вся общественная жизнь приобретает характер пошлой клоунады. Убеждения облекаются в театральные костюмы, сыплются речи, достойные крестоносцев, хотя произносят их люди, производящие жесть или бумагу. Картонный меч обнажается в защиту понятия «его императорское величество», — понятия, которое уже ни одна душа, за исключением разве сказочных персонажей, не принимает всерьез. «Его императорское величество…» — повторил Бук, как бы пробуя эти слова на вкус, и часть слушателей попробовала их вместе с ним. Актеры, которых форма захватывала явно сильнее, чем содержание, приложив ладонь к уху, одобрительно перешептывались. Всем остальным выступление Бука казалось слишком утонченным, и особенно расхолаживало публику то, что Бук не уснащал свою речь словечками местного говора. Но Шпрециус вскинулся в своем кресле и хищно взвизгнул в предчувствии добычи:
— Господин защитник, последний раз предупреждаю: не касайтесь в ходе прений монаршей особы!
В зале произошло движение. Кто-то собирался похлопать Буку, как только тот открыл рот, чтобы продолжать, но Шпрециус вовремя долбанул. То была одна из эксцентричных девиц.
— Господин председатель первый назвал монаршую особу. Что ж, поскольку она названа, я позволю себе, не вводя суд в смущение, сказать, что кайзер улавливает и выражает существующие в данный момент течения в стране с такой полнотой, которая делает его особу достойной преклонения. Я хотел бы назвать кайзера, — надеюсь, господин председатель не станет прерывать меня, — великим артистом. Что можно еще прибавить? Более великого никто из нас не знает… Именно поэтому не следовало бы допускать, чтобы любой дюжинный человечишка из числа наших современников копировал его. В блеске трона могут заиграть все грани индивидуальности монарха, он может произносить речи, зная, что мы ничего не ждем от него, кроме речей, может сверкать очами, ослеплять, вызывать ненависть у воображаемых мятежников и срывать овации у публики партера, которая за этими речами не забывает своих обывательских интересов…
Дидерих задрожал, да и все сидели, разинув рты и не отрывая глаз от Бука, словно он двигался по канату, натянутому между двумя башнями. Сорвется? Шпрециус уже нацелил свой клюв. Однако ни тени иронии не мелькнуло в лице защитника, в нем сквозило что-то близкое к ожесточенной восторженности. Вдруг уголки его рта опустились, словно все вокруг потускнело.
— Но Нетцигский бумажный фабрикант?.. — сказал он.
Нет, он не сорвался, он опять стоял обеими ногами на земле! Теперь все повернулись к Дидериху, многие даже усмехались. И Эмми с Магдой улыбнулись. Бук достиг желанного эффекта, и Дидерих, на свою беду, только теперь сообразил, что их вчерашний разговор на улице был для Бука генеральной репетицией выступления в суде. От откровенной издевки оратора он весь сжался.
— Бумажные фабриканты пытаются нынче присваивать себе ту роль, для которой они не сфабрикованы. Так освищем же их! Они бездарны! Эстетический уровень нашей общественной жизни, поднятый на высоту блестящим выступлением Вильгельма Второго, может только проиграть, когда на сцену выходят такие исполнители, как свидетель Геслинг… А с эстетическим началом, уважаемые господа судьи, усиливается или падает моральное начало. Фальшивые идеалы влекут за собой падение нравов, за политическим обманом следует обман в гражданской жизни. — Голос Бука звучал сурово. Теперь только он поднялся до истинного пафоса. — Ибо, уважаемые господа судьи, я не ограничиваю себя механистической доктриной, столь милой сердцу партии так называемого мятежа. Пример великого человека больше изменяет мир, чем все экономические законы вместе взятые. Но горе, если этот пример неправильно понят! Тогда может случиться, что в стране получит распространение новый тип человека, который видит в жестокости и угнетении не прискорбный путь к человеческим условиям жизни, а самый смысл жизни. Слабый и податливый от природы, он надевает на себя личину железной твердости, ибо в его представлении ею обладал Бисмарк. И без всяких на то данных, следуя примеру гораздо более высокой особы, он ведет себя шумно и не солидно. Несомненно он воспользуется победой своих тщеславных устремлений для деловых целей. Пусть разыгранная им комедия благонамеренности сначала приведет в тюрьму оскорбителя величества, а там видно будет, как из этого извлечь выгоду. Уважаемые господа судьи! — Бук раскинул руки, словно хотел весь мир обхватить своей мантией, лицо его выражало сосредоточенную волю вождя. И он бросил в бой все, что еще оставалось в резерве: — Вы суверенны, и суверенитет ваш — наивысший и наисильнейший. В ваших руках судьба человека. Вы можете вернуть его к жизни или морально убить — чего не властен сделать ни один монарх. Но эти два типа людей, — одобряемых или отвергаемых вами, — в совокупности своей образуют поколение. Таким образом, от вас зависит наше будущее. Вы несете безмерную ответственность за то, будут ли люди, подобные обвиняемому, наполнять тюрьмы, а существа, подобные Геслингу, составлять господствующее большинство нации. Выбирайте между ними! Выбирайте между карьеризмом и мужественным трудом, между фиглярством и правдой! Между теми, кто требует жертв во имя своей карьеры, и теми, кто приносит жертвы, чтобы людям лучше жилось! Обвиняемый совершил шаг, на какой, надо полагать, способны лишь немногие. Он отказался от своих прав хозяина, он дал такие же права своим подчиненным, и они познали чувство удовлетворения и радость надежды. Так неужели тот, кто уважает в ближнем самого себя, способен с неуважением говорить об особе кайзера?
Все вздохнули. Новыми глазами смотрел зал на обвиняемого, сжимавшего рукою лоб, и на его жену, устремившую неподвижный взгляд в пространство. Многие всхлипывали. Даже председатель сидел с оторопелым видом. Он ни разу не моргнул; глаза его округлились, он слушал Бука как зачарованный. Старичок Кюлеман почтительно кивал, а у Ядассона нервно подергивалось лицо.
Но Бук злоупотребил своим успехом, он охмелел.
— Пробуждение гражданина! — воскликнул он. — Истинно националистический образ мыслей! Скромное деяние какого-нибудь Лауэра реальнее содействует его воспитанию, чем сотни трескучих монологов даже венценосного артиста!
Шпрециус тотчас же заморгал: видно было, что он очнулся, понял, что происходит, и дает себе слово вторично в сети не угодить. Ядассон ухмылялся; большинство аудитории почувствовало, что защитник проиграл. Под шепот и беспокойное движение в зале председатель дал ему закончить хвалебную характеристику обвиняемого.
Когда Бук сел, актеры попытались аплодировать; но Шпрециус даже клювом не повел в их сторону, он только покосился на них скучающим взглядом и спросил у господина прокурора, не пожелает ли тот коротко ответить? Ядассон, скорчив пренебрежительную гримасу, отказался, и суд быстро удалился на совещание.
— Приговора ждать недолго, — вздергивая плечами, сказал Дидерих, еще не совсем придя в себя от речи Бука.
— Слава богу! — сказала теща бургомистра. — Даже не верится, что пять минут назад они чувствовали себя победителями. — Она показала на Лауэра, обтиравшего платком лицо, и на Бука, которого поздравляли актеры.
Но вот судьи вернулись, и Шпрециус объявил: шесть месяцев тюремного заключения; такое решение всем показалось правильным и понятным. Кроме того, обвиняемый лишался всех своих общественных должностей.
В обоснование приговора председатель указал, что наличие намерения оскорбить не является обязательным для состава преступления. Поэтому вопрос, имела ли место провокация, не относится к делу. Напротив, то, что обвиняемый разрешил себе высказать недозволенное суждение в присутствии националистически мыслящих свидетелей, есть обстоятельство отягчающее. Утверждение обвиняемого, что он не имел в виду кайзера, суд признал несостоятельным.
— Свидетели, при их образе мыслей, зная антимонархические настроения обвиняемого, не могли не счесть его слова оскорбительными для кайзера. Уловка обвиняемого, подчеркнувшего, что он еще из ума не выжил и воздержался от оскорбления величества, означает, что его волнует не самое оскорбление, а лишь страх уголовной ответственности.
Последний довод всем показался убедительным, соображения Лауэра нетрудно понять, но ведь какая хитрость! Лауэра тотчас же взяли под стражу; публика насладилась еще одним сильным ощущением и, обмениваясь далеко не лестными замечаниями по адресу осужденного, начала расходиться. Разумеется, на Лауэре надо поставить крест: что в самом деле станется с фабрикой за полгода его отсидки! По приговору, он уже не городской гласный. Впредь никому от него ни пользы, ни вреда. Поделом буковской семейке, которая так задирала нос! Поискали глазами жену заключенного, но она исчезла.
— Даже руки на прощанье ему не подала! Ну и нравы!
Однако в последующие дни произошли события, которые послужили пищей для пересудов куда похлеще! Юдифь Лауэр стремительно уложила чемоданы и уехала в южные края. Уехать на юг, когда законный муж сидит в тюремной камере, с часовым под зарешечённым оконцем! К тому же какое необычайное совпадение! Член суда Фрицше неожиданно взял отпуск! Доктор Гейтейфель получил от него открытку из Генуи и всем её показывал: быть может, для того, чтобы скорее забыли о его собственном поведении. Едва ли еще была необходимость выспрашивать лауэровских слуг или осиротевших детей: и без того все ясно!
Скандал был так велик, что «Нетцигский листок» счел необходимым выступить по этому поводу: адресуясь к «верхним десяти тысячам», он предупреждал, что своей распущенностью избранное общество содействует росту бунтарских настроений. Во второй статье Нотгрошен показывал, как не правы те, кто расхваливает реформы, введенные Лауэром у себя на предприятии. Что в сущности получают рабочие от участия в прибылях? В среднем, по расчетам самого Лауэра, даже не полных восемьдесят марок в год. Такую сумму можно преподнести и в форме рождественского подарка! Но тогда, конечно, это не было бы демонстрацией против существующего общественного строя. И антимонархические убеждения фабриканта, установленные судом, не были бы так опасны. А ежели господин Лауэр надеялся на признательность рабочих, то теперь он может убедиться в противном, — в том случае, конечно, — добавлял Нотгрошен, — если ему в тюрьме разрешают читать социал-демократическую газету. Последняя бросает Лауэру упрек в том, что своим легкомысленным оскорблением величества он поставил под угрозу существование нескольких сот рабочих семейств.
«Нетцигский листок» откликнулся на изменившуюся обстановку и другим весьма характерным шагом. Его издатель Тиц предложил Геслингу поставлять часть бумаги, которая теперь требуется газете. Тираж, мол, повысился, а Гаузенфельдская фабрика перегружена. Дидерих тотчас же решил, что за всем этим стоит сам Клюзинг. Старик был пайщиком газеты, без него там шагу не ступали. Если он добровольно выпускает что-либо из рук, значит боится потерять больше. Областные газеты! Правительственные поставки! Страх перед Вулковым — вот и вся подоплека. Хотя Клюзинг почти не бывает в городе, ему, наверное, стало известно, что Дидерих своими свидетельскими показаниями обратил на себя благосклонное внимание регирунгспрезидента. Старый гаузенфельдский паук, раскинувший свою паутину по всей провинции и даже дальше, почуял недоброе и забеспокоился.
— Он хочет откупиться от меня «Нетцигским листком». Но так дешево от нас не отделаешься. В нынешние-то суровые времена! Да знает ли он, какой у меня размах? Мне бы только заручиться поддержкой Вулкова, и я попросту приберу к рукам гаузенфельдскую фабрику! — воскликнул Дидерих и так хлопнул кулаком по конторке, что Зетбир в испуге подскочил.
— Вам вредно волноваться! — потешался над ним Дидерих. — В ваши-то годы, Зетбир! Допускаю, что в прежние времена от вас был кой-какой толк для фирмы. Но в истории с голландером вы дали маху; застращали меня, а теперь эта машина пригодилась бы для поставок «Нетцигскому листку». Вам пора на покой, у вас уже ничего не клеится.
Одним из последствий, которые процесс имел для Дидериха, было и письмо майора Кунце. Майор выражал желание выяснить печальное недоразумение и сообщал, что никаких препятствий к принятию высокочтимого доктора Геслинга в ферейн воинов{18} нет. Дидериху, умиленному собственным триумфом, захотелось немедленно пожать обе руки старому солдату. К счастью, он навел справки и узнал, что письмом этим обязан самому господину фон Вулкову. Регирунгспрезидент оказал ферейну воинов честь своим посещением и выразил удивление, что не видит среди присутствующих доктора Геслинга. Дидерих понял, что он теперь сила! И соответствующим образом действовал. Он ответил на частное письмо майора официальным посланием, адресованным ферейну, и потребовал, чтобы два члена президиума, майор Кунце и профессор Кюнхен, лично явились к нему. Те не замедлили явиться. Дидерих принял их в конторе между двумя пришедшими по делу посетителями, которым намеренно назначил это же время, и заявил, что согласится на почетное предложение ферейна при одном обязательном условии: если ему поднесут адрес. И тут же сам продиктовал его. В адресе удостоверялось, что доктор Геслинг с бесподобным бесстрашием, невзирая ни на какие наветы, на деле доказал истинно немецкий образ мыслей и верноподданнические чувства. Только благодаря ему удалось нанести сокрушительное поражение анти-националистическим элементам города Нетцига. В борьбе, которая стоила доктору Геслингу больших личных жертв, он действовал, как выдающаяся сильная личность истинно немецкого склада.
На торжестве его приема в ферейн Кунце зачитал адрес, и Дидерих со слезою в голосе объявил себя недостойным столь щедрых похвал. Националистические идеи, сказал он, завоевали успех в Нетциге, и этим мы обязаны после бога высокой особе, чьим светлейшим указаниям он, Дидерих Геслинг, следует с превеликой готовностью… Все, не исключая Кунце и Кюнхена, были растроганы. Незабываемый вечер! Дидерих преподнес ферейну кубок и снова произнес речь; в ней он коснулся трудностей, которые чинятся в рейхстаге новому военному законопроекту.
— Только наш острый меч, — восклицал он, — ограждает наши позиции во всем мире, и «держать его острым» призвал его величество кайзер! Стоит только кайзеру кликнуть клич, и мы выхватим меч из ножен! И пусть та шайка в рейхстаге, которая ставит палки в колеса, пеняет на себя, если он и падет прежде всего на нее. С его величеством шутки плохи, милостивые государи, поверьте! — Дидерих сверкнул очами и так многозначительно кивнул, точно ему было уже кое-что известно. И в то же мгновение у него действительно мелькнула одна мысль. — Недавно, — продолжал он, — на заседании Бранденбургского ландтага кайзер недвусмысленно выразился насчет рейхстага: «Если эти молодчики не дадут мне солдат, я разгоню всю эту лавочку».
Последние слова вызвали бурю восторга, и когда Дидерих выпил со всеми, кто с ним чокался, он уже не мог бы сказать, кто их подлинный автор — он или кайзер. От них исходил магнетизм власти, повергавший в трепет его самого, словно они и в самом деле были подлинными. Наутро они красовались на страницах «Нетцигского листка», а вечером их уже можно было прочесть в «Локаль-анцейгере». Неблагонадежные газеты требовали опровержения, но так и не дождались.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Еще не улеглось волнение высоких чувств, обуревавших Дидериха, как Эмми и Магда получили от фрау фон Вулков приглашение на чашку чая. По всей вероятности, оно было связано со спектаклем, который президентша устраивала на ближайшем вечере в «Гармонии». Носились слухи, что Эмми и Магда получат роли. Сестры вернулись домой возбужденные и радостные: фрау фон Вулков была необычайно любезна, она собственноручно накладывала им на тарелки пирожные. Инга Тиц лопнет от зависти: в спектакле участвуют офицеры! Нужны сногсшибательные туалеты; если Дидерих полагает, что на те полсотни марок… Но на этот раз Дидерих открыл им неограниченный кредит. Он подвергал пристрастной критике все, что они покупали. Гостиная была завалена лентами, искусственными цветами, и Дидерих во все вмешивался; у сестер голова кругом шла. Вдруг явилась гостья: Густа Даймхен.
— Я еще как следует не поздравила счастливую невесту, — сказала она, стараясь изобразить на своем лице покровительственную улыбку, тогда как глаза ее озабоченно скользили по ворохам лент и цветов. — Все это, наверное, для той самой дурацкой пьесы? — продолжала она. — Вольфганг слышал о ней; по его мнению, это невероятно глупая вещь.
— Надо же ему утешить тебя, раз ты не участвуешь, — ответила Магда.
А Дидерих прибавил:
— По его милости вы не вхожи к Вулковым, вот он и ищет себе оправдания.
Густа презрительно рассмеялась:
— Вулковы нас мало интересуют, а на бал в «Гармонии» мы обязательно пойдем.
— Не лучше ли подождать, пока рассеется первое впечатление от процесса? — спросил Дидерих. Он сочувственно взглянул на нее. — На правах старого знакомого беру на себя смелость, милая фрейлейн Густа, сказать вам, что ваша связь с Буками может вам нынче повредить в обществе.
У Густы дрогнули веки, видно было, что ей и самой уже приходила в голову такая мысль.
— С моим Кинастом, — сказала Магда, — слава богу, никаких осложнений нет.
— Но зато господин Бук интересней, — заметила Эмми. — Во время его речи на суде я плакала, точно в театре.
— Да и вообще! — сказала воспрянувшая духом Густа. — Только вчера он подарил мне сумочку.
И она показала позолоченный мешочек, на который уже давно исподтишка поглядывали Эмми и Магда.
— Он, видно, получил большой куш за свое выступление, — подпустила шпильку Магда. — Мы с Кинастом за экономию.
Но Густа все же была удовлетворена.
— Что ж, пойду, — сказала она, — не буду вам мешать.
Дидерих вместе с ней спустился вниз.
— Если будете пай-девочкой, я провожу вас, — предложил он. — Мне только на минуту заглянуть на фабрику. Скоро кончается смена.
— Я пойду с вами, не возражаете? — сказала Густа.
Дидерих решил сразу ее ошарашить и повел прямо в цех, где находилась большая бумагоделательная машина.
— Вам, вероятно, никогда не приходилось видеть этакое чудище?
И он принялся величаво объяснять ей систему тянувшихся во всю длину зала бассейнов, валов и цилиндров, через которую проходила бумажная масса: сначала жидкая, затем все суше и суше, и наконец на другом конце машины уже вертелись большие рулоны готовой бумаги… Густа качала головой:
— Скажите пожалуйста! А грохот-то какой! А жара!
Дидериху этого было недостаточно, он придрался к какому-то пустяку и обрушился на рабочих, а так как под руку подвернулся Наполеон Фишер, виноват во всем оказался он! Оба старались перекричать шум машины. Густа не разбирала слов, а Дидериху, который всегда жил во власти затаенного страха, чудилась знакомая ухмылка, прячущаяся в жиденькой бородке механика, и она, эта ухмылка, означала: помни, что мы с тобой сообщники; она означала открытое отрицание всякого авторитета. Чем больше бесновался Дидерих, тем спокойнее держал себя механик. Само это спокойствие было бунтом! Дидерих, задыхаясь и дрожа от ярости, рванул дверь в упаковочную и пропустил Густу вперед.
— Это социал-демократ! — объяснил он ей. — Такой субъект способен на поджог. Но я его не увольняю, как раз его-то я не хочу увольнять. Посмотрим, чья возьмет! Социал-демократов я беру на себя! — Густа с восторженным изумлением глядела на него. — Вам, верно, и в голову не приходило, на каком опасном посту стоит наш брат! Мужество и верность — вот мой девиз. Понимаете ли, мы с кайзером, каждый в своей сфере, защищаем наши священнейшие национальные принципы! Это вам не речи в суде произносить, тут требуется мужество!
Густа все понимала, она почтительно склонила голову.
— Здесь не так жарко, — сказала она, — а там форменный ад, этим работницам много лучше.
— Им? — сказал Дидерих. — Да они здесь, как в раю.
Он подвел Густу к столу; одна из женщин сортировала листы, другая проверяла, третья отсчитывала кипы по пятьсот листов. Все делалось невероятно быстро, листы как бы сами по себе непрерывной чередой летели навстречу рукам, которые, казалось, растворялись в проходившей через них массе бумаги. Растворялись и руки и плечи, вся женщина, ее глаза, ее мозг, ее сердце. Все это существовало и находилось здесь только для того, чтобы листы бумаги мелькали в воздухе… Густа зевнула, слушая Дидериха, а он рассказывал, что женщинам платят аккордно и поэтому они бывают бессовестно небрежны. Он уже собрался было накинуться на них за то, что в пачку попал лист с оторванным уголком, но Густа задорно, с вызовом сказала:
— Вы воображаете, что Кетхен Циллих вами особенно интересуется… Уверяю вас, не больше, чем кое-кем другим, — прибавила она и на его недоуменный вопрос, что она, собственно, имеет в виду, ответила лишь загадочной улыбкой.
— Я все-таки просил бы сказать.
Густа покровительственно прищурилась.
— Я говорю это только потому, что желаю вам добра. Вы ничего не заметили, правда? Например, как она относится к асессору Ядассону? Да и вообще Кетхен из таких… — Густа вдруг громко рассмеялась, такой оторопелый вид был у Дидериха. Девушка пошла вперед, он последовал за ней.
— К Ядассону? — переспросил он робко.
В это мгновение грохот машины оборвался, задребезжал звонок, возвещавший конец рабочего дня, со двора уже доносились удаляющиеся шаги рабочих.
Дидерих пожал плечами.
— Меня нисколько не интересует поведение фрейлейн Кетхен, — сказал он. — Жаль, правда, старого пастора, если она действительно, как вы говорите… Вы точно знаете?
Густа отвернулась.
— Убедитесь сами, если не верите!
Дидерих польщенно засмеялся.
— Не гасите газ! — крикнул он механику, проходившему мимо. — Я сам выключу.
Двери тряпичного цеха, из которого выходили работницы, были настежь распахнуты.
— О! — воскликнула Густа, — как там романтично! — В сумрачном полусвете зала ей представилось множество красочных пятен на серых холмах, а поверх них — лес ветвей. — Ах, — сказала она, подходя ближе. — Что только не почудится в темноте… а это всего-навсего мешки с тряпьем и трубы отопления. — Она скроила презрительную гримаску. Дидерих разгонял работниц, которые, в нарушение правил, расположились на мешках. Одни, едва закончив работу, взялись за вязанье, другие что-то жевали.
— У вас губа не дура! — рычал он. — На даровщинку греться! Вон!
Медленно, молча, без слова протеста, женщины поднимались и проходили мимо незнакомой дамы, с тупым любопытством оглядываясь на нее и тяжело, точно стадо, топая ногами, обутыми в мужские ботинки. Они уносили с собой удушливые запахи, среди которых жили. Дидерих в упор разглядывал каждую, пока не вышла последняя.
— Фишер! — крикнул он вдруг. — Что там у этой толстухи под платком?
Механик, по обыкновению двусмысленно ухмыляясь, ответил:
— У нее скоро ребеночек будет.
Дидерих с досадой повернулся к нему спиной.
— А я-то думал, что накрыл воровку, — поучал он Густу. — Все они крадут лоскутья. Да-да. Шьют из них детские платьица. — И так как Густа сморщила носик, он добавил: — Да ведь это роскошь для детей пролетариев!
Кончиками пальцев, обтянутых перчаткой, Густа подняла с полу лоскуток. Дидерих внезапно схватил ее за кисть и жадно припал к просвету на застежке перчатки. Густа испуганно оглянулась.
— Ах так, все уже ушли. — Она самодовольно рассмеялась. — Я сразу смекнула, какие такие срочные дела у вас на фабрике.
Дидерих состроил вызывающую мину.
— Ну, а вы? Что вас привело к нам сегодня? Убедились, что я не так уж плох? Конечно, ваш Вольфганг… Не каждый сумеет опозориться так, как он на процессе.
Густа возмутилась:
— Помалкивали бы. Вам никогда не дотянуться до такого благородного человека, как Вольфганг.
Но глаза ее говорили другое. От Дидериха это не укрылось; он возбужденно засмеялся.
— С вами он не торопится! Знаете, что вы для него? Горшок с колбасой и капустой, он предлагает мне помешивать его!
— Лжете, — с убийственным презрением бросила Густа; но Дидерих не оробел.
— С него мало, видите ли, колбасы и капусты, что в горшке… Сначала он думал, что вам достался миллион. Ну, а пятьдесят тысяч марок для такого аристократа не приманка.
Густа вскипела. Дидерих даже попятился — так она разбушевалась.
— Пятьдесят тысяч? Да вы что, спятили? Этого еще не хватало — выслушивать такие бредни! Когда в банке у меня в надежных бумагах триста пятьдесят тысяч! Пятьдесят тысяч! Да вы знаете, что я могу упечь всякого, кто распускает про меня такие возмутительные слухи!
В глазах у нее стояли слезы. Дидерих бормотал извинения.
— Ах, оставьте! — Она вынула носовой платок. — Вольфганг хорошо знает, что получит за мной. Но вы-то, вы! Поверили бессовестным россказням и совсем обнаглели! — вскрикнула она. Ее пухлые розовые щеки дрожали от гнева, вздернутый носик побелел.
Дидерих овладел собой.
— Из этого вы можете только заключить, что вы мне и без денег нравитесь, — нашел он довод в свое оправдание.
Густа закусила губу.
— Кто вас разберет? — сказала она, бросая на него исподлобья капризный и неуверенный взгляд. — Для таких, как вы, и пятьдесят тысяч деньги.
Он решил, что разумнее промолчать. Она достала из своей позолоченной сумочки пушок и пудру.
— До чего же я разволновалась. А все из-за вас. — Но ее уже снова разбирал смех. — Ну, а чем еще замечательна ваша так называемая фабрика?
Он важно кивнул.
— Известно ли вам, на чем вы сидите?
— На мешке с тряпьем!
— Да, но на каком! В этом самом углу, вот за этими мешками, я застукал однажды рабочего и работницу в ту минуту, когда они… вы догадываетесь? Конечно, оба тут же вылетели вон, а вечером, да-да, в тот самый вечер… — в глазах его появилось выражение мистического ужаса: — парня застрелили, а девка сошла с ума.
— Это был… Ах, боже мой, это был тот рабочий, который задел часового?.. И за мешками…
Взгляд ее скользил по мешкам, точно искал на них следы крови. Густа в страхе придвинулась к Дидериху. Оба вздрогнули и посмотрели в глаза один другому: из них глядел один и тот же бездонный омут — не то похоть, не то безумие. Они со свистом дышали друг другу в лицо. Густа на секунду закрыла глаза: и оба рухнули на мешки, скатились с них, сплелись в тесном объятии и в темноте за мешками трепыхались, сопели, фыркали, — словно шли ко дну.
Густа первая выбралась в полосу света. Дидерих хотел удержать ее за ногу, но она лягнула его в лицо и с шумом выскочила из-за мешков. Дидерих благополучно вылез вслед за нею; пыхтя, стояли они лицом к лицу. Грудь Густы и живот Дидериха бурно колыхались. Первая обрела дар слова Густа.
— Для таких забав поищите себе другую! И как только я могла допустить! — Затем, свирепея: — Я же вам сказала: не пятьдесят, а триста пятьдесят тысяч!
Дидерих двинул рукой, как бы в знак раскаяния. Густа вскрикнула:
— Ох, и на кого я похожа! Вы думаете, я в таком виде пойду по городу? — Он опять испуганно посмотрел на нее и растерянно улыбнулся. — Неужели у вас нет щетки? — Он послушно отправился за щеткой. — Только смотрите, чтоб ваши сестры не проведали. А то завтра весь город будет судачить обо мне.
За щеткой идти пришлось в контору. Когда он вернулся, Густа сидела на мешке, уткнувшись лицом в ладони, и сквозь ее милые пухлые пальчики капали слезы. Дидерих остановился, послушал ее всхлипыванья и неожиданно заплакал сам. Он заботливо чистил щеткой ее платье и тихо приговаривал: «Но ведь ничего особенного не случилось!» Она встала.
— Еще чего не хватало! — произнесла она, иронически оглядев его с ног до головы.
Дидерих расхрабрился.
— Вашему уважаемому жениху незачем знать об этом, — сказал он.
— А пусть себе знает! — вырвалось у Густы, но она тут же прикусила губу.
Озадаченный Дидерих продолжал орудовать щеткой; пока он чистил свой костюм, она одергивала на себе платье.
— Пойдемте! — сказала она. — Теперь не скоро меня потянет к вам на фабрику.
— Кто знает, — ответил он, заглядывая ей под шляпку. — Пять минут назад я еще поверил бы, что вы любите Бука, а сейчас ни на грош не верю.
— Напрасно! — воскликнула Густа. И, не переводя дыхания, спросила: — А к чему здесь эта штука?
— Это песочник, — объяснил он, — тряпье проходит через желоб, а пуговицы и все прочее застревает в песке. Видите? Рабочие, конечно, опять не очистили песок.
Кончиком зонта она поковыряла в песке.
— За год у нас накапливается несколько мешков отбросов! — прибавил Дидерих.
— А это что? — спросила Густа и, быстро нагнувшись, подняла что-то блестящее.
Дидерих вытаращил глаза:
— Бриллиантовая пуговица!
— Бриллиант настоящий. — Она полюбовалась игрой камня. — Если вам часто попадаются такие пуговки, то ваше предприятие не так уж убыточно.
— Придется, конечно, вернуть, — неуверенно сказал Дидерих.
Она рассмеялась:
— Кому? Отбросы-то ведь ваши!
Теперь и он засмеялся.
— Да, но не бриллианты. Мы дознаемся, откуда эти лоскутья.
Густа посмотрела на него снизу вверх.
— Вы, как я погляжу, порядочный простофиля, — сказала она.
— Нет, я всего лишь человек чести! — убежденно возразил он. Густа только плечами пожала. Медленно сняла перчатку с левой руки и приложила бриллиант к мизинцу.
— Его надо вправить в колечко! — воскликнула она, точно осененная неожиданной мыслью. Она сосредоточенно созерцала камень на своей руке и вздыхала. И вдруг швырнула бриллиант обратно в мусор: — Ну, так пусть его найдут рабочие!
— Вы с ума сошли! — Дидерих нагнулся, но не сразу нашел бриллиант и, задыхаясь, опустился на колени. В панике он все переворошил. — Славу богу! — Он протянул бриллиант Густе. Она не взяла.
— Пусть достанется рабочему, который первый увидит его завтра. Он спрячет его, уверяю вас, он не так глуп.
— Да и я не глуп, — сказал Дидерих. — Вернее всего, его выбросили бы. При таких обстоятельствах я вправе не считать противозаконным… — Он снова приложил бриллиант к ее мизинцу. — И если бы даже это было противозаконно, он вам так идет!
— Да что вы? — Густа была ошеломлена. — Неужели вы хотите подарить мне?
— Полагаю своим долгом, — пробормотал он. — Ведь это ваша находка.
Густа пришла в восторг:
— Это будет мое самое лучшее кольцо.
— Почему? — спросил Дидерих с робкой надеждой.
— Так, вообще… — уклончиво ответила Густа. И, подняв на него глаза, сказала: — Потому что бриллиант этот ничего не стоит, видите ли.
Дидерих покраснел, и они, прищурившись, взглянули друг другу в глаза.
— Ах ты господи! — вскрикнула Густа. — Уже, должно быть, очень поздно! Семь часов! Ужасно! Что я скажу маме? Знаю, знаю, скажу, что откопала его у одного старьевщика, он не разобрался, думал, что бриллиант не настоящий, и продал за пятьдесят пфеннигов. — Она открыла свою позолоченную сумочку и опустила туда драгоценный камень. — Значит, адье… А вид-то у вас! Хоть бы галстук перевязали.
Говоря это, она уже сама принялась за галстук. Ее теплые руки касались его подбородка; влажные, пухлые губы дышали совсем близко от него. Его бросило в жар, он затаил дыхание.
— Ну, вот, — сказала Густа и решительно собралась уходить.
— Минуточку, я выключу газ! — крикнул он ей вслед. — Подождите же.
— Жду! — ответила она со двора.
Но когда он вышел, ее уже нигде не было. Сбитый с толку, он стал запирать фабрику, разговаривая вслух с самим собой:
— Ну, кто скажет, что это: инстинкт или расчет? — Он беспокойно покачал головой, задумавшись над вечной загадкой женственности, олицетворением которой была Густа.
Быть может, размышлял Дидерих, быть может, с Густой все образуется, но что-то очень уж долго тянется эта канитель. События, разыгравшиеся вокруг процесса, ее проняли, но еще недостаточно. Да и Вулков не дает о себе знать. После его столь многообещающего шага в ферейне воинов Дидерих самонадеянно ждал продолжения: быть может, Вулков приблизит его к себе, даст ему какое-нибудь доверительное поручение или что-нибудь еще в этом роде. Возможно, бал в «Гармонии» внесет ясность: недаром же сестры получили роли в пьесе супруги президента. Но для Дидериха события развертывались крайне медленно, он был исполнен жажды деятельности. Такое уж было время, все бурлило и куда-то устремлялось. От надежд, перспектив, планов кружилась голова; когда начинался день, казалось, вот-вот все сразу осуществится, но день уходил, и оставалась пустота. Дидериху не сиделось на месте. Не раз безразлично проходил он мимо пивной и шел гулять, без цели бродил по дорогам предместий, чего с ним раньше никогда не бывало. Избегая центральных улиц города, он шел тяжелым шагом человека, несущего в себе нерастраченный заряд энергии, по вечерней, безлюдной Мейзештрассе до окраины города, выходил на длинную Геббельхенштрассе, где извозчики запрягали и распрягали лошадей возле постоялых дворов, и часто проходил мимо тюрьмы. Там наверху, за решеткой, охраняемый часовым, сидел Лауэр, которому никогда и не снилось, что его может постичь такая судьба. «Кто высоко возносится, тот низко падает, — думал Дидерих. — Что посеешь, то и пожнешь». И хотя он был не вполне непричастен к событиям, приведшим Лауэра в тюрьму, фабрикант казался ему теперь чудовищем, отмеченным печатью Каина, в этом человеке ему мнилось что-то зловещее. Однажды Дидериху показалось, что на тюремном дворе маячит какая-то фигура. Было уже темно, но, быть может, все-таки?.. Мурашки побежали по спине у Дидериха, и он поспешил прочь.
Шоссе, начинавшееся за городскими воротами, вело на пригорок, где стоял тот самый замок Швейнихен, к которому фрау Геслинг некогда приводила маленького Дидериха, и оба — мать и сын — изнывали от сладостной жути, представляя себе привидение, обитавшее в замке. Но теперь не эти детские фантазии занимали его; теперь, едва выйдя на шоссе, он сворачивал на гаузенфельдскую дорогу. Это выходило как будто случайно, незаметно для него самого — ему не хотелось, чтобы кто-нибудь ненароком увидел его здесь. Но он ничего не мог поделать с собой, большая бумажная фабрика влекла его, как запретный рай, ему хотелось подойти к ней как можно ближе, обойти кругом, подсмотреть, что делается за ее стенами… Как-то вечером, когда было уже совсем темно, его вспугнули чьи-то голоса. Он едва успел прыгнуть в канаву и присесть на корточки. В ту минуту, когда люди, вероятно запоздавшие служащие фабрики, проходили мимо Дидериха, он крепко зажмурил глаза от страха и смутной боязни, как бы горящее в них вожделение не выдало его.
Все еще с сильно бьющимся сердцем Дидерих дошел до городских ворот и тут решил поискать, где бы выпить кружку пива. В углу, за выступом стены, находился грязный, покосившийся от старости трактир «Зеленый ангел», заведение самого низкого пошиба и весьма дурной славы. Дидерих увидел, как под его сводчатым входом промелькнула женская фигура. Внезапно охваченный жаждой приключений, он ринулся за ней. Попав в полосу красноватого света, отбрасываемого фонарем, женщина, лицо которой было скрыто вуалью, хотела заслониться еще и муфтой; но Дидерих уже узнал ее.
— Добрый вечер, фрейлейн Циллих!
— Добрый вечер, господин доктор!
И вот оба, раскрыв от неожиданности рот, стоят друг против друга. Кетхен заговорила первая, начала что-то плести о детях, живущих в этом доме, ей, мол, поручено привести их в воскресную школу ее отца. Дидерих хотел было что-то сказать, но она буквально засыпала его словами. Нет, дети, собственно говоря, живут не здесь, но их родители бывают в этом трактире, а от них надо все скрыть, это социал-демократы… Она без конца что-то измышляла, и Дидерих, который все еще боялся, что его могут поймать на месте преступления, наконец, сообразил, что Кетхен попала в еще более щекотливое положение. Он не стал объяснять, какими судьбами оказался здесь, а попросту предложил зайти в «Зеленый ангел» и там подождать детей. Она испуганно отказывалась что-либо съесть или выпить, но Дидерих, уже не спрашивая, заказал пиво для себя и для нее.
— За ваше здоровье! — сказал он, и в ироническом выражении его лица явно сквозило воспоминание об их последней встрече в уютной гостиной пасторского дома, когда они чуть было не обручились. Кетхен то краснела, то бледнела под своей вуалью и расплескивала пиво. Она растерянно вскакивала со стула и порывалась уйти; но он загнал ее в угол позади стола и широко расселся перед ней.
— Дети, наверное, скоро придут, — благодушно говорил он.
Но вместо детей пришел Ядассон, он вдруг вырос перед ними и застыл на месте, точно каменное изваяние. Застыли и Дидерих с Кетхен. «Значит, все-таки правда», — подумал Дидерих. У Ядассона, вероятно, мелькнула эта же мысль; ни тот, ни другой не нашлись что сказать друг другу. Кетхен снова завела свое — о детях и воскресных школах. Голос у нее был молящий, она чуть не плакала. Ядассон слушал ее с недовольной миной и даже не удержался от замечания, что тут ничего не разберешь, сам черт ногу сломит, — и инквизиторским взглядом уставился на Дидериха.
— В сущности, — сказал Дидерих, — все очень просто, фрейлейн Циллих ищет здесь детей, а мы оба ей помогаем.
— А заполучит ли она хоть одного, этого нельзя сказать, — съязвил Ядассон.
— И от кого — тоже нельзя сказать, — ответила Кетхен.
Мужчины поставили свои стаканы на стол. Кетхен перестала плакать, даже подняла вуалетку и удивительно светлыми глазами смотрела то на одного, то на другого. Голос ее звучал теперь безбоязненно звонко.
— Ну что ж, раз вы оба здесь! — сказала она, взяла сигарету из портсигара Ядассона и опрокинула в себя коньяк, стоявший перед Дидерихом. Теперь пришла его очередь диву даваться. Ядассону, видимо, второе лицо Кетхен было не в новость. Они долго перебрасывались двусмысленными замечаниями, пока Дидерих не накинулся на Кетхен.
— Сегодня я вас узнал досконально! — крикнул он и ударил кулаком по столу.
Кетхен тотчас же заговорила тоном светской дамы:
— Что вы хотите этим сказать, господин доктор?
— Полагаю, что вы не посягнете на честь дамы? — поддержал ее Ядассон.
— Я хотел лишь сказать, — пробормотал Дидерих, — что фрейлейн Циллих мне теперь больше нравится. — Он растерянно таращил глаза. — Еще совсем недавно, когда мы едва не обручились, она мне и вполовину так не нравилась.
Кетхен расхохоталась — расхохоталась от всего сердца, Дидерих даже не подозревал, что она умеет так смеяться. Этот смех приятно согрел его, он засмеялся вместе с ней. Ядассон не отстал, и все трое, извиваясь от хохота, крикнули кабатчику, чтобы подал еще коньяку.
— Ну, мне пора, не то папаша явится домой раньше меня, — сказала Кетхен. — Он отправился на обход больных, он раздает им вот эти картинки. — Она вытащила из сумочки две ярко раскрашенные открытки. — Возьмите на память.
Ядассону досталась грешница Магдалина. Дидериху — агнец с пастухом. Дидерих был недоволен.
— Я тоже хочу грешницу.
Кетхен порылась в сумочке, но не нашла больше грешниц.
— Придется довольствоваться овечкой, — решительно сказала она, и, взявшись под руки, все трое, — Кетхен между мужчинами, — вышли из кабачка. Кетхен затянула псалом, мужчины подхватили, и так, спотыкаясь и отклоняясь то к одной стороне улицы, то к другой, они тащились по скудно освещенной Геббельхенштрассе. На первом же углу Кетхен объявила, что ей нужно торопиться, и нырнула в переулок.
— Прощай, овечка! — крикнула она Дидериху, который порывался догнать ее. Ядассон крепко держал его и, заговорив вдруг голосом блюстителя государственного порядка, стал внушать, что все это не больше чем безобидная шутка.
— Заявляю вам, что тут нет ни малейшего повода к недоразумению.
— Мне и в голову не приходит усматривать тут недоразумение, — сказал Дидерих.
— И если бы, — продолжал Ядассон, — семья Циллих предпочла меня другим и пожелала вступить со мной в родственные отношения, сегодняшний эпизод меня нисколько не смутил бы. Долгом своим почитаю сказать об этом.
— Уверяю вас, — ответил Дидерих, — что сумею оценить ваш корректный образ действий.
Затем оба щелкнули каблуками, обменялись крепким рукопожатием и расстались.
Прощаясь, Кетхен и Ядассон подмигнули друг другу, и Дидерих нисколько не сомневался, что оба сейчас же вернутся в «Зеленый ангел». Он расстегнул пальто и выпятил грудь, чувствуя прилив гордости: ему удалось вовремя увидеть коварную западню и избежать ее, не нарушая кодекса приличий. Ядассон вызывал у него теперь некоторое уважение и даже симпатию. Он и сам вел бы себя точно так же. Мужчинам нетрудно понять друг друга. Но она! Пасторская дочь, преобразившаяся в распутную женщину, это второе обличье Кетхен, эта опасная двойственность, столь далекая от простодушной честности, которую Дидерих ощущал в глубине собственного сердца, потрясли его, будто он заглянул в омут. Дидерих застегнул пальто. Значит, кроме бюргерского мира и мира, в котором живет теперь господин Лауэр, есть еще и другие миры…
Громко сопя, он сел за стол. Он был так мрачен, что все три женщины ужинали в полном молчании. Фрау Геслинг набралась храбрости и спросила:
— Тебе сегодня ужин не по вкусу, дорогой мой сын?
Вместо того чтобы ответить, Дидерих напустился на сестер.
— К Кетхен Циллих извольте забыть дорогу! — Сестры с изумлением посмотрели на него, а он покраснел и выпалил в сердцах: — Это погибшее создание!
Но они только скривили губы, и как ни шумел он, как ни старался пронять их страшными намеками, сестры не очень-то пугались.
— Ты, вероятно, говоришь о Ядассоне? — равнодушно спросила Магда.
Дидерих отпрянул. Видно, все женщины одним миром мазаны, одной ниточкой связаны… И Густа Даймхен тоже! Она уже однажды заводила об этом разговор. Он вытер взмокший лоб.
— Если у тебя были серьезные намерения насчет Кетхен, ты напрасно нас раньше не спросил.
Дидерих, защищая свое мужское достоинство, с такой силой оттолкнул от себя стол, что мать и сестры взвизгнули. Он не допустит, чтобы его подозревали в чем-либо подобном, кричал он. Еще не перевелись, надо надеяться, порядочные девушки. Фрау Геслинг дрожащим голосом уговаривала его:
— Стоит лишь взглянуть на твоих сестер, дорогой мой сын.
И Дидерих в самом деле взглянул на них; прищурился и впервые, не без страха в душе, подумал, что в сущности ничего не знает о жизни этих двух созданий, своих сестер…
— Что там говорить! — решительно отмахнулся он. — Вас просто нужно покрепче держать в руках. Своей жене я спуску не дам.
Девушки, улыбаясь, переглянулись, и Дидерих испугался — он подумал о Густе Даймхен; не ее ли они имеют в виду? Ни одной нельзя верить. Он видел перед собой Густу, ее белокурые волосы, ее полное, розовое лицо. Вот она раскрывает пухлые губы и высовывает ему язык. Совсем, как Кетхен Циллих, когда она крикнула ему: «Прощай, овечка!» Густа, которая так похожа на Кетхен, с высунутым языком и полупьяная, ничем бы от нее не отличалась!
— Кетхен круглая дура, — сказала Магда, — но если без конца приходится ждать и никто не является, то ее можно понять.
— Ты на кого это намекаешь? — немедленно отреагировала Эмми. — Если бы Кетхен захотела удовольствоваться каким-нибудь Кинастом, она давно уже не ждала бы.
Магда, гордая сознанием своего успеха, выпрямилась и промолчала.
— Да и вообще! — Эмми отбросила салфетку и встала. — Не понимаю, как ты можешь сразу же поверить тому, что болтают насчет Кетхен мужчины? Это отвратительно! Неужели нам нигде нет защиты от безобразных мужских сплетен?
Кипя негодованием, она забилась в угол дивана и раскрыла книгу. Магда только плечами пожала. А испуганный Дидерих тщетно искал повода спросить: может быть, и Густа Даймхен тоже?.. Ведь свадьба ее все откладывается…
— Бывают положения, — изрек он, — когда утверждать что-либо не значит сплетничать.
Тут Эмми отшвырнула от себя книгу.
— А хотя бы и так! Кетхен делает что ей вздумается! Мы, девушки, тоже вправе пожить в свое удовольствие. И пусть радуются мужчины, если после этого им еще удается жениться на нас.
Дидерих встал.
— Таких разговоров я в своем доме не потерплю, — сказал он серьезно и до тех пор сверлил глазами Магду, пока та не перестала смеяться.
Фрау Геслинг принесла ему сигару.
— Я уверена, что мой Дидель на такой девушке не женился бы. — И она успокаивающе погладила его.
Подчеркивая каждое слово, он сказал:
— Я не могу себе представить, мама, чтобы немец, истинный немец, когда-либо согласился на это.
— О, далеко не все такие идеалисты, как мой дорогой сын, — польстила она ему. — Для многих материальный интерес превыше всего, и в придачу к деньгам они готовы взять и многое другое… о чем болтают люди. — Под повелительным взглядом Дидериха она продолжала боязливо лопотать: — Взять, к примеру, Даймхена. Господи боже, он умер, и теперь ему все это безразлично, но в свое время толков было много. — Сейчас уже все трое не сводили с нее настойчиво вопрошающих глаз. — Ну да, — пояснила она робко, — я говорю об истории с фрау Даймхен и господином Буком. Ведь Густа родилась раньше времени.
После этих слов фрау Геслинг пришлось поспешно ретироваться за экран перед камином, так как брат и сестры одновременно ринулись к ней.
— Вот так новость! — восклицали Эмми и Магда. — Расскажи поподробней!
Но Дидерих расшумелся. Он требует немедленно прекратить эти бабьи сплетни.
— Мы же слушали твои мужские сплетни! — кричали сестры, пытаясь оттащить его от экрана. Мать, ломая руки, смотрела на эту рукопашную схватку.
— Я же ничего не сказала, дети! Но только тогда все кругом это говорили, да и господин Бук ведь подарил приданое фрау Даймхен.
— Значит, вот откуда все берется! — воскликнула Магда. — Вот они, дядюшки, оставляющие наследство! Вот откуда позолоченные сумочки!
Дидерих взял под защиту наследство, полученное Густой.
— Оно из Магдебурга!
— А жених? — спросила Эмми. — Жених тоже из Магдебурга?
Внезапно все умолкли и точно оглушенные переглянулись. Эмми притихла, вернулась на диван и снова взяла в руки книгу. Магда принялась убирать со стола. Дидерих подошел к экрану, за которым пряталась фрау Геслинг.
— Видишь, мама, что получается, когда распускают язык? Ты ведь не хочешь сказать, что Вольфганг женится на собственной сестре?
Из-за ширмы, словно из бездны, донесся плаксивый голос:
— Я тут ни при чем, мой дорогой сын! Я и думать забыла об этой старой истории, да и кто знает, сколько тут правды. Теперь уже ни одна живая душа не помнит об этом.
— Но старик Бук помнит! — не отрываясь от книги, бросила Эмми. — Он-то знает, откуда берет теперь деньги для сына.
А Магда сказала, заслоняясь скатертью, которую складывала:
— Всякое бывает.
Тут Дидерих воздел руки, точно взывая к небу о помощи. Но он вовремя подавил одолевавший его ужас.
— Куда я попал? В разбойничий вертеп? — деловито осведомился он и, выпрямившись, твердым шагом направился к двери. На пороге он обернулся. — Конечно, не в моих силах помешать вам растрезвонить по городу вашу очаровательную новость. Что до меня, то я всем объявлю, что не имею с вами ничего общего. В газетах напечатаю. — И он вышел.
Ему не хотелось в погребок, и он, сидя в одиночестве у Клапша, задумался о мире, в котором происходят такие ужасы. В белых перчатках, разумеется, их не одолеть. Для того, кто захочет вырвать у Буков их позорную добычу, любые средства хороши.
— Бронированным кулаком! — сурово произнес он и так застучал крышкой, требуя четвертую кружку, словно мечом бряцал… Но понемногу он потерял свой грозно-воинственный вид: начались колебания. Если сейчас поднять возню вокруг этого дела, весь город будет пальцами показывать на Густу Даймхен. И тогда ни один мужчина, если у него осталась хоть капля уважения к правилам чести и приличия, не позволит себе жениться на Густе. Это подсказывал Дидериху собственный внутренний голос, привитые ему принципы мужественности и идеализма, которые вошли в его плоть и кровь. Жаль! Жаль триста пятьдесят тысяч марок Густы, они пропадают без хозяйской руки, без разумного применения. А у Дидериха теперь, пожалуй, есть полная возможность найти им применение. Но он возмущенно отогнал от себя эту мысль. Он лишь выполнит свой долг! Необходимо помешать преступлению. А что принесет женщине поединок двух мужчин — это ее дело. Стоит ли думать о судьбе этого существа, одного из тех, которые способны на любое предательство, в чем Дидерих лично убедился. На пятой кружке пива у него созрело твердое решение.
За утренним кофе он проявил большой интерес к туалетам сестер для бала в «Гармонии». Осталось всего-навсего два дня, а еще ничего не готово! Домашнюю портниху рвали что называется на части, она шила теперь повсюду: у Буков, у Тицев, у Гарнишей. Дидерих вошел в раж. Он вызвался самолично пойти к ней и, чего бы это ни стоило, притащить сюда девушку. Ему удалось выполнить свое обещание, правда, не без труда. Ко второму завтраку он так бесшумно вошел в дом, что шагов его не услышали и разговор в соседней комнате не прервался. Как раз в эту минуту портниха намеками рассказывала какую-то скандальную историю, перед которой бледнело решительно все. Сестры делали вид, что ничего не понимают, и когда, наконец, портниха назвала имена, они пришли в ужас и ничему не хотели верить. Громче всех ужасалась фрау Геслинг: неужели фрейлейн Гериц может допустить такую мысль! А портниха уверяла, что эта новость уже облетела весь город. Не далее как вчера она работала у бургомистерши, ее мать решительно требовала, чтобы зять вмешался в это дело! И все же портнихе лишь с трудом удалось убедить фрау Геслинг и ее дочерей. Дидерих ожидал скорее обратного. Он остался доволен своими. Но неужто у стен и вправду есть уши? Выходит, что слух, родившийся в запертой комнате, уносится вместе с дымом из печи на улицу и проникает во все углы и закоулки города.
Однако ему было мало этого. Он сказал себе, что здоровый инстинкт труженика при известных обстоятельствах является положительным фактором и на нем можно сыграть. До самого обеда он увивался вокруг Наполеона Фишера, но вдруг — уже раздался звонок! — возле сатинировальной машины раздался душераздирающий вопль. Дидерих и механик, вместе ринувшиеся на крик, извлекли из машины руку молодой работницы, затянутую стальным валом. С руки стекала черная кровь; Дидерих распорядился немедленно позвонить в городскую больницу. Как ни-дурно ему было от вида изувеченной руки, он не отходил от работницы, пока ей делали временную перевязку. Девушка, жалобно всхлипывая, смотрела на свою руку, и в ее кротких глазах светился ужас, точно у молодого раненого животного. Она не слышала человеколюбивых расспросов Дидериха о ее домашних условиях, вместо нее отвечал Фишер. Отец сбежал, мать прикована к постели болезнью: девушка кормит себя и двоих малышей. А самой всего четырнадцать лет.
— По ней этого не скажешь, — заметил Дидерих. — Работниц не раз предупреждали, что эта машина требует осторожности в обращении. Девчонка сама виновата, я ответственности не несу. Впрочем, — добавил он мягче, — пойдемте ко мне, Фишер.
В конторе он достал две рюмки и налил коньяку.
— Не вредно и подкрепиться после таких волнений. Скажите честно, Фишер, вы считаете, что я обязан платить? Разве предохранительные приспособления на машине не действуют? — Механик пожал плечами. — Вы хотите сказать, что все зависит от суда? Но я судиться не буду, я заплачу без всякого суда…
Наполеон Фишер в недоумении оскалил крупные желтые зубы, а Дидерих продолжал:
— Да, а вы как думали? Вы, верно, считаете, что на подобный поступок способен только Лауэр? Что касается этого господина, то ваша собственная партийная газета разъяснила, чего стоят его заигрывания с рабочими. Со мной, конечно, такого не случится, чтоб засесть в тюрьму за оскорбление величества и оставить своих рабочих без куска хлеба. Я выбираю более практические средства для выражения своих социальных взглядов. — Он сделал торжественную паузу. — Вот почему я решил выплачивать девушке заработную плату, пока ей придется лежать в больнице. Кстати, сколько она получает? — быстро спросил он.
— Полторы марки, — сказал Наполеон Фишер.
— Ну, что ж… Пусть она хоть два месяца пробудет в больнице. Даже три… Разумеется, вечно платить я не намерен.
— Ей всего четырнадцать лет, — сказал Наполеон Фишер, глядя исподлобья. — Она может требовать компенсации за увечье.
Дидерих испуганно засопел.
На лице Наполеона Фишера уже опять играла его неопределенная улыбка, он смотрел, как хозяин трусливо сжимает в кармане кулак. Дидерих вынул руку.
— А теперь ступайте и сообщите рабочим о моем великодушном решении! Я спутал ваши карты, а? Толковать о низостях капиталистов вам куда приятнее! В старика Бука вы теперь, наверно, мечете на своих собраниях громы и молнии!
Наполеон Фишер в недоумении вытаращил глаза, но Дидерих сделал вид, будто ничего не замечает.
— Да и на мой взгляд не очень-то благопристойно, — продолжал он, — если кто-либо женит сына именно на той девушке, с матерью которой у него были шуры-муры незадолго до рождения этой девушки… Но…
В лице Наполеона Фишера что-то дрогнуло.
— Но… — патетически повторил Дидерих, — я отнюдь не желал бы, чтобы мои рабочие об этом трезвонили. А вам, Фишер, незачем науськивать их на городские власти только потому, что один из советников магистрата совершил нечто такое, чего и доказать нельзя. — Он в негодовании потряс кулаком. — Обо мне уже распространяли слух, будто я подстроил процесс против Лауэра. Я не хочу больше никаких сплетен, пусть рабочие помалкивают.
Он наклонился к механику и перешел на более интимный тон:
— Ну, а так как я знаю, Фишер, каким влиянием вы пользуетесь…
Он неожиданно раскрыл руку: на его ладони лежали три крупные золотые монеты.
Наполеон Фишер посмотрел на них, и лицо его перекосилось, словно он увидел самого сатану.
— Нет! — воскликнул он. — Нет и нет! Своим убеждениям я никогда не изменю! За все золото мира не изменю!
Глаза его покраснели, он взвизгивал. Дидерих попятился; ему еще не доводилось так близко заглядывать в лицо крамолы.
— Мы выведем правду на свет! — пронзительно кричал Наполеон Фишер. — Это наше, пролетариев, кровное дело! И здесь уж, господин доктор, вы нам не помешаете! Гнусные деяния имущих классов…
Дидерих живо налил ему рюмку коньяку.
— Фишер, — подчеркнуто сказал он, — деньги я предлагаю вам за то, чтобы мое имя в этом деле не было названо.
Но Наполеон Фишер не желал ничего слушать; он гордо откинул голову.
— У нас, господин доктор, не практикуется принудительное привлечение свидетелей. Нет, мы таких вещей не делаем. Если кто снабжает нас агитационным материалом, ему не о чем беспокоиться.
— Ну, значит, все в порядке, — сказал Дидерих, облегченно вздохнув. — Я никогда не сомневался, Фишер, что вы большой политик. И поэтому насчет той девушки, я имею в виду пострадавшую работницу… Только что я вам оказал большую услугу, рассказал о гнусных поступках Бука…
Наполеон Фишер польщенно ухмыльнулся.
— Господин доктор изволили сказать, что я большой политик… И я, конечно, постараюсь замять вопрос о компенсации за увечье. Знать всю подноготную любого представителя высших кругов для нас важнее, чем…
— …судьба одной работницы, — закончил за него Дидерих. — Вы всегда рассуждаете, как политик.
— Всегда, — подтвердил Наполеон Фишер. — До свиданья, господин доктор.
Он вернулся в цех. Дидерих пришел к выводу, что пролетарская политика имеет свои хорошие стороны. И сунул обратно в карман свои золотые.
На следующий день вечером в гостиную снесли зеркала со всего дома; Эмми, Магда и Инга Тиц так вертелись перед ними, что едва не свернули себе шею; наконец они нервно присели на краешек стула.
— О боже, ведь уже пора!
Но на этот раз Дидерих твердо решил не приезжать слишком рано, как на процесс Лауэра. Не жди фурора от своего появления, если ты пришел одним из первых. Когда они, наконец, собрались в дорогу, Инга Тиц еще раз попросила извинения у фрау Геслинг, что заняла ее место в карете.
— Ах, господи, — повторила фрау Геслинг, — да ведь я с удовольствием. Для меня, старухи, такие многолюдные вечера очень утомительны. Веселитесь, детки! — И она, прослезившись, обняла дочерей, которые холодно отстранились. Они знали, что мать попросту трусит, ибо теперь везде судили и рядили только об одном — о чудовищной сплетне, которую она пустила.
В карете Инга тотчас же заговорила на эту тему.
— Да, Буки и Даймхен! Ужасно любопытно, хватит ли у них смелости появиться сегодня в «Гармонии».
— Им нельзя не приехать, — спокойно заметила Магда. — Своим отсутствием они подтвердили бы, что это правда.
— А хотя бы и так! — сказала Эмми. — По-моему, это их личное дело. Меня оно нисколько не волнует.
— Меня тоже, — присоединился к ней Дидерих. — Впрочем, я только от вас сегодня обо всем услышал, фрейлейн Тиц.
Инга Тиц вспыхнула. Так легко к этой скандальной истории отнестись нельзя. Может быть, Дидерих решил, что она, Инга, все это сочинила?
— У Буков давно уже душа не на месте: даже слуги все знают.
— Ну, значит, сплетня состряпана в людской, — сказал Дидерих, слегка толкнув Магду, которая тоже, будто нечаянно, задела его колено.
Тут всем пришлось выйти из кареты и спуститься по лестнице, соединяющей новую часть Кайзер-Вильгельмштрассе с низко расположенной Рикештрассе. Дидерих ворчал: пошел дождь, и бальные туфли промокли. К тому же у входа в празднично освещенную «Гармонию» толпились бедняки; они неприязненно пялили глаза на публику. Разве нельзя было снести такую развалину, когда перестраивали эту часть города? Надо, видите ли, сохранить историческое здание «Гармонии»! Как будто у города нет средств воздвигнуть где-нибудь в центре современное первоклассное здание для общественных увеселений? Эти старые стены пропахли плесенью! А когда дамы входили в «Гармонию», они всегда хихикали, потому что на статуе Дружбы, украшавшей вестибюль, был высокий парик и ничего больше.
— Осторожно, — поднимаясь по лестнице, говорил Дидерих. — Не то провалимся в тартарары.
Тонкие дугообразные перила тянулись вдоль лестницы, как две исхудалые от старости руки. Темно-розовое дерево перил выцвело от времени. Наверху, там, где эти руки соединялись, улыбалось блестящее мраморное лицо бургомистра с косичкой, который оставил все это городу и тоже был из рода Буков. Дидерих с досадой отвел глаза.
В длинной зеркальной галерее стояла полная тишина, лишь в глубине маячила одинокая женская фигура, она заглядывала через дверную щелку в зрительный зал; девушки пришли в ужас: представление, как видно, началось. Магда с плачем, чуть не бегом бросилась вперед. Глядевшая в щелку дама повернулась и приложила палец к губам. Это была фрау фон Вулков, автор пьесы. Она взволнованно улыбалась и шептала:
— Пока все хорошо, моя пьеса нравится. Вы вовремя поспели, фрейлейн Геслинг, ступайте переоденьтесь.
Ах да, ведь Эмми и Магда выступают во втором действии. У Дидериха, как и у всех, тоже голова кругом пошла. Пока сестры с Ингой Тиц, которая вызвалась помочь им, спешили через служебные помещения в артистическую, Дидерих представился супруге господина регирунгспрезидента и в смущении стоял перед ней.
— Сейчас нельзя входить, вы помешаете, — сказала она.
Пробормотав извинения, он стал разглядывать стенные росписи и между ними — полуслепые зеркала, в которых видел собственное таинственно-бледное отражение. На нежно-желтом лаке, покрывавшем стены, обозначились причудливые узоры трещин, на росписях угасали краски цветов и человеческих лиц… Фрау фон Вулков прикрыла маленькую дверь, и Дидериху показалось, что в галерею кто-то вошел: это была нарисованная на двери пастушка с украшенным бантами посохом. Президентша осторожно затворила дверь, боясь помешать ходу действия на сцене, и все-таки в воздух взвилось легкое облачко пыли, словно с волос пастушки посыпалась пудра.
— Как здесь романтично! — прошептала фрау фон Вулков. — Вы не находите, господин доктор? Когда я смотрю в эти зеркала, мне чудится, будто на мне кринолин.
Дидерих, теряясь все больше и больше, посмотрел на ее слишком широкое платье. Голые плечи, худые и сутулые, почти белобрысые волосы; в довершение всего фрау фон Вулков носила пенсне.
— Эта рамка словно создана для вас, сударыня… графиня, — поправился он и тут же был награжден улыбкой за столь смелую лесть. Напомнить фрау фон Вулков, что она урожденная графиня Цюзевиц, было ловким ходом, на который не всякий способен.
— В самом деле, — сказала она, — с трудом верится, что этот дом строился не для подлинно аристократического общества, а всего лишь для добрых нетцигских бюргеров. — Она покровительственно улыбнулась.
— Да, это странно, — шаркнув ножкой, подтвердил Дидерих. — Но в наше время только вы, графиня, можете чувствовать себя здесь в своей стихии.
— Вы несомненно обладаете чутьем к прекрасному, не правда ли? — высказала предположение фрау фон Вулков и, так как Дидерих не отрицал этого, заявила, что в таком случае ему грешно было бы пропустить весь первый акт: пусть смотрит в дверную щелку. Сама она давно уже, переминаясь с ноги на ногу, заглядывала в зал. Она указала веером на сцену.
— Майор Кунце сейчас уйдет. Он не подходит к этой роли, но что вы хотите, майор член правления «Гармонии», он единственный, кто сумел понять и растолковать всем художественную ценность пьесы.
Пока Дидерих, без особого труда узнав майора, который нисколько не изменился, смотрел на сцену, авторша скороговоркой объясняла ему все, что там происходит. Молодая крестьянская девушка, с которой разговаривает Кунце, это его побочная дочь, следовательно графская дочь, откуда и название пьесы «Тайная графиня»… В эту минуту Кунце, желчный, как всегда, брюзгливо просвещал на этот счет свою дочь. Объявив затем, что выдает ее за бедного родственника и завещает ей половину своих владений, он ушел, а графская дочь и ее приемная мать, добродетельная арендаторша, шумливо выражали свою радость.
— Кто эта ужасная особа? — нечаянно вырвалось у Дидериха.
Фрау фон Вулков удивленно взглянула на него.
— Да ведь это комическая старуха из городского театра. Мы больше никого не нашли для этой роли, но моя племянница с большим удовольствием играет с ней.
Дидерих перетрухнул. Он имел в виду именно племянницу, когда говорил об ужасной особе.
— Ваша уважаемая племянница прелестна, — немедленно заверил Дидерих президентшу и восхищенно заморгал, глядя на толстое, краснощекое лицо, — голова была насажена прямо на плечи, на вулковские плечи! — Да и талантлива! — прибавил он для верности.
Фрау фон Вулков прошептала:
— Смотрите!
Из-за кулис вышел асессор Ядассон. Какой сюрприз! Его брюки были тщательно отутюжены, во внушительном вырезе визитки виднелся громадных размеров галстук, в котором рдел красный камень соответствующей величины. Но как ни сверкал камень, уши Ядассона рдели еще ярче. Он только что остригся, оголенные, они торжествующе торчали и точно два фонаря освещали все великолепие его праздничного наряда. Ядассон развел руки в желтых перчатках, словно требовал в обвинительной речи многолетнего заключения для подсудимого. Он и в самом деле наговорил ошеломленной вулковской племяннице и рыдающей комической старухе кучу неприятных вещей… Фрау фон Вулков прошелестела:
— Это злодей.
— Еще какой!
— Вы разве знакомы с моей пьесой?
— Ах, вот оно что! Нет, не знаком, но мне уже ясно, что он задумал.
А дело было в том, что Ядассон, сын и наследник старого графа Кунце, все подслушал и отнюдь не был склонен уступить половину ниспосланных ему богом владений вулковской племяннице. Тоном повелителя он приказал ей немедленно очистить поле битвы, иначе он объявит ее лженаследницей и велит арестовать, а отца лишит права опеки.
— Какая низость, — сказал Дидерих, — ведь она его сестра.
— Совершенно верно, — объяснила ему президентша. — Но, с другой стороны, он прав, стремясь превратить все земли отца в майоратное владение, он отстаивает интересы рода и ради них готов кого угодно убрать с дороги. Для тайной графини это, конечно, трагедия.
— Трезво рассуждая…
Дидерих очень обрадовался. Такая аристократическая точка зрения и ему на руку: он сам ничуть не склонен делать Магду совладелицей предприятия, когда она выйдет замуж.
— Графиня, ваша пьеса превосходна, — проникновенно сказал он. Но фрау фон Вулков в страхе дернула его за рукав: в зале поднялся какой-то шум — шарканье, чиханье, хихиканье.
— Он шаржирует, — простонала фрау фон Вулков. — Говорила же я…
Ядассон действительно вел себя неслыханно. Он загнал вулковскую племянницу и комическую старуху в угол за столом и заполнил всю сцену шумными проявлениями своей графской индивидуальности. Чем сильнее протестовали зрители, тем больше давал он волю своим страстям. Кто-то зашикал, и даже больше того — многие поглядывали на дверь, за которой стояла охваченная дрожью фрау фон Вулков, и шикали. Быть может, это объяснялось тем, что дверь скрипела, но президентша отпрянула от нее, уронила пенсне и в ужасе растерянно тыкалась во все стороны, пока Дидерих не подал ей пенсне. Он старался ее утешить.
— Все это пустяки, ведь Ядассон, надо думать, скоро уйдет.
Они прислушивались через закрытую дверь.
— Да, слава богу, — с трудом проговорила она: у нее зуб на зуб не попадал. — Он кончил, сейчас моя племянница с комической старухой убегут, а потом опять выйдет Кунце с лейтенантом, понимаете?
— В пьесе есть и лейтенант? — спросил Дидерих с почтительным удивлением в голосе.
— Да, вернее, он еще гимназист, это сын председателя суда господина Шпрециуса, понимаете? Тот самый бедный родственник, которого граф прочит в мужья своей дочери. Он обещает старику, что весь свет обыщет, а тайную графиню найдет.
— Вполне понятно, — заметил Дидерих. — Это в его собственных интересах.
— Вот увидите, как он благороден.
— Но Ядассон! Смею сказать, графиня, вам не следовало бы давать ему роли, — с упреком и затаенным злорадством продолжал Дидерих. — Одни уши чего стоят!
Вконец расстроенная фрау фон Вулков сказала:
— Я не думала, что со сцены они произведут такое впечатление. Вы полагаете, он провалит пьесу?
— Графиня! — Дидерих приложил руку к сердцу. — Такую пьесу, как «Тайная графиня», убить нелегко.
— Не правда ли? Ведь в театральном искусстве важнее всего художественное достоинство пьесы.
— Разумеется. Правда, такая пара ушей тоже не безразлична для… — И Дидерих с тревогой посмотрел на автора пьесы.
Фрау фон Вулков умоляюще воскликнула:
— А ведь второй акт еще лучше! Действие происходит в семье зазнавшегося фабриканта, у которого тайная графиня служит горничной. Там же — учитель музыки, человек сомнительный, он даже поцеловал как-то одну из дочерей, а теперь делает предложение графине, и та, конечно, решительно отвергает его. Учитель музыки! Разве она согласится на это!..
Дидерих подтвердил, что это совершенно исключено.
— Но дальше-то и начинается трагедия: дочь, та самая, которую поцеловал учитель музыки, помолвилась на балу с лейтенантом. Когда лейтенант приходит в дом, то оказывается, что это тот самый, который…
— О боже, графиня! — Дидерих, потрясенный столь запутанной интригой, как бы защищаясь, выставил вперед обе руки. — И как вам все это приходит на ум?
Фрау фон Вулков восторженно улыбнулась.
— Вот это как раз интереснее всего. Я и сама не пойму… Какой-то загадочный процесс… Порой мне кажется, что это у нас в роду.
— В вашем уважаемом роду много писателей?
— Я бы не сказала. Но если бы мой великий прадед не выиграл сражения под Крехенвердой, кто знает, написала бы я «Тайную графиню» или нет. Наследственность — это, знаете ли, основа основ.
При упоминании о битве под Крехенвердой Дидерих шаркнул ножкой и уж не посмел продолжать расспросы.
— Занавес скоро опустится. Вам что-нибудь слышно?
Он ничего не слышал; только для автора не существовало ни дверей, ни стен.
— Теперь лейтенант клянется в вечной верности далекой графине, — шепнула она, и кровь отхлынула у нее от лица. Но через секунду фрау фон Вулков так и вспыхнула: публика зааплодировала. Нельзя сказать, чтобы это была буря аплодисментов, но все же публика аплодировала. Авторша приоткрыла дверь. Занавес снова взвился, и когда молодой Шпрециус и вулковская племянница вышли на вызовы, хлопки усилились.
Вдруг из-за кулис стрелой вылетел Ядассон, он оттеснил молодую чету и прорвался вперед с таким видом, точно хотел весь успех закрепить за собой. Ядассона встретили шиканьем. Фрау фон Вулков негодующе отвернулась. Когда теща бургомистра Шеффельвейса и супруга председателя суда Гарниша поздравляли ее, она заявила:
— Асессор Ядассон немыслим как прокурор. Я скажу об этом мужу.
Дамы поспешили разнести приговор супруги фон Вулкова и имели большой успех. В зеркальной галерее разбившаяся на группы публика только и говорила, что об ушах Ядассона. «Фрау фон Вулков написала прелестную вещь, но вот уши Ядассона…» Однако, узнав, что во втором действии Ядассон не участвует, публика была разочарована. Вольфганг Бук с Густой Даймхен подошли к Дидериху.
— Вы уже слышали? — спросил Бук, — Ядассону, как официальному лицу, придется, говорят, конфисковать собственные уши.
— Я никогда не острю за счет тех, кому не повезло, — назидательно сказал Дидерих.
Он жадно перехватывал взгляды, которыми присутствующие окидывали Бука и его спутницу. При виде этой пары лица у всех оживлялись, Ядассон был моментально забыт. От дверей доносился пронзительный фальцет учителя Кюнхена; перекрывая многоголосый шум, Кюнхен выкрикивал что-то вроде «стыд и срам». Супруга пастора Циллиха, стараясь урезонить его, взяла его за рукав, но он повернулся и уже совершенно явственно крикнул:
— Да, да, беспримерный срам!
Густа оглянулась, глаза ее сузились.
— Там тоже говорят об этом, — таинственно сказала она.
— О чем? — пробормотал Дидерих.
— Мы уже знаем. И кто пустил слух, я тоже знаю.
Дидериха прошиб пот.
— Что с вами? — спросила Густа.
Бук, искоса поглядывавший через боковую дверь на буфетную стойку, хладнокровно произнес:
— Геслинг осторожный политик, он предпочитает затыкать уши, когда при нем говорят, что бургомистр, с одной стороны, прекрасный супруг, но, с другой стороны, и теще не может отказать.
Дидерих мгновенно побагровел:
— Какая низость! И кто только выдумывает подобные мерзости!
Густа захихикала. Бук и бровью не повел.
— По-видимому, так оно и есть, ведь фрау Шеффельвейс накрыла обоих на месте преступления и рассказала обо всем одной из своих приятельниц. Но и без того ясно.
— Вот видите, господин доктор, вы-то никогда не догадались бы. — И она, влюбленно глядя на жениха, подмигнула ему. Дидерих сверкнул очами.
— Так вот оно что! — холодно сказал он. — Теперь мне все понятно.
И он повернулся к ним спиной. Значит, они сами измышляют мерзости, да еще о бургомистре! Дидерих вправе высоко держать голову. Он примкнул к компании Кюнхена, которая шествовала в буфет, распространяя вокруг себя волны благородного негодования. Теща бургомистра, вся пунцовая, клялась, что отныне она на пушечный выстрел не подпустит к себе «эту братию», и несколько дам присоединились к ней; владелец универсального магазина Кон убеждал не торопиться с выводами — все это пока очень и очень сомнительно: совершенно исключено, чтобы столь заслуженный либерал, как господин Бук, способен был на подобное преступление против морали. Учитель Кюнхен считал, что, напротив, чрезмерный радикализм разрушает нравственные устои. Даже доктор Гейтейфель, устраивавший воскресные собрания для свободных людей, обронил замечание, что старик Бук всегда отличался избытком родственных чувств, иными словами — непотизмом. И если он намерен переженить своих внебрачных детей с рожденными в законном браке, лишь бы деньги остались в семье, то для него, Гейтейфеля, диагноз ясен: это старческое перерождение природной склонности, которую раньше умели сдерживать в нормальных пределах.
При этих словах дамы сделали испуганные лица, а пасторша срочно отослала Кетхен в гардеробную за носовым платком.
По дороге Кетхен встретила Густу Даймхен, но не раскланялась с ней, а потупила взор. Густа смешалась. В буфете наблюдали эту сцену и высказали осуждение, подслащенное жалостью. Густе поделом, пусть знает, что значит грешить против общественной нравственности. Возможно, что она жертва обмана, что на нее оказывали плохое влияние, но обер-инспекторша Даймхен? Она-то ведь знает, да ее к тому же и предупреждали! Теща бургомистра рассказывала о своем визите к матери Густы и о напрасных стараниях разбудить совесть и вырвать откровенное признание у этой очерствевшей старухи, для которой законная связь с домом Буков является несомненно осуществлением мечты ее молодости…
— Ну, а адвокат Бук! — фальцетом кричал Кюнхен. — Кого этот господин надеется уверить, будто он знать не знает и ведать не ведает о новом позоре, покрывшем его семью? И разве ему неизвестно, какое преступление творится в доме Лауэров? А все же у него хватает совести публично копаться в грязном белье сестры и шурина, только бы заставить говорить о себе!
Доктор Гейтейфель, который из кожи лез, стараясь загладить, хотя бы задним числом, свое поведение на процессе, объявил:
— Какой из него защитник, комедиант, да и только!
А когда Дидерих заметил, что у Бука есть, пусть спорные, но все же честные взгляды на политику и мораль, ему заявили:
— Господин доктор, вы его друг, и ваше желание взять его под защиту делает вам честь, но вам не удастся втереть нам очки, — после чего Дидерих с удрученным видом отступил, не преминув, однако, бросить взгляд в сторону редактора Нотгрошена, который скромно жевал бутерброд с ветчиной и все слышал.
Внезапно наступила тишина: в зале, недалеко от сцены, все увидели старика Бука, окруженного роем молодых девушек. Он, по-видимому, рассказывал им о былой жизни, отраженной в выцветшей, но сохранившей свой жизнерадостный колорит росписи стен, задававшей тон всему залу: о канувших в вечность лугах и садах, что опоясывали город, о людях, которые некогда шумели в этом праздничном зале, а ныне изгнаны в иллюзорные дали поколением, что теперь шумит здесь… На какое-то мгновенье всем даже почудилось, что девушки и старик точно сошли со стенной росписи. Они стояли как раз под аркой городских ворот, из которых выходил господин в парике, с цепью бургомистра на шее, тот самый, чей мраморный барельеф венчал парадную лестницу. Из цветущей очаровательной рощи, — теперь там дымит бумажная фабрика Гаузенфельд, — навстречу ему, приплясывая, бегут радостные дети, вот они накидывают на него венок и хотят всего его увить гирляндами… Отблеск розовых облачков падает на его счастливое лицо. Такая же счастливая улыбка играла в этот миг и на лице старого Бука; он сдался в плен девушкам, а они окружили его, как живой венок, и теребили со всех сторон. Все отказывались понять его беспечность. Неужели он до такой степени утратил человеческий облик, что собирается свою внебрачную дочь…
— Наши дочери не какие-нибудь незаконнорожденные, — молвила супруга Кона. — А моя Сидония под руку с Густой Даймхен!..
Бук и девушки совсем не заметили, что позади них образовалось пустое пространство. У входа в зал стеной выстроилась враждебно настроенная публика; глаза метали молнии, храбрость росла.
— Эта семейка хочет царить здесь до скончания века! Номер первый уже попал в тюрьму, скоро к нему присоединится номер второй…
— Типичный совратитель! — слышалось глухое ворчание.
— Смотреть тошно! — оказал кто-то.
Две дамы стряхнули с себя оцепенение, набрались смелости и пересекли пустое пространство. Супруга судьи Гарниша катилась шариком, волоча за собой красный бархатный шлейф: секунда в секунду подошла она к финишу вместе с одетой в желтое фрау Кон; одним и тем же движением схватили они — одна свою Сидонию, другая — свою Мету, и с каким триумфом вернулись!
— Я думала, в обморок упаду, — сказала пасторша, когда — слава богу! — Кетхен также оказалась у нее под боком.
Хорошее настроение восстановилось, острили над старым греховодником и сравнивали его с графом из пьесы фрау фон Вулков. Конечно, Густа не тайная графиня; в пьесе, в угоду президентше, таким обстоятельствам можно и посочувствовать. Впрочем, там-то все еще более или менее терпимо, ведь графиня собирается замуж всего лишь за своего кузена, тогда как Густа…
Старик Бук, обнаружив, что все, кроме будущей невестки и одной из племянниц, его оставили, удивленно вскинул брови; больше того, видно было, что под перекрестным огнем устремленных на него взглядов он почувствовал себя неловко. В публике обратили на это внимание, и Дидериха даже взяло сомнение: а может быть, небылица, которую сочинила фрау Геслинг, и вправду самая настоящая быль? Видя, что призрак, которого он же пустил гулять по свету, обретает плоть и кровь и вырастает в нешуточную силу, Дидерих содрогнулся от ужаса. На сей раз удар нанесен не какому-нибудь Лауэру, а старому господину Буку, наиболее почтенной фигуре времен дидериховского детства, отцу города, олицетворявшему его гражданский дух, человеку, приговоренному к смертной казни в сорок восьмом! В душе у Дидериха что-то восставало против им же самим затеянного похода. Да и абсурд это, конечно: такой удар далеко не сломит старика. Если откроется, кто зачинщик, то надо быть готовым к тому, что все от него отвернутся. Но все же удар нанесен и попал в цель. Теперь уже речь шла не только о семье, которая разваливалась, но все еще тяжким грузом висела на старом Буке: брат — без пяти минут банкрот, зять — в тюрьме, дочь — уехала с любовником, а из сыновей — один мужик мужиком, второй неблагонадежен и по убеждениям и по образу жизни; теперь впервые заколебалась почва под ногами у самого старика. Пусть же он падет, дорогу Дидериху Геслингу! И все же Дидериха обуял такой страх, что он выскочил в коридор на поиски туалета…
Дидерих бежал. Уже прозвенел звонок ко второму акту. И вдруг столкнулся с тещей бургомистра, которая тоже спешила, хотя и по другой причине. Она поспела вовремя: зять по наущению жены направлялся к Буку с намерением поддержать старика своим авторитетом.
— Авторитетом бургомистра прикрыть такой срам! — Теща была вне себя и даже охрипла. Супруга же тоненьким пронзительным голоском упорно доказывала, что Буки как были, так и остаются самыми благородными людьми в городе, только вчера Милли Бук дала ей прелестнейшую выкройку. Обе теребили его, исподтишка награждали пинками и тянули каждая в свою сторону; он попеременно соглашался то с одной, то с другой, его бесцветные бачки взлетали то вправо, то влево, а глаза были совсем как у зайца. Проходившие мимо люди подталкивали друг друга и как очередную сенсацию шепотом передавали из уст в уста то, что Дидерих уже слышал от Вольфганга Бука. Ввиду столь важных событий Дидерих забыл о своих коликах, остановился и, вызывающе щелкнув каблуками, отвесил поклон бургомистру. Тот приосанился, оставил своих дам и протянул Дидериху руку.
— Милейший доктор Геслинг, очень рад! Прекрасный бал, не правда ли?
Но Дидерих, видимо, не склонен был поддаваться на эту пустопорожнюю приветливость, столь свойственную бургомистру. Он выпрямился — грозный, как рок, — и сверкнул очами.
— Господин бургомистр, я чувствую себя не вправе скрывать от вас некоторые факты, которые…
— Которые? — повторил, бледнея, доктор Шеффельвейс.
— Которые имеют место, — жестко отчеканил Дидерих.
Бургомистр молил о снисхождении.
— Мне уже все известно… Вы имеете в виду эту злополучную историю с нашим всеми уважаемым… Я хотел сказать — грязные делишки старика Бука? — шепнул он на ухо Дидериху.
Тот не шелохнулся.
— Вам не следует обманывать себя, господин бургомистр. Я подразумеваю вас лично.
— Молодой человек, я все же просил бы вас…
— К вашим услугам, господин бургомистр!
Доктор Шеффельвейс ошибался, если думал, что эту горькую чашу легче отвратить протестом, чем мольбой! Он был в руках у Дидериха. Зеркальная галерея опустела. Обе дамы бургомистра затерялись в сутолоке у входа в зал.
— Бук и компания стараются нанести контрудар, — сухо произнес Дидерих. — Они разоблачены и мстят.
— Мне? — Бургомистр подскочил.
— Поклеп. Повторяю: на вас взведен гнусный поклеп. Ни один человек этим измышлениям не поверит, но в наше время — время политических схваток…
Он не договорил, лишь пожал плечами. Доктор Шеффельвейс ссутулился. Он хотел посмотреть Дидериху в лицо, но взгляд его скользнул мимо. Дидерих заговорил голосом самого правосудия:
— Господин бургомистр! Вы, надеюсь, помните наш разговор у вас дома в присутствии асессора Ядассона. Уже тогда я предупреждал вас, что в нашем городе возьмет верх новый дух. Демократическое слюнтяйство отжило свой век! Нынче требуется непримиримый национализм. Я вас предупреждал!
— Мысленно я всегда был на вашей стороне, дорогой друг, — стал оправдываться доктор Шеффельвейс, — тем более что я пламеннейший приверженец его величества. Наш несравненный молодой кайзер столь оригинальный мыслитель… весь порыв и действие… и…
— Личность исключительная, — строго закончил Дидерих.
— Исключительная… — повторил бургомистр. — Но мое положение обязывает меня считаться и с одной стороной и с другой стороной, поэтому я и сейчас могу вам лишь повторить: создайте новые факты.
— А мой процесс? Я сразил врагов его величества.
— Я вам препятствий не чинил. И даже поздравил вас.
— Мне ничего об этом неизвестно.
— По крайней мере — в душе.
— Нынче, господин бургомистр, необходимо открыто становиться на ту или на другую сторону. Его величество изволил сам сказать: кто не за меня, тот против меня! Пора нам, наконец, очнуться от спячки и самим разгромить бунтарские элементы…
Шеффельвейс потупился. Зато Дидерих принял позу повелителя.
— А что делает бургомистр? — воскликнул он, и вопрос этот так долго звенел в грозной тишине, что доктор Шеффельвейс решился, наконец, взглянуть на Дидериха. Ответить он так и не смог. Весь вид Дидериха: глаза, мечущие молнии, всклокоченные белобрысые волосы, одутловатое лицо — так подействовал на бургомистра, что у него отнялся язык. Он дрожал, он лихорадочно думал: «С одной стороны… с другой стороны…» — и как завороженный смотрел, не переставая моргать, на представителя нового поколения, который знает, чего хочет, представителя того беспощадного времени, что идет на смену старому!
Дидерих, опустив уголки губ, принимал эту дань преклонения. Он переживал одну из тех минут, когда его собственное «я» перерастало себя и он уже действовал в духе августейшей особы. Бургомистр был на голову выше, но Дидерих смотрел на него сверху вниз, точно с высоты трона.
— Скоро выборы городских гласных: тут все зависит от вас, — произнес он милостиво и лаконично. — Процесс Лауэра вызвал перелом в общественном мнении. Меня боятся. Всех, кто захочет помочь мне, я приветствую, тех же, кто вздумает ставить мне палки в колеса, я…
Доктор Шеффельвейс не дожидался конца фразы.
— Я совершенно того же мнения, — угодливо зашептал он. — Нельзя допустить избрания сторонников Бука.
— Этого требуют ваши кровные интересы. Крамольники посягают на ваше доброе имя. Устоите ли вы, если благомыслящие не опровергнут гнусные поклепы?
Наступила пауза, доктора Шеффельвейса трясло.
Наконец Дидерих повторил, приободряя его:
— Все зависит от вас.
— Ваша энергия, — залепетал бургомистр, — ваш благопристойный образ мыслей…
— Мой высоко благопристойный образ мыслей!
— Конечно, конечно… Но в политике не следует проявлять такой горячности, мой юный друг. Наш город еще не дорос до вас. Какими средствами вы полагаете справиться с ним?
Вместо ответа Дидерих вдруг отступил на шаг и шаркнул ножкой. В дверях стоял Вулков.
Выставив вперед мерно колыхавшееся брюхо, он подошел, положил свою темную лапищу на плечо доктору Шеффельвейсу и прогрохотал:
— Что это вы, голубчик, соло? Выгнали вас ваши гласные?
Доктор Шеффельвейс слабо хихикнул. Между тем Дидерих все время озабоченно оглядывался на дверь в зрительный зал, которая еще была открыта. Он стал позади фон Вулкова так, чтобы загородить его, и шепнул несколько слов, после чего регирунгспрезидент отвернулся, привел в порядок свой туалет и сказал Дидериху:
— А вы, миляга, действительно полезный человек.
Дидерих просиял.
— Я счастлив, господин регирунгспрезидент, что вы обо мне столь лестного мнения.
— Вы, кажется, на многое можете пригодиться, — милостиво изрек Вулков. — Мы еще вернемся к этому разговору.
Он мотнул головой и, повернув к Дидериху широкоскулое, в коричневых пятнах лицо, воззрился на него монгольскими щелками глаз, в которых было столько плотоядного коварства и жестокости, что Дидерих громко засопел. Такой результат, видимо, удовлетворил Вулкова. Он щеткой расчесал перед зеркалом бороду, но, так как держал голову по-бычьи, его борода, прижатая к манишке, тут же смялась.
— А теперь пошли! — сказал он. — Этот трам-тара-рам, наверно, в полном разгаре?
И, сопровождаемый с одной стороны Дидерихом, с другой — бургомистром, он уже готов был войти в зал и своим помпезным появлением помешать лицедейству, как вдруг из буфетной донесся замирающий голос:
— О боже, Оттохен!
— Она уж тут как тут! — буркнул Вулков и пошел навстречу супруге. — Так и знал, в решительный момент она сдрейфит. Больше кавалерийской лихости, бесценная моя Фрида!
— О боже, Оттохен, ты не можешь себе представить, как я боюсь! — И, обращаясь к Дидериху и бургомистру, она быстро, хоть и дрожащим голосом, затараторила: — Я, конечно, знаю, в бой нужно идти с верой в сердце.
— Особенно, — к месту ввернул Дидерих, — если бой заранее выигран. — И он отвесил рыцарский поклон.
Фрау фон Вулков коснулась его веером.
— Доктор Геслинг уже составил мне компанию в фойе во время первого действия. Он тонкий ценитель искусства, он даже может дать полезный совет.
— Имел случай убедиться, — сказал Вулков. Дидерих, расшаркиваясь, отвешивал благодарные поклоны то ему, то его супруге. Регирунгспрезидент предложил — Давайте уж и останемся в буфете.
— Таков и мой план военных действий, — болтала фрау фон Вулков, — к тому же я нашла здесь маленькую дверь, откуда видна сцена. Мы приоткроем ее и, оставаясь в стороне от событий, в чем я сейчас чувствую необходимость, будем все же в курсе дела.
— Эй, бургомистр, — сказал Вулков и прищелкнул языком, — рекомендую салат из омаров. — Он дернул доктора Шеффельвейса за ухо. — А в деле с городской биржей труда магистрат опять сыграл незавидную роль.
Бургомистр покорно ел, покорно слушал, а Дидерих, стоя рядом с фрау фон Вулков, смотрел на сцену. Там Магда Геслинг брала урок музыки, и учитель, темнокудрый виртуоз, пылко целовал свою ученицу, чему она отнюдь не сопротивлялась. «Если бы Кинаст видел», — думал Дидерих, но он и сам почувствовал себя задетым.
— Вы не находите, графиня, — сказал он, — что учитель музыки слишком уж натуралистично играет?
— Но это вполне соответствует моему замыслу, — удивленно ответила она.
— Я, видите ли, думал только… — неуверенно пробормотал Дидерих и испуганно умолк: из-за кулис показалась не то фрау Геслинг, не то какая-то другая дама, очень на нее похожая. Эмми тоже оказалась тут, молодую чету застукали, поднялся крик, плач. Вулков повысил голос.
— Не-е-т, бургомистр. Стариком Буком вам теперь не отговориться. Пусть он и протащил резолюцию насчет городской биржи труда: все дело в том, как проводить ее в жизнь, а это уж от вас зависит.
Доктор Шеффельвейс хотел сказать что-то в свое оправдание, но Магда закричала, что у нее и в мыслях нет выйти за такого человека, для него, дескать, и служанка хороша.
— Ей следовало бы взять еще более вульгарный тон, — заметила авторша. — Ведь они parvenus [2].
И Дидерих, улыбаясь, поддакнул, хотя вся эта передряга в доме, так напоминавшем его собственный, привела его в полное смятение. Про себя он согласился с Эмми, которая заявила, что такого положения нельзя больше терпеть ни минуты, и позвала служанку. А когда она появилась — вот чертовщина! — оказалось, что это тайная графиня. Неожиданно в тишине, вызванной ее появлением, прогудел бас Вулкова:
— Да бросьте вы меня морочить разговорами о вашем гражданском долге. Разрушать сельское хозяйство — это, по-вашему, гражданский долг?
В публике многие оглянулись; президентша в ужасе прошелестела:
— Оттохен, бога ради!
— Что там такое? — Он подошел к двери. — Пусть только попробуют шикнуть!
Но никто не сделал такой попытки. Вулков повернулся к бургомистру.
— Ведь ясно, что вашей биржей труда вы отнимаете рабочую силу у нас, землевладельцев Восточной Пруссии. И кроме того: на этой несчастной бирже есть даже представители рабочих — а вы берете на себя еще и посредничество в сельском хозяйстве. К чему это приведет? К объединению батраков, конечно. Так ведь, бургомистр? — Его лапища опустилась на податливое плечо доктора Шеффельвейса. — Все ваши махинации мы насквозь видим. И не потерпим их!
На сцене вулковская племянница обращалась к публике: семье фабриканта не положено было слышать ее монолог.
— Как? Мне, графской дочери, стать женой учителя музыки? Никогда! Хоть эти люди сулят мне приданое, но пусть другие унижаются ради денег. Я знаю, к чему обязывает меня мое высокое происхождение!
В зале зааплодировали. Фрау Гарниш и фрау Тиц утирали слезы, вызванные благородством чувств тайной графини. Однако слезы полились вновь, когда племянница сказала:
— Но где мне, служанке, найти жениха столь же высокого происхождения?
Бургомистр, очевидно, отважился на какое-то возражение, потому что Вулков сердито крикнул:
— Устраивать безработных — не мое дело! Я ради них разоряться не намерен. В свой карман залезать не позволю!
Тут Дидерих не мог больше, сдержаться и, расшаркавшись, отвесил поклон регирунгспрезиденту. Но и у президентши были все основания отнести поклон на свой счет.
— Знаю, — прошептала она, умиленная, — это место мне удалось.
— Ваше искусство, графиня, находит прямой путь к сердцам, — сказал Дидерих. И так как Магда и Эмми шумно хлопнули крышкой рояля, а потом дверьми, он прибавил: — Высокодраматическое искусство! — И тут же повернулся в другую сторону: — На следующей неделе состоятся выборы двух гласных на места Лауэра и Бука-младшего. Хорошо, что Вольфганг Бук отказался добровольно.
— Позаботьтесь только о том, — сказал Вулков, — чтобы на их места попали приличные люди. У вас как будто хорошие отношения с «Нетцигским листком»?
Дидерих таинственно понизил голос:
— Я пока еще держусь в тени, господин президент. Так лучше для блага националистической идеи.
— Смотрите-ка! — сказал Вулков и действительно пристально посмотрел на Дидериха. — Вы, я вижу, сами не прочь выставить свою кандидатуру?
— Я готов принести такую жертву. В органах городского самоуправления слишком мало надёжных людей с националистической точки зрения.
— А что бы вы сделали, если бы вас избрали?
— Позаботился бы о скорейшей ликвидации биржи труда.
— Ну, конечно, — сказал Вулков, — это вполне естественно для националистически мыслящего немца.
— Я офицер, — говорил между тем на сцене лейтенант, — и я не потерплю, дорогая Магда, чтобы с этой девушкой, пусть она всего лишь бедная служанка, плохо обращались.
Лейтенант из первого акта, бедный кузен, которому прочили в жены тайную графиню, — жених Магды! Зрители дрожали от волнения. Фрау фон Вулков сама это заметила.
— Драматические ситуации — моя сильная сторона, — сказала она искренне потрясенному Дидериху. Доктор Шеффельвейс не имел времени предаваться художественным эмоциям, его томило предчувствие больших неприятностей.
— Никто, — уверял он, — не приветствовал бы так радостно новый дух…
— Знаем мы эти песни, голубчик. Радостно приветствовать, когда это ничего не стоит, вы на это мастак.
— Необходимо провести решительную черту между преданными монархистами и бунтарями! — подхватил Дидерих.
Бургомистр умоляюще воздел руки.
— Господа! Не поймите меня превратно. Я на все готов. Но что пользы от черты, если у нас почти все, кто не голосует за свободомыслящих, голосуют за социал-демократов?
Вулков яростно хрюкнул и взял с буфетной стойки бутерброд с колбасой. Но Дидерих сохранял несокрушимую веру в успех.
— Если выборы без вмешательства не обещают положительных результатов, значит надо вмешаться, только и всего.
— Но как это сделать? — сказал Вулков.
Вулковская племянница тем временем опять взывала к публике:
— Он не может не узнать во мне графини, ведь он — отпрыск того же аристократического рода, что и я!
— О графиня, — воскликнул Дидерих, — я сгораю от любопытства: узнает он в ней графиню?
— Конечно, узнает, — ответила президентша. — Уже по хорошим манерам они узнают друг друга.
И в самом деле, лейтенант и племянница переглянулись: Магда и Эмми вместе с фрау Геслинг ели сыр с ножа. Дидерих стоял раскрыв рот. Публику невоспитанность семьи фабриканта рассмешила и развеселила. Дочери Бука, фрау Кон, Густа Дайхмен — все ликовали. И Вулков тоже прислушался. Он слизнул жир с пальцев и сказал:
— Ну, Фрида, твое дело в шляпе, они смеются.
Сочинительница и впрямь удивительно расцвела. Ее глаза за стеклами пенсне горели лихорадочным блеском, из груди вырывались вздохи, ей не сиделось на месте; осмелев, она даже высунулась из буфетной в зал; тотчас же многие повернули головы и устремили на нее любопытные взгляды, а теща бургомистра помахала ей рукой. Взбудораженная фрау фон Вулков громко шепнула через плечо:
— Господа, битва выиграна.
— Если б и у нас это так же быстро делалось, — молвил ее супруг. — Итак, милейший доктор, как же вы думаете прибрать к рукам нетцигчан?
— Господин президент! — Дидерих прижал руку к сердцу. — В Нетциге воцарится истинно монархический дух, ручаюсь головой и всем своим достоянием.
— Прекрасно, — сказал Вулков.
— Ибо, — продолжал Дидерих, — у нас есть агитатор, которого я назвал бы первоклассным. Да, первоклассным, — повторил он, объемля этим словом все. — И это его величество, это сам кайзер!
Доктор Шеффельвейс торопливо подтянулся.
— Исключительнейшая личность… Весь порыв и действие…. Оригинальный мыслитель…
— Ну да, — сказал Вулков. Он уперся кулаками в колени и разглядывал пол, точно призадумавшийся людоед. Дидерих и бургомистр заметили вдруг, что он искоса примеривается к ним взглядом. — Господа, — он замялся, — ну, так и быть, скажу вам. Я полагаю, что рейхстаг будет распущен.
Дидерих и доктор Шеффельвейс подались вперед, они прошептали:
— Господину президенту это доподлинно известно?..
— Недавно мы с военным министром были на охоте у моего кузена господина фон Квицина.
Дидерих расшаркался. Он что-то лопотал, он сам не знал что. Он это предрек! Еще в тот вечер, когда его принимали в ферейн воинов, он ссылался на слова, якобы сказанные его величеством — а может быть, и не «якобы»?.. Ведь Дидерих в своей речи прямо заявил от имени кайзера: «Я разгоню всю эту лавочку». И вот так оно и будет — совершенно так, как если бы он, Дидерих, действовал сам. Его охватил мистический ужас… Тем временем Вулков говорил:
— Господин Эйген Рихтер и компания отжили свой век. Если они не примирятся с законопроектом о военном бюджете, им крышка. — И Вулков провел кулаком по губам, точно пир людоедов начинался.
Дидерих овладел собой.
— Это… это величественно! Нет никаких сомнений, что это личная инициатива кайзера.
Доктор Шеффельвейс побледнел.
— Значит, предстоят новые выборы в рейхстаг? А я так радовался, что у нас там столь надежный депутат… — Он еще больше перепугался. — То есть Кюлеман, конечно, тоже друг Рихтера…
— Злопыхатель! — фыркнул Дидерих. — Бродяга, не помнящий родства! — Он вращал глазами. — На сей раз Нетциг с ними покончит! Мне бы только в гласные пройти, господин бургомистр!..
— И что тогда? — спросил Вулков.
Дидерих сам не знал. К счастью, в зале произошел какой-то переполох: там задвигали стульями и кто-то попросил открыть главные двери. Это был Кюлеман. Больной старик, с трудом неся свое грузное тело, торопливо прошел по зеркальной галерее. В буфетной нашли, что со времени процесса он сильно сдал.
— Будь его воля, он оправдал бы Лауэра, но большинством голосов было решено иначе, — сказал Дидерих.
— Камни в почках, говорят, ведут к смертельному исходу, — заметил доктор Шеффельвейс.
— А в рейхстаге мы для него те же почечные камни, — сострил Вулков.
Бургомистр подхихикнул. Дидерих сделал круглые глаза. Он наклонился к уху Вулкова и прошептал:
— Его завещание?..
— А что там такое?
— Он оставляет свое состояние городу, — важно объяснил доктор Шеффельвейс. — Возможно, мы построим на эти деньги приют для грудных младенцев.
— Приют для грудных младенцев? — презрительно фыркнул Дидерих. — По-вашему, это предел патриотизма?
— Вот оно что! — Вулков кивнул Дидериху в знак одобрения. — Сколько у него монет?
— По меньшей мере полмиллиона, — сказал бургомистр и поспешил заверить: — Я был бы счастлив, если б удалось добиться…
— Это очень просто, — уверенно сказал Дидерих.
Вдруг в зале засмеялись, и засмеялись совсем не так, как прежде, а искренне, от души и, без всякого сомнения, — злорадно. Президентша, словно спасаясь бегством, кинулась за стойку, казалось, она готова забраться под нее.
— Боже праведный! — заныла фрау фон Вулков. — Все погибло!
— Да ну? — протянул ее супруг и, грозно насупившись, стал в дверях. Но и это не смогло сдержать веселье в зале. Магда говорила тайной графине: «Поворачивайся живей, деревенская чушка! Подай господину лейтенанту кофе!» — «Чаю!» — поправлял невидимый голос. «Кофе!» — повторяла Магда; голос настаивал на своем, Магда — на своем. Публика поняла, что это пререкаются Магда и суфлер. К счастью, лейтенант нашел выход из положения, он звякнул шпорами и сказал: «Прошу того и другого», — после чего публика засмеялась уже добродушно. Но президентша вся кипела от негодования.
— Вот вам публика! Она была и остается зверем! — скрежеща зубами, проговорила фрау фон Вулков.
— На всякую старуху бывает проруха, — сказал супруг и подмигнул Дидериху.
— Но если люди понимают друг друга, — так же многозначительно ответил Дидерих, — прорухи не будет.
После этого он счел за благо всецело посвятить себя фрау фон Вулков и ее творению. Пусть бургомистр предает пока своих друзей и обещает Вулкову исполнить все его пожелания относительно выборов.
— Моя сестра — дура, — сказал Дидерих. — Дома я ее проберу.
Фрау фон Вулков пренебрежительно усмехнулась:
— Бедняжка, она делает что может. Но публика! Какая нестерпимая беззастенчивость, какая неблагодарность! Ведь только что автора так вознесли, так восхищались его идеалами!
— Поверьте, графиня, — проникновенно сказал Дидерих, — не вам одной приходится делать столь горький вывод. Такова уж общественная жизнь. — Он думал об энтузиазме, который всех обуревал после его столкновения с оскорбителем величества, и об испытаниях, посыпавшихся затем на его голову. — В конечном счете правда все-таки торжествует! — заключил он.
— Вы тоже того мнения? — сказала она с улыбкой, точно пробившейся сквозь тучу. — Да. Доброе. Истинное. Прекрасное. — Она протянула ему тонкую руку. — Верю, друг мой, что мы с вами найдем общий язык.
Дидерих, понимая, что несет в себе это мгновенье, смело приложился к пальчикам фрау фон Вулков и щелкнул каблуками. Прижав руку к сердцу, он сказал проникновенным голосом:
— Поверьте мне, графиня…
Вулковская племянница и юный Шпрециус остались наедине, он, наконец, узнал в ней униженную графиню, она в нем — бедного кузена; им было уже известно, что они предназначены друг для друга, и вот они вдвоем мечтают о будущем блеске, о зале, сверкающем позолотой, где они вместе с другими избранниками смиренно и гордо будут упиваться лучами монаршей милости…
Президентша вздохнула.
— Вам я могу признаться, — произнесла она. — Я здесь очень тоскую по двору. Если по рождению принадлежишь, подобно мне, к дворцовой знати… А теперь…
Дидерих увидел за стеклами ее пенсне две слезинки. Эта нечаянно открывшаяся ему трагедия из жизни аристократов так его потрясла, что он стал во фронт.
— Ваше сиятельство, — сказал он сдержанно и отрывисто. — Значит, тайная графиня?.. — Он испугался и умолк.
Как раз в эту минуту бургомистр своим бесцветным голосом говорил на ухо фон Вулкову, что Кюлеман не будет больше выставлять свою кандидатуру, а на его место свободомыслящие собираются выдвинуть доктора Гейтейфеля. Он соглашался с Вулковым, что надо уже сейчас, пока еще никто не ждет роспуска рейхстага, предпринять необходимые контрмеры…
Дидерих осмелился, наконец, прервать молчание, он сказал тихо и бережно:
— Но надеюсь, графиня, что все кончится хорошо? Их ведь никто больше не разлучит?
Фрау фон Вулков овладела собой и с большим тактом перешла от интимного тона душевных излияний к тону непринужденной болтовни:
— Боже мой, господин доктор, что вы хотите, этот злосчастный денежный вопрос! Разве могут наши молодые люди быть счастливы?
— Почему бы им не обратиться в суд? — воскликнул Дидерих, оскорбленный в своем чувстве законности. Но фрау фон Вулков поморщилась:
— Fi donc! [3] Это привело бы к тому, что молодой граф, то есть Ядассон, лишил бы своего отца права опеки. В третьем акте, который вы сейчас увидите, Ядассон угрожает этим лейтенанту в сцене, по-моему, удавшейся мне. Неужели лейтенанту взять такой грех на душу? А дробление родового имущества? В вашей среде это, быть может, не встретило бы особых возражений. Но у нас, видите ли, многое невозможно.
Дидерих поклонился.
— Высшие сферы руководствуются понятиями, недоступными нашему пониманию. Да, пожалуй, и пониманию судей.
Президентша кротко улыбнулась:
— И вот лейтенант очень деликатно отказывается от тайной графини и женится на дочери фабриканта.
— На Магде?
— Разумеется. А тайная графиня выходит за учителя музыки. Так угодно высшим силам, дорогой доктор, перед которыми нам, — в голосе ее послышались глухие нотки, — остается лишь склониться.
У Дидериха было еще одно сомнение, но он затаил его. Почему бы лейтенанту не жениться на молодой графине без приданого? Дидериха, с его мягким чувствительным сердцем, такая идиллия вполне удовлетворила бы. Но увы! В нынешние суровые времена иные взгляды на вещи.
Занавес опустился, и публика, поборов волнение, вызванное спектаклем, наградила щедрыми аплодисментами молодого лейтенанта и служанку: они, конечно, долго еще будут страдать от своей тяжелой участи, — ведь они лишены доступа ко двору.
— Это действительно ужасно! — вздыхали фрау Гарниш и фрау Кон.
Возле буфетной стойки Вулков сказал в заключение беседы с бургомистром:
— Мы еще вправим мозги этой банде! — Затем он тяжело опустил свою лапищу на плечо Дидериху. — Ну что, милейший доктор, моя жена уже пригласила вас на чашку чаю?
— Само собой, и приходите поскорее! — Фрау фон Вулков протянула ему руку для поцелуя, и Дидерих, совершенно счастливый, удалился. Сам Вулков выразил желание встретиться с ним! Он готов рука об руку с Дидерихом завоевать Нетциг!
Пока супруга президента, окруженная восхищенными зрителями, принимала в зеркальной галерее поздравления, Дидерих обрабатывал общественное мнение. Гейтейфель, Кон, Гарниш и еще несколько человек мешали ему. Они — правда, очень сдержанно — давали понять, что пьеса, на их взгляд, чистейшая дичь. Дидериху пришлось выразительно намекнуть на превосходный третий акт, и только тогда они замолчали. Он подробно продиктовал все, что ему было известно о драматурге, редактору Нотгрошену, который очень спешил — номер газеты уже верстался.
— Если насочините какого-нибудь вздору, я отхлещу вас по щекам вашей же стряпней!. Поняли, вы, писака?
Нотгрошен поблагодарил и простился. Кюнхен, слышавший весь разговор, ухватил Дидериха за пуговицу и визгливо затараторил:
— Послушайте, драгоценнейший! Одно только вы должны были еще сказать нашему господину обер-сплетнику…
Редактор, услышав свое прозвище, вернулся, а Кюнхен продолжал:
— Дивное творенье достопочтеннейшей фрау фон Вулков было уже однажды предвосхищено, и не кем иным, как нашим непревзойденным мастером Гете в его «Побочной дочери». А высшей похвалы, надо полагать, нельзя и придумать для писательницы.
Дидерих не был уверен в полезности кюнхенского открытия, но счел излишним поделиться с ним своими сомнениями. Старикашка уже несся с разлетающимися волосами сквозь толпу; издали видно было, как он шаркает ножкой, излагая фрау фон Вулков результаты своих сравнительных изысканий. И, разумеется, он потерпел такое фиаско, какого даже Дидерих не мог предугадать. Президентша отрезала ледяным тоном:
— Вы что-то напутали, господин профессор. И вообще разве «Побочная дочь{19}» сочинение Гете? — спросила она, недоверчиво морщась.
Кюнхен уверял ее, что тут не может быть ошибки, но тщетно.
— Во всяком случае, вы читали в журнале «Семейный очаг» мой роман, а я его только инсценировала. Все мои произведения строго оригинальны. Я полагаю, что присутствующие, — она обвела взглядом окруживших ее нетцигчан, — в корне пресекут злостные слухи.
Она кивком отпустила Кюнхена, и он отошел, судорожно ловя открытым ртом воздух. Дидерих, с ноткой презрительной жалости в голосе, напомнил ему о Нотгрошене, который уже испарился вместе с опасными сведениями, и Кюнхен бросился за редактором, чтобы предупредить катастрофу. Окинув взглядом зал, Дидерих увидел, что картина переменилась: публика теснилась не только вокруг президентши, но и вокруг старого Бука. Это было поразительно, но таковы уж люди; они раскаивались, что дали сегодня волю своим инстинктам. Один за другим они благоговейно подходили к старику, и на лицах их читалось желание забыть о случившемся. Так велика была, невзирая на тяжелые потрясения, власть исстари признанной традиции! И Дидерих решил, что лучше не отставать от большинства, это может обратить на себя внимание. Удостоверившись, что Вулков уехал, он направился к Буку засвидетельствовать свое почтение. Возле старика, который сидел в мягком кресле, специально для него поставленном у самой сцены, в эту минуту никого не было; его рука как-то удивительно трогательно свисала с подлокотника. Он поднял глаза на Дидериха.
— Вот и вы, мой дорогой Геслинг. Я часто сожалел о том, что вы ни разу больше не зашли… — сказал он очень просто и благожелательно.
Дидерих мгновенно почувствовал, как на глаза у него навертываются слезы. Он протянул старику руку, обрадовался, что Бук задержал ее в своей, и забормотал что-то о делах, заботах и, «честно говоря» — его обуяла внезапная потребность в честности, — о сомнениях и колебаниях.
— Как хорошо, — сказал старик, — что мне не приходится только догадываться о ваших сомнениях и колебаниях, а вы сами признаетесь в них. Вы молоды и, конечно, поддаетесь господствующим умонастроениям. Мне не хотелось бы впасть в старческую нетерпимость.
Дидерих опустил голову. Он понял — это прощение за судебный процесс, стоивший гражданской чести зятю старого Бука; у него перехватило дыхание от такого великодушия и… такого безграничного презрения. Старик, правда, прибавил:
— Я уважаю борьбу и хорошо знаю, что это такое, вот почему я далек от ненависти к тем, кто борется против моих близких.
Дидерих, боясь, что эта тема слишком далеко заведет их, стал от всего отпираться. Он, дескать, сам не знает… Иной раз тебя вовлекают в такие дела… Старик выручил его:
— Понимаю. Вы ищете себя и еще не нашли.
Его седая остроконечная бородка нырнула в шелковый шарф, а когда вынырнула, Дидерих понял, что разговор примет новый оборот.
— Вы так еще и не купили соседний дом? — спросил господин Бук. — Ваши планы, по-видимому, изменились?
Дидерих подумал: «Он все знает», — и ему уже казалось, что раскрыты все его тайные помыслы.
Старик хитро и добродушно усмехнулся:
— Вы, очевидно, хотите сначала перевести свою фабрику на новое место и уже затем расширить ее? Мне представляется, что вы задумали продать свой дом и только ждете подходящего случая… а у меня как раз наметился такой случай… — И, внезапно взглянув в глаза Дидериху, он сказал — Город предполагает учредить приют для грудных младенцев.
«Старый пес! — подумал Дидерих. — Да это же ставка на смерть его лучшего друга». В то же мгновение у него блеснула идея: вот оно! Теперь он знает, что предложить Вулкову для завоевания Нетцига.
— Нет, нет, господин Бук, — пробормотал он. — Отцовское наследие я продавать не собираюсь.
Старик еще раз взял его руку в свою.
— Я не хочу быть искусителем. Ваше уважение к памяти отца делает вам честь.
«Осел», — подумал Дидерих.
— Что ж, придется нам подыскать другой участок. Быть может, вы нам посодействуете? Бескорыстное служение обществу, дорогой Геслинг, всегда очень ценно, даже если оно временно устремляется на ложный путь. — Он поднялся — Если вы захотите выставить свою кандидатуру в гласные, обещаю вам поддержку.
Дидерих уставился на него, ничего не понимая. Глаза старика светились глубокой синевой, он предлагал Дидериху почетный пост, с которого Дидерих спихнул его зятя. Остается одно из двух: либо плюнуть, либо сгореть со стыда. Дидерих предпочел щелкнуть каблуками и корректно поблагодарить.
— Вот видите, — ответил господин Бук на изъявление благодарности, — служение обществу перебрасывает мост от молодого поколения к старому и даже к тем, кого уже нет в живых.
Описав рукой широкий полукруг, он указал на стены: из нарисованных глубин смотрели прошлые поколения, запечатленные живописцами в веселых, уже выцветающих тонах. Старик Бук улыбнулся девушке в кринолине и одновременно своей племяннице и Мете Гарниш, проходившим мимо. Когда Бук повернулся лицом к старому бургомистру, который выходил из городских ворот, окруженный детьми и цветами, Дидериха поразило необычайное сходство между обоими. Бук показывал то на одну, то на другую фигуру стенной росписи.
— Об этом господине я много слышал. А с этой дамой был лично знаком. Разве не похож тот священник на пастора Циллиха? Нет, между нами не может быть серьезных расхождений. Мы, люди доброй воли, связаны обетом стремиться ко всеобщему прогрессу; связаны хотя бы теми, кто оставил нам «Гармонию».
«Хороша гармония, нечего сказать», — подумал Дидерих, помышляя об одном: под каким бы предлогом улизнуть. Старик по обыкновению перешел от деловых разговоров к сентиментальной болтовне. «Как ни верти, а писака проглядывает», — снова сказал про себя Дидерих.
Мимо них прошли Густа Даймхен и Инга Тиц. Густа держала Ингу под руку, а та расписывала волнения, которые ей пришлось пережить за кулисами.
— А какой был ужас, когда они там завели: кофе, чай, кофе, чай…
— В следующий раз Вольфганг сочинит драму получше этой, — уверяла Густа, — и я получу в ней роль.
Инга выдернула руку и отстранилась от Густы, в глазах у нее стоял испуг.
— Вот как? — произнесла она, и наивное оживление, игравшее на пухлом лице Густы, сразу померкло.
— А почему бы и нет? — возмущенно спросила она плачущим голосом. — Чего ты так вскинулась?
Дидерих, который слышал вопрос Густы и мог бы ей ответить, поспешно повернулся к старому Буку. Тот продолжал болтать:
— Тогда, как и теперь, у нас были друзья, но были и враги. Хотя бы вон тот изрядно слинявший железный рыцарь, это пугало, которым стращают детей, вон там, в нише у городских ворот. Жестокий дон Антонио Манрике, генерал от кавалерии, в Тридцатилетнюю войну разоривший наш бедный Нетциг: если бы не Рикештрассе, названная по твоему имени, Манрике, последний его отзвук давно бы развеялся… Он тоже был один из тех, кому не по вкусу пришлось наше свободомыслие и кто стремился сокрушить нас.
Старик вдруг затрясся от беззвучного смеха и взял Дидериха за руку.
— Вам не кажется, что он похож на нашего фон Вулкова?
Дидерих придал своему лицу еще более сдержанное выражение, но старик ничего не замечал, он оживился, ему пришла в голову какая-то новая мысль. Он повел Дидериха в уголок, загороженный кадками с комнатными растениями, и показал две фигуры, изображенные на стене: пастушок страстно простирает руки к пастушке, между ними ручей. Пастушка собирается перепрыгнуть к нему.
— Как по-вашему, соединятся они? — зашептал старик. — Это знают теперь лишь немногие, я в том числе. — Он оглянулся по сторонам — не наблюдают ли за ними — и вдруг открыл маленькую дверцу, которую непосвященный никогда бы не обнаружил. Пастушка на дверях двинулась навстречу возлюбленному. Еще мгновенье, и в темноте за дверью она непременно упадет в объятья пастушка… Старик указал в глубь комнаты:
— Она называется «Приют любви».
Свет фонаря, который горел где-то во дворе, падал через незанавешенное окно на зеркало и тонконогую кушетку. Старик вдыхал удушливый воздух, хлынувший из комнаты, невесть сколько времени не проветриваемой, и блаженно улыбался каким-то своим, далеким воспоминаниям. Постояв немного, он прикрыл маленькую дверцу.
Дидерих же, которого все это не очень занимало, увидел нечто, сулившее более сильные ощущения. Это был член окружного суда Фрицше; да, Фрицше. По-видимому, отпуск его кончился, он вернулся с юга и явился на вечер, правда с опозданием и без Юдифи Лауэр, — ее-то отпуск затягивался на все время, пока супруг сидит за решеткой. Где бы Фрицше ни проходил, как-то странно дергаясь и тем выдавая свое смущение и неловкость, вслед за ним несся шепоток и все, кто с ним раскланивался, украдкой косились на старика Бука. Фрицше, как видно, понимал, что ему необходимо что-то предпринять, он подтянулся и решительно двинулся в атаку. Старик, никак не ожидавший его появления, вдруг увидел его перед собой. Он так побледнел, что Дидерих испугался и уже протянул руки, готовый поддержать его. Но все обошлось благополучно, старик овладел собой. Он стоял, напряженно выпрямившись, судорожно откинув назад плечи, и холодно смотрел прямо в лицо человеку, совратившему его дочь.
— Так скоро вернулись, господин советник? — громко спросил он.
Фрицше сделал попытку весело улыбнуться.
— Прекрасная погода была нынче на юге. Не то что в наших краях! А искусство!
— Здесь мы видим лишь его слабый отблеск. — И старик, не спуская глаз с Фрицше, указал на стены. Его выдержка произвела впечатление на многих, кто следил за ним, подстерегая мгновенье слабости. Он стоял неколебимо, он держал себя с достоинством, а ведь в его положении была бы простительна известная несдержанность. Он держал себя с достоинством, один за всех — за свою разрушенную семью, за тех, кто некогда следовал за ним и теперь покинул его. В это мгновенье он снискал симпатии кое-кого из присутствующих, — и это было все, что он выиграл взамен столь многого, утраченного им… Дидерих слышал, как он сказал сухо и четко:
— Лишь во имя сохранения этого дома и этой живописи я добился, чтобы в план реконструкции старого города были внесены изменения. Пусть это всего лишь картины прошлого, но художественное произведение, увековечивающее свою эпоху и ее нравы, вправе рассчитывать на вечность.
И Дидерих незаметно скрылся — ему стыдно было за Фрицше.
Теща бургомистра спросила у него, что сказал старик по поводу «Тайной графини». Дидерих стал припоминать, и оказалось, что тот даже не упомянул о пьесе. Оба были разочарованы.
Вдруг Дидерих заметил, что Кетхен Циллих бросает на него насмешливые взгляды, но уж кому-кому, а ей бы следовало держать себя тише воды ниже травы.
— Интересно знать, фрейлейн Кетхен, — довольно громко сказал он, — что вы думаете о «Зеленом ангеле»?
— О зеленом ангеле? — повторила она еще громче. — Это вы, что ли? — И рассмеялась ему в лицо.
— Вам бы не мешало быть поосторожнее, — сказал он, наморщив лоб. — Я считаю своим долгом поговорить с вашим уважаемым отцом.
— Папа! — тотчас же крикнула Кетхен.
Дидерих испугался. К счастью, пастор Циллих не слышал.
— Я, конечно, немедленно рассказала папе о нашей маленькой прогулке. Что в ней зазорного, ведь это были только вы.
Она чересчур зарвалась. Дидерих засопел:
— А для любителей красивых ушей там был Ядассон. — Видя, что попал в цель, он прибавил: — В следующий раз, когда мы опять встретимся в «Зеленом ангеле», мы выкрасим ему уши в зеленый цвет, это создает настроение.
— Вы думаете, вся суть в ушах? — спросила она, взглянув на него с таким безмерным презрением, что он решил любыми средствами проучить ее. Они стояли в углу, в том самом, где были кадки с комнатными растениями.
— Как вы думаете, — спросил он, — удастся пастушке перепрыгнуть через ручей и осчастливить пастуха?
— Овца вы, — сказала она. Дидерих пропустил ее слова мимо ушей, подошел к стене и стал ее ощупывать. Вот и дверь.
— Видите? Она прыгает!
Кетхен подошла поближе и, с любопытством вытянув шею, просунула голову в дверь. Вдруг — толчок в спину, и она очутилась в потайной комнате. Дидерих захлопнул дверь и, прерывисто дыша, молча обхватил Кетхен.
— Выпустите меня, я буду царапаться! — взвизгнула она и хотела поднять крик. Но ее вдруг разобрал смех, и она обессилела. А Дидерих все подталкивал и подталкивал ее к кушетке. Рукопашная с Кетхен, ее обнаженные руки и плечи окончательно лишили его самообладания.
— Ну вот, — пыхтел он, — теперь я вам покажу. — При каждой отбитой пяди он повторял — Теперь я вам покажу овцу! Ага, кто считает девушку порядочной и питает серьезные намерения, тот — овца. Ну, я вам покажу овцу.
Он еще понатужился и повалил ее на кушетку.
— Ой! — крикнула она и задохнулась от смеха. — Что еще вы мне покажете?
Вдруг она стала отбиваться всерьез и вырвалась; в полосе света от газового фонаря, падавшего через незанавешенное окно, она сидела встрепанная, разгоряченная, устремив взгляд на дверь. Дидерих повернул голову: на пороге стояла Густа Даймхен. Она ошеломленно уставилась на обоих; у Кетхен глаза чуть не выскочили из орбит, Дидерих, стоявший коленями на кушетке, едва не свернул себе шею… Густа притворила за собой дверь; решительными шагами она подошла к Кетхен.
— Потаскуха! — вырвалось у нее из глубины души.
— От такой же слышу! — быстро ответила Кетхен.
Густа задохнулась. Она ловила ртом воздух, она смотрела то на Дидериха, то на Кетхен так беспомощно и возмущенно, что в глазах у нее блеснули слезы.
— Фрейлейн Густа, это же только шутка, — сказал Дидерих.
Но его слова встретили плохой прием, Густа крикнула:
— Вас-то я знаю, от вас всего можно ждать!
— Вот как, ты его знаешь, — насмешливо протянула Кетхен.
Она встала, Густа шагнула ей навстречу. Дидерих, улучив удобный момент, с достоинством отступил в сторону, предоставив дамам самим переведаться друг с другом.
— И вот такое приходится видеть! — воскликнула Густа.
Кетхен в ответ:
— Ничего ты не видела. Чего ради вообще тебе смотреть?
Теперь и Дидериху все это показалось странным, тем более что Густа молчала. Кетхен явно брала верх. Откинув назад голову, она сказала:
— С твоей стороны это вообще странно. У кого так подмочена репутация, как у тебя!..
Густа сразу встревожилась.
— У меня? — протянула она. — Это почему же?
Кетхен приняла вид оскорбленной невинности, а Дидерих отчаянно перетрухнул.
— Сама знаешь. Мне совестно об этом говорить.
— Ничего я не знаю, — жалобно прохныкала Густа.
— Даже не верится, что на свете бывают такие вещи, — сказала Кетхен и презрительно наморщила нос.
— Да что ж это, наконец, такое! — вспылила Густа. — Что вы все взъелись на меня?
Дидерих предложил:
— Давайте лучше уйдем отсюда.
Но Густа топнула ногой:
— Я с места не двинусь, пока не узнаю, в чем дело. Весь вечер пялятся на меня так, будто я бабушку родную зарезала.
Кетхен отвернулась:
— Ничего удивительного. Будь довольна, если тебя вообще не вышвырнули отсюда вместе с твоим сводным братом Вольфгангом.
— С кем?.. С моим сводным братом?.. Почему братом?
В глубокой тишине слышно было, как тяжело дышит Густа; она обводила комнату блуждающим взором. И вдруг поняла.
— Какая низость! — в ужасе крикнула она.
По лицу Кетхен расползлась блаженная улыбка. А Дидерих от всего открещивался и уверял, что он здесь ни при чем. Густа показала пальцем на Кетхен.
— Это все вы, негодницы, выдумали! Вы завидуете моим деньгам!
— Как же! — сказала Кетхен. — Кому нужны деньги с такой придачей?
— Ведь это все неправда! — взвизгнула Густа, бросилась ничком на кушетку и горестно заплакала. — О боже, боже, что ж это такое!
— Теперь ты понимаешь, — сказала Кетхен без тени сочувствия.
Густа всхлипывала все громче. Дидерих дотронулся до ее плеча.
— Фрейлейн Густа, вы ведь не хотите, чтобы сюда сбежались люди. — Он пытался утешить ее. — Все это одни догадки! Сходства между вами никакого.
Но такое утешение лишь подхлестнуло Густу. Она вскочила и перешла в атаку.
— Ты… ты вообще известная птичка, — зашипела она в лицо Кетхен. — Я всем расскажу, что видела!
— Так тебе и поверят! Так и поверят! Таким, как ты, ни одна душа не поверит. А обо мне все знают, что я порядочная девушка.
— Порядочная! Обдерни хоть юбку!
— С такой низкой особой…
— Можешь сравниться только ты.
Обе вдруг испугались, замолкли на полуслове и как вкопанные застыли друг против друга с искаженными от страха и ненависти толстощекими лицами, очень похожие друг на друга. Выпятив грудь, вздернув плечи, руки в боки, они надулись так, что, казалось, их воздушные бальные платья вот-вот лопнут. Густа еще раз предприняла вылазку:
— А я все равно расскажу!
Но Кетхен закусила удила:
— В таком случае поторопись, не то я опережу тебя и повсюду раззвоню, что не ты, а я нашла эту дверь и застукала здесь вас обоих.
В ответ Густа только заморгала. Тогда Кетхен, внезапно протрезвев, прибавила:
— Должна же я думать о своей репутации, для тебя-то все это, разумеется, уже не имеет значения.
Дидерих встретился глазами с Густой, взгляд его скользнул по ее фигуре и нашел сверкавший на мизинце бриллиант, который они вместе выудили в тряпье. Он рыцарски улыбнулся, а Густа покраснела и почти вплотную придвинулась к нему, точно хотела прильнуть. Кетхен кралась к дверям. Склонившись над плечом Густы, Дидерих тихо сказал:
— Однако ваш жених надолго оставляет вас в одиночестве.
— Ах, что о нем толковать, — ответила она.
Он еще ниже склонил голову и прижался подбородком к плечу Густы. Она не шевелилась.
— Жаль, — сказал он и так неожиданно отступил, что Густа едва не упала. Она вдруг поняла, что ее положение коренным образом изменилось. Ее деньги уже не козырь, цена такому мужчине, как Дидерих, куда выше. В глазах ее появилось жалкое выражение.
— На месте вашего жениха, — сдержанно сказал Дидерих, — я действовал бы иначе.
Кетхен с величайшей осторожностью прикрыла за собой дверь и вернулась.
— Знаете, что я вам скажу? — Она приложила палец к губам. — Третье действие началось и, думаю, давно уже.
— О боже! — сказала Густа; а Дидерих заключил:
— Значит, мы в ловушке.
Он обшарил стены, ища запасной выход; даже отодвинул кушетку. Не найдя второй двери, он рассердился:
— Это и вправду настоящая ловушка. И ради такого вот старого барака господин Бук обошел при реконструкции эту улицу. Он у меня дождется, что я ее снесу! Мне бы только в гласные пройти!
Кетхен хихикнула:
— Чего вы злитесь? Здесь очень мило. Что хочешь, то и делай.
И она прыгнула через кушетку. Густа вдруг оживилась и последовала за ней. Но она зацепилась и застряла. Дидерих подхватил ее. Кетхен тоже повисла на нем. Он подмигнул обеим.
— Ну, что теперь?
— Предлагайте, — сказала Кетхен. — Вам и карты в руки! Мы друг друга теперь узнали.
— И терять нам нечего, — сказала Густа.
Все трое прыснули со смеху. Но Кетхен пришла в ужас:
— Дети, в этом зеркале я похожа на свою покойную бабушку.
— Оно совсем черное.
— И все исцарапано.
Они прильнули лицами к стеклу и в тусклом свете газового фонаря увидели на стекле старые даты, сдвоенные сердца, вазы, фигурки амуров и даже могилы, и на каждом рисунке — какое-нибудь восклицание или ласкательное имя. Они с трудом разбирали слова.
— Здесь на урне… нет, что за чушь! — воскликнула Кетхен. — «Теперь лишь мы познаем страдание». Почему? Только потому, что они попали в эту комнату? Вот ненормальные!
— Зато мы вполне нормальны, — заявил Дидерих. — Фрейлейн Густа, дайте ваш бриллиант!
Он нацарапал три сердца, сделал надпись и предложил девушкам прочесть. Когда они с визгом отвернулись, он гордо сказал:
— Недаром же комната зовется «Приют любви»!
Внезапно у Густы вырвался крик ужаса:
— Там кто-то подсматривает!
И правда, из-за зеркала высовывалось мертвенно-бледное лицо!.. Кетхен бросилась к дверям.
— Идите сюда, — позвал Дидерих. — Это же нарисовано.
Зеркало с одной стороны отделилось от стены, он повернул его еще немного. И теперь стала видна вся фигура.
— Это все та же пастушка, которая прыгала через ручей!
— Все уже свершилось, — сказал Дидерих, так как пастушка сидела и плакала. На задней стенке зеркала виден был удаляющийся пастушок.
— А вот и выход! — Дидерих показал на полоску света, проникавшую сквозь щель, и пошарил по стене. — Когда все свершилось, открывается выход. — С этими словами он прошел вперед.
— Со мной ничего еще не свершилось, — насмешливо бросила ему вслед Кетхен.
— И со мной тоже… — печально проронила Густа.
Дидерих прикинулся глухим, он установил, что они находятся в маленьком салоне позади буфета. Поспешно добравшись до зеркальной галереи, он смешался с толпой, только что хлынувшей из зрительного зала. Публика еще была под впечатлением трагической участи тайной графини, которой все же пришлось соединиться узами брака с учителем музыки. Фрау Гарниш, фрау Кон, теща бургомистра — у всех были заплаканные глаза. Ядассон, уже без грима, явившийся пожать лавры, встретил у дам плохой прием.
— Это вы во всем виноваты, господин асессор! Она все-таки ваша родная сестра!
— Простите, сударыни! — И Ядассон произнес речь в защиту своих прав. Ведь он законный наследник графских владений! Мета Гарниш сказала:
— Но у вас был слишком вызывающий вид!
Тотчас же все взгляды устремились на его уши; послышались смешки. И Дидерих, в предчувствии близкой мести, со сладостно бьющимся сердцем взял под руку Ядассона, пронзительным голосом вопрошавшего, в чем же, наконец, дело, — и повел его туда, где президентша, прощаясь с Кунце, выражала майору свою живейшую признательность за его услуги, которые так способствовали успеху пьесы. Увидев Ядассона, она попросту показала ему спину. Ядассон так и примерз к полу, Дидерих не мог сдвинуть его с места.
— Что с вами? — осведомился он с наигранным участием. — Ах да, фрау фон Вулков. Вы ей не понравились. Прокурором, сказала она, вам не быть. Очень уж торчат у вас уши.
Дидерих был ко всему готов, но такой чудовищной гримасы он не ожидал! Куда девалась высокомерная резкость, которую Ядассон всю жизнь вырабатывал в себе!
— Я это знал, — прошептал он, но в этих словах, сказанных шепотом, слышался мучительный вопль… Вдруг он весь задергался, точно приплясывал на месте, и закричал: — Вам смешно, драгоценнейший! Но вы и не подозреваете, чем владеете. Ваша внешность — капитал. Дайте мне ваше лицо, ничего больше, и через десять лет я министр!
— Но-но! — воскликнул Дидерих. — Всего лица вам и не нужно, достаточно одних ушей.
— А вы не продадите их мне? — спросил Ядассон и так взглянул на Дидериха, что тот не на шутку струхнул.
— А разве это возможно? — неуверенно возразил он.
Ядассон, с циничной усмешкой на губах, уже подходил к Гейтейфелю.
— Господин доктор, вы ведь специалист по ушам.
Гейтейфель рассказал, что и в самом деле, — пока, правда, лишь в Париже, — такие операции делаются: уши можно уменьшить вдвое.
— Да их и не к чему убирать целиком, — заметил Гейтейфель. — Половина еще вам пригодится.
Ядассон уже вполне овладел собой.
— Остроумно! Бесподобно! Расскажу в суде. Ах, пройдоха! — и он похлопал Гейтейфеля по животу.
Дидерих тем временем решил уделить внимание сестрам, которые только что вышли из гардеробной, переодетые к балу. Их поздравляли с успехом, а они рассказывали о волнениях, пережитых на сцене.
— Чай, кофе, боже мой! У меня душа в пятки ушла, — говорила Магда.
Дидерих, на правах брата, тоже принимал поздравления. Он шел между сестрами. Магда опиралась на его руку, зато Эмми ему пришлось удерживать чуть ли не силой.
— Оставь эту комедию! — шипела она.
А он, расточая улыбки и приветствия, в промежутках глухо рычал ей на ухо:
— У тебя, правда, была маленькая роль, но будь довольна, что тебе хоть такую-то дали. Бери пример с Магды.
Магда кокетливо прильнула к нему, проявляя готовность изображать идиллию семейного счастья так долго, как он того пожелает.
— Детка, — сказал ей Дидерих с нежностью и уважением, — ты имела успех. Но, должен сказать, и я тоже. — Он даже сделал ей комплимент. — Ты сегодня прелесть как хороша. Даже досадно отдавать тебя за Кинаста.
А после того, как президентша, уходя, благосклонно кивнула им, они уже встречали на своем пути только почтительнейшие улыбки. В зале очистили место для танцев; в углу за пальмами оркестр грянул полонез. Дидерих, грациозно склонившись перед Магдой, торжествующе повел ее сразу же за майором Кунце, открывшим бал. Так они прошли мимо Густы Даймхен, которая не танцевала. Она сидела рядом с кривобокой фрейлейн Кюнхен и смотрела на них взглядом побитой собаки. От выражения ее лица Дидериху стало не по себе, как в ту минуту, когда он увидел Лауэра за тюремной решеткой.
— Бедная Густа, — сказала Магда.
Дидерих насупился.
— Да, да, это все оттого же.
— Но в сущности отчего же? — И Магда, прищурившись, посмотрела на него исподлобья.
— Не все ли равно, дитя мое, это так — и все тут.
— Дидель, пригласи ее на вальс.
— Не могу. Долг перед самим собой на первом месте.
И он сейчас же покинул зал. Молодой Шпрециус, теперь уже не лейтенант, а снова гимназист-выпускник, пригласил на танец кривобокую фрейлейн Кюнхен, которая весь вечер подпирала стены. Вероятно, он старался снискать благосклонность ее отца. Густа Даймхен осталась в одиночестве… Дидерих прошелся по боковым комнатам, где мужчины постарше играли в карты, получил длинный нос от фрейлейн Кетхен, которую застал с каким-то актером в укромном уголке за дверью, и добрался до буфета. Здесь за столиком расположился Вольфганг Бук; он зарисовывал в записной книжке мамаш, сидевших вдоль стен в ожидании дочерей.
— Очень талантливо, — сказал Дидерих. — А портрет своей невесты вы уже набросали?
— С этой стороны она для меня не представляет интереса, — ответил Бук таким безразличным голосом, что Дидерих даже усомнился, заинтересовало ли бы вообще жениха Густы то, что произошло в «Приюте любви».
— Вас никогда не поймешь, — разочарованно сказал он.
— Зато вас нетрудно понять, — заметил Бук. — Когда вы произносили на суде свой длинный монолог, мне хотелось вас зарисовать.
— Совершенно достаточно было вашей речи; в ней вы попытались, к счастью неудачно, скомпрометировать меня и в самом презренном виде представить всю мою деятельность.
Дидерих сверкнул очами. Бук с удивлением посмотрел на него.
— Вы, кажется, обиделись. А я ведь так хорошо говорил. — Он помотал головой и улыбнулся задумчиво и восхищенно. — Хотите, разопьем бутылочку шампанского? — сказал он.
— Мы с вами?.. — переспросил Дидерих. Но все же не отказался. — Своим решением суд отметил, что ваши упреки адресованы не только мне, а всем немцам националистического образа мыслей. И я считаю этот вопрос исчерпанным.
— Что будем пить? Гейдзик? — Дидериху пришлось волей-неволей чокнуться с ним. — Вы не можете не признать, милейший Геслинг, что так основательно, как я, вашей особой никто еще не занимался… скажу откровенно, роль, которую вы разыграли на суде, интересовала меня больше, чем моя собственная. Потом, дома, я сам исполнил ее перед зеркалом.
— Моя роль? Вы, вероятно, хотели сказать — мои убеждения. По-вашему, правда, характерная фигура нашего времени — актер.
— Я тогда имел в виду… другого. Но вы видите, что за объектами для наблюдения мне так далеко ходить не приходится. Если бы завтра мне не надо было защищать прачку, якобы укравшую у Вулковых кальсоны, я, может быть, сыграл бы Гамлета. Ваше здоровье!
— Ваше здоровье! Для этого вам во всяком случае нет нужды обзаводиться убеждениями.
— Боже ты мой, да они у меня есть. Но никогда не менять их?.. Значит, вы советуете мне стать актером? — спросил Бук. Дидерих уже открыл было рот, чтобы одобрить намерения Бука, но в это мгновенье вошла Густа, и он покраснел; именно о ней он и подумал, когда Бук задал свой вопрос.
— Тем временем перестоится мой горшок с колбасой и капустой, а ведь это такое вкусное блюдо, — мечтательно сказал Вольфганг.
Густа, бесшумно подкравшись сзади, закрыла ему глаза руками и спросила:
— Кто это?
— Оно самое, — сказал Бук и легонько шлепнул ее.
— У вас здесь, видно, интересный разговор? Может, мне уйти? — спросила Густа.
Дидерих поспешил принести ей стул; но, честно говоря, он предпочел бы остаться вдвоем с Буком: лихорадочный блеск ее глаз не предвещал ничего доброго. Она говорила быстрее обычного:
— В сущности вы одного поля ягода. Только почему-то чинитесь, церемонии разводите.
— Это взаимное уважение, — сказал Бук.
Дидерих смутился, но тут с языка у него сорвалось нечто такое, чему он и сам удивился:
— Вы понимаете, фрейлейн Густа, когда мы расстаемся с вашим уважаемым женихом, я злюсь на него, но при следующей встрече опять ему рад. — Он выпрямился. — Должен сказать, что не будь я националистом, он бы меня им сделал.
— Зато будь я националистом, — мягко улыбаясь, молвил Бук, — он бы меня живо отвадил. В этом вся прелесть.
Но Густа была явно чем-то встревожена. Она была бледна и нервно глотала слюну.
— Я хочу тебе кое-что сказать, Вольфганг. Держу пари, тебе сделается дурно.
— Господин Розе, подайте нам вашего генесси! — крикнул Бук.
Он смешивал коньяк с шампанским, а Дидерих вцепился в руку Густы и, так как бальный оркестр в это мгновение оглушительно загремел, умоляюще шепнул:
— Не глупите!
Она пренебрежительно улыбнулась:
— Доктор Геслинг трусит! Он находит эту сплетню слишком подлой, по-моему же она просто уморительна. — И Густа громко рассмеялась. — Как тебе это нравится? Говорят, будто твой отец и моя мать… Ты понимаешь? И поэтому якобы мы с тобой… ты понимаешь?
Бук медленно повернул голову, потом ухмыльнулся:
— А хоть бы и так.
Густа уже не смеялась.
— То есть, что значит хоть бы и так?
— А то, что если нетцигчане верят в нечто подобное, значит, это им не в диковинку и нечего волноваться.
— Пустые слова, — отрезала Густа. — От них ни тепло, ни холодно.
Дидерих решил отмежеваться от такой точки зрения.
— Поскользнуться может всякий. Но никто не может безнаказанно пренебречь мнением окружающих.
— Он все думает, — вставила Густа, — что рожден не для этого мира.
Дидерих в тон ей:
— Времена нынче суровы. Кто не защищается, тот погибает.
Впадая в истерический восторг, Густа выкрикнула:
— Доктор Геслинг не то что ты! Он за меня вступился! У меня есть доказательство, я об этом узнала от Меты Гарниш; я ее вынудила заговорить. Он вообще единственный, кто за меня заступился. На твоем месте он проучил бы тех, кто осмеливается обливать меня грязью.
Дидерих кивнул, как бы подписываясь под этими словами. Бук вертел перед собой бокал, глядя на свое отражение в стекле. Вдруг он резко отодвинул его.
— А кто вам сказал, что у меня нет желания как следует проучить кого-нибудь одного — так вот выхватить одного, не выбирая — ведь почти все тут одинаково безмозглы и гнусны.
Он закрыл глаза. Густа пожала голыми плечами.
— Болтовня, они вовсе не глупы, они знают, чего хотят. Эти дураки умных за пояс заткнут, — вызывающе объявила она, а Дидерих иронически кивнул. Но тут Бук поднял на него глаза, из которых вдруг точно глянуло безумие. Судорожно водя дрожащими кулаками вокруг шеи, он заговорил:
— Если же… — он вдруг охрип, — если же я схвачу за горло того мерзавца, который все это плетет, который воплощает в себе все, что есть низменного и злого в людях; если я схвачу за горло его, этот собирательный образ всего бесчеловечного, всего недочеловеческого…
Дидерих, белее своей бальной сорочки, бочком соскользнул со стула и медленно попятился назад. Густа вскрикнула, вскочила и в страхе прижалась к стене.
— Это все коньяк! — крикнул ей Дидерих.
Но ярость, горящая во взглядах Бука, которые метались между Густой и Дидерихом и грозили лютой расправой, вдруг улеглась.
— Смесь-то мне теперь нипочем, привык, — сказал он. — Я только хотел показать, что мы и это можем.
Дидерих с шумом опустился на стул.
— Вы все-таки комедиант, и больше ничего, — сказал он возмущенно.
— Вы думаете? — спросил Бук, и веселые огоньки в его глазах разгорелись еще ярче.
Густа презрительно поморщилась.
— Ну, хорошо, развлекайтесь себе здесь, а я пойду, — сказала она и встала. Неожиданно перед ними вырос член суда Фрицше, он отвесил поклон сначала ей, потом Буку. Не разрешит ли господин адвокат протанцевать с его невестой котильон? Он говорил крайне вежливо, как бы примирительно. Бук сдвинул брови и ничего не ответил. Но Густа уже подала руку Фрицше.
Бук невидящими глазами поглядел им вслед, лоб его прорезала глубокая поперечная складка. «Да, да, милейший, — думал Дидерих, — удовольствие небольшое встретить господина, который только что совершил с твоей сестрой увеселительную поездку, а теперь уводит твою невесту, и ты совершенно бессилен помешать этому, потому что шумом только раздуешь скандал, тем более что твоя помолвка уже сама по себе скандальна».
Бук встрепенулся.
— А знаете, — сказал он, — только теперь мне по-настоящему захотелось связать себя брачными узами с фрейлейн Даймхен. Раньше я не видел в этом ничего из ряда вон выходящего, теперь же нетцигские жители придали моему сватовству особую пикантность.
— Вы находите? — выжал из себя Дидерих, озадаченный столь неожиданной реакцией.
— А почему бы нет? Мы с вами, два антипода, внедряем в здешнюю жизнь передовые течения нашей аморальной эпохи. Мы подхлестываем жизнь. Дух времени пока еще бродит по этому городу в войлочных туфлях.
— Мы дадим ему шпоры, — пообещал Дидерих.
— За шпоры!
— За шпоры! Но только за мои шпоры! — Дидерих сверкнул очами. — Ваш скептицизм и бесхребетное мировоззрение не современны. — Он шумно фыркнул. — Красоты духа нынче никому не нужны. Националистическому действию, — он стукнул кулаком по столу, — националистическому действию принадлежит будущее!
Бук снисходительно улыбнулся:
— Будущее? В том-то и дело, что это заблуждение. Националистическое действие! Вот уже сто лет, как оно отжило. То, что мы видим и что нам еще предстоит увидеть, это его агония и смрад его разложения. Амбре не из приятных.
— От вас я ничего другого и не ожидал; вам ведь ничего не стоит втоптать в грязь самое святое.
— Святое! Неприкосновенное! Скажем сразу — вечное! Верно ведь? Вне идеалов вашего национализма люди больше никогда, никогда не будут жить. Прежде, возможно, и жили, в тот темный период истории, который еще не знал вас. А теперь вы вышли на арену, и миру, очевидно, дальше идти некуда. Воспитать националистическое чванство и взрастить ненависть между нациями — вот ваша цель, и нет ничего превыше ее.
— Мы живем в суровое время, — серьезно подтвердил Дидерих.
— Не столь суровое, сколь косное… Я не убежден, что люди, которым выпало на долю жить в Тридцатилетнюю войну, верили в нерушимость своего, тоже отнюдь не мягкого, времени. И я убежден, что те, кто страдал от произвола эпохи рококо, не считали его необоримым, иначе они не совершили бы революции. Где на просторах истории, доступных нашему обозрению, можно найти эпоху, которая объявила бы себя непреходящей и козыряла перед вечностью своей печальной ограниченностью? Которая суеверно клеймила бы каждого, сколько-нибудь ее опередившего? Быть чуждым национализму — это вызывает в вас скорее ужас, чем ненависть. Но бродяги, не помнящие родства, следуют за вами по пятам. Они там, в зале, взгляните!
Дидерих расплескал свое шампанское — так порывисто он оглянулся. Неужели Наполеон Фишер со своими единомышленниками ворвался сюда?.. Бук беззвучно от души хохотал.
— Не поймите меня буквально, я имел в виду тех безмолвных людей, что запечатлены на этих стенах. Почему у них такие веселые лица? Что дает им право легким шагом ступать по дорогам, усеянным цветами, и наслаждаться гармонией? О друзья! — Бук поднял бокал, глядя через головы танцующих на фрески. — О вы, друзья человечества и прекрасного будущего, люди широкой души, чуждые мрачному эгоизму националистического союза сородичей! О вы, души, объемлющие мир, вернитесь! Даже среди нас найдутся еще люди, которые ждут вас!
Он выпил свое вино. Дидерих с презрением заметил, что он плачет. Впрочем, Бук тут же лукаво прищурился.
— А вы, нынешнее поколение, наверное и не знаете, что это за шарф повязан через плечо у старого бургомистра, так светло улыбающегося вон там, на заднем плане, среди должностных лиц и пастушек? Краски шарфа поблекли; вы, конечно, воображаете, что это ваши национальные цвета? Нет, это цвета французской триколоры, трехцветного знамени. Новое в то время, оно не было знаменем одной страны, это были цвета зари, встававшей над всем человечеством. Носить эти цвета считалось доказательством наиболее благородных убеждений, или, как сказали бы вы, — строго корректных. Ваше здоровье!
Но Дидерих незаметно отодвинулся вместе со стулом и опасливо озирался по сторонам, не слышит ли кто эти речи.
— Вы пьяны, — пробормотал он и, чтобы спасти положение, крикнул: — Господин Розе, еще бутылку! — Он выпрямился и важно посмотрел на Бука. — Вы, по-видимому, забыли, что потом был Бисмарк!
— И не он один, — сказал Бук. — Европу со всех сторон загоняли в национальные теснины. Допустим, такое явление было неизбежно. Допустим, за тесниной открывались обетованные просторы… Но вы-то разве следовали за вашим Бисмарком, пока он был прав?. Нет, он силком тащил вас за собой, вы роптали на него. А теперь, когда вам следовало бы пойти дальше, чем пошел он, вы цепляетесь за его бессильную тень. Ибо обмен веществ у вас, националистов, совершается до отчаяния медленно. Пока вы смекнули, что перед вами великий человек, он уже перестал быть великим.
— Вы еще узнаете его! — посулил Дидерих. — Кровь и железо были и остаются самым действенным методом лечения! Право на стороне сильного! — Возвещая этот символ веры, он весь побагровел. Но и Бук разгорячился.
— Сила! Власть! Власть нельзя вечно носить на острие штыка, словно колбасу на вертеле. В наши дни единственная реальная сила — это мир! Разыгрывайте комедию насилия! Бряцайте оружием перед воображаемыми врагами внешними и внутренними. К счастью, вам не дано свершать!
— Не дано! — Дидерих пыхтел так, точно изо всех сил раздувал огонь. — Его величество кайзер сказал: «Уж лучше пусть лягут костьми все восемнадцать армейских корпусов и сорок два миллиона жителей{20}…»
— «Ибо, где реет германский орел…» — воскликнул Бук с неожиданным пылом, и еще неистовей: — «Никаких парламентских резолюций; армия — вот наш единственный оплот».
— «Вы призваны прежде всего оборонять меня от внешних и внутренних врагов!» — не отставал Дидерих.
— «Защищать от шайки изменников!» — орал Бук. — «Кучка людей…»
— «Недостойная называться немцами!» — подхватил Дидерих.
И оба хором:
— «Будь то отец родной или брат — расстреливать!»
Шум, поднятый ими, привлек внимание танцоров, заходивших в буфет смочить горло. Они позвали своих дам полюбоваться зрелищем героического опьянения. Даже заядлые картежники и те вставали из-за ломберных столов и заглядывали в буфет. Все с любопытством наблюдали за Дидерихом и его собутыльником; а они, раскачиваясь на стульях, судорожно уцепившись за край стола, с остекленелыми глазами и оскаленными зубами орали друг другу в лицо:
— «…врага, и это мой враг».
— «В стране есть лишь один властелин, второго я не потерплю!»
— «Я могу быть очень суров!»
Оба старались перекричать друг друга.
— «Ложная гуманность!»
— «Не помнящие родства бродяги — враги божественного миропорядка!»
— «Должны быть вырваны с корнем!»
В стену полетела бутылка.
— «Растопчу!»
— «Германский прах!.. С ночных туфель!.. Дни блаженства!..»
В это мгновение сквозь толпу зрителей ощупью пробралась девушка с завязанными глазами: это была Густа Даймхен. Ей полагалось таким образом найти себе кавалера. Она остановилась за спиной Дидериха, ощупала его и хотела увлечь за собой. Но он уперся, грозно повторяя: «Дни блаженства!» Она сдернула с глаз повязку, с ужасом посмотрела на него и позвала Магду и Эмми. Бук тоже понял, что, видимо, пора уходить. Незаметно поддерживая приятеля, он подталкивал его к выходу, но в дверях Дидерих все же еще раз повернулся к танцующей, глазеющей толпе и, хотя уже не способен был сверкать остекленевшими глазами, крикнул, властно выпрямившись:
— Растопчу!
Тут его свели вниз и усадили в карету.
На следующий день Дидерих встал в двенадцатом часу с отчаянной головной болью и, выйдя в столовую, очень удивился, когда Эмми тотчас же с возмущенным видом покинула комнату. Но как только Магда осторожно намекнула ему на некоторые подробности его вчерашнего поведения, он сразу сообразил, в чем дело.
— Неужели я это сделал? И при дамах? Существует много возможностей выказать себя истинным немцем. Но для дам приходится изыскивать особые… В таких случаях, разумеется, следует срочно самым чистосердечным и корректным образом загладить свою вину.
Хотя Дидерих с трудом глядел на свет божий, он все же твердо знал, что надо сделать. Пока ждали парадную пароконную карету, за которой послали, он облачился в сюртук, белый галстук и цилиндр; садясь, вручил кучеру составленный Магдой список и отправился в путь. Повсюду он спрашивал дам — некоторых даже вспугнул из-за стола и, не вполне отдавая себе отчет, кто перед ним — фрау Гарниш, фрау Даймхен или фрау Тиц, — произносил осипшим с перепоя голосом:
— В присутствии дам… Признаю… Как истинный немец… Самым чистосердечным и корректным образом…
В половине второго Дидерих был уже дома. Со вздохом сел за обед.
— Все улажено!
Послеобеденные часы он посвятил решению более трудной задачи. Он вызвал к себе на квартиру Наполеона Фишера.
— Господин Фишер, — начал он, жестом приглашая его сесть. — Я принимаю вас здесь, а не в конторе потому, что наши с вами дела Зетбира не касаются. Речь идет о политике.
Наполеон Фишер кивнул, словно хотел сказать, что он, мол, так и думал. Он, видно, уже привык к таким доверительным беседам, по первому же знаку Дидериха взял из коробки сигару и даже закинул ногу на ногу. Дидерих далеко не был так уверен в себе, он долго сопел носом и вдруг решился идти напролом, ринуться к цели с открытым забралом. Как Бисмарк.
— Я, видите ли, хочу пройти в гласные, — заявил он, — и для этого вы мне нужны.
Механик взглянул на него исподлобья.
— И вы мне нужны, — сказал он. — Я тоже хочу пройти в гласные.
— Не может быть! Вот так так! Я ждал всего, но…
— Небось опять припасли свои кроны? — Фишер оскалил желтые зубы. Он уже не прятал своей ухмылки.
Дидерих понял, что на этот счет сговориться с ним будет труднее, чем насчет изувеченной работницы.
— Понимаете, господин доктор, — сказал Наполеон, — одно из двух вакантных мест получит наша партия, это как пить дать. Второе, вероятно, достанется свободомыслящим. Если вы хотите свалить их, вам без нас не обойтись.
— Это-то я понимаю, — сказал Дидерих. — Правда, поддержка старика Бука мне обеспечена. Но, по всей вероятности, не все его единомышленники настолько наивны, чтобы голосовать за меня, если я пойду по списку свободомыслящих. Вернее будет и с вами вступить в соглашение.
— Я уже представляю себе, как это сделать, — сказал Наполеон. — Давно, знаете ли, я слежу за вами и думаю, когда же это господин доктор вступит на политическую арену? Не пора ли? — Наполеон пускал в воздух колечки сигарного дыма, — так уверенно он себя чувствовал! — Ваш процесс, господин доктор, а потом эта штука с ферейном воинов и прочее, все это хорошая реклама. Но для политического деятеля важно только одно — сколько голосов он соберет.
Наполеон делился с Дидерихом своим богатым опытом! Когда он заговорил о «националистическом балагане», Дидерих было вскинулся, но Наполеон быстро поставил его на место.
— Чего вы хотите? Мы в нашей партии питаем к национал-балаганщикам самые уважительные чувства. С вами куда лучше делать дела, чем со свободомыслящими. От буржуазной демократии скоро останутся рожки да ножки.
— А мы и те выкинем на свалку! — воскликнул Дидерих.
Союзники рассмеялись от удовольствия. Дидерих достал бутылку пива.
— Од-на-ко, — раздельно произнес социал-демократ и выложил свое условие: город должен помочь партии построить дом профессиональных союзов.
— И вы осмеливаетесь требовать это от националиста?! — взвился Дидерих.
— Если мы этого националиста не поддержим, какой ему прок от национализма? — хладнокровно и насмешливо ответил его собеседник.
Как ни ерепенился Дидерих, как ни молил о пощаде, ему все же пришлось выдать письменное обязательство в том, что он не только сам проголосует за постройку дома профессиональных союзов, но и обработает в этом направлении своих единомышленников. Расписавшись, он сразу же грубо объявил, что разговор окончен, и выхватил из рук Наполеона бутылку с пивом. Но механик только подмигнул ему. Пусть господин доктор радуется, что ведет переговоры с ним, Наполеоном Фишером, а не с хозяином партийного кабачка Рилле. Этот Рилле выдвигает свою кандидатуру, и уж он бы на такой сговор не пошел. А в партии мнения разделились; таким образом, в интересах Дидериха поддержать кандидатуру Фишера через газеты, на которые он имеет влияние.
— Вы, господин доктор, пожалуй, спасибо не скажете, если посторонние люди, как Рилле например, попробуют сунуть нос в ваши делишки. Мы с вами — дело другое. Нам не впервой вместе хоронить концы.
С этими словами он ушел, оставив Дидериха наедине со своими чувствами. «Нам не впервой вместе хоронить концы!» — повторил он про себя и весь затрясся от страха, который сменяли приступы гнева. И такое посмел сказать ему этот пес, его собственный кули, которого он в любой момент может выставить на улицу! Нет, честно говоря — не может, ведь они вместе хоронили концы. Голландер! Изувеченная работница! Одна тайна влечет за собой другую. Теперь Дидерих и его рабочий связаны друг с другом не только на фабрике, но и в политике. Уж лучше бы связаться с кабатчиком Рилле. Однако тогда возникает опасность, что Наполеон в отместку разгласит все их махинации. Дидерих понимал, что поставлен в необходимость помочь Фишеру устранить с его пути Рилле.
— Но мы еще поговорим с тобой! — И Дидерих потряс поднятым к потолку кулаком. — Пусть через десять лет, но я с тобой рассчитаюсь!
Теперь следовало нанести визит старику Буку и почтительно выслушать весь тот добродетельный и сентиментальный вздор, которым он его попотчует. И вот Дидерих — кандидат от партии свободомыслящих… В «Нетцигском листке», прямо под статьей, тепло рекомендовавшей избирателям доктора Геслинга как человека, гражданина и политического деятеля, была напечатана более мелким шрифтом заметка с резким протестом против кандидатуры рабочего Фишера. В социал-демократической партии, мол, достаточно самостоятельных хозяев, — что, к сожалению, надо признать, — и ей незачем навязывать простого рабочего в качестве коллеги представителям бюргеров. В частности, неужели доктор Геслинг будет поставлен в необходимость общаться в лоне городского самоуправления со своим собственным механиком?!
Этот выпад буржуазной газеты восстановил среди социал-демократов полное единодушие: даже Рилле волей-неволей был вынужден высказаться за Наполеона, и на выборах он прошел с блеском. Дидерих получил от выставившей его партии только половину нужных ему голосов, спасли его социал-демократы. Новых гласных одновременно представили магистрату. Бургомистр доктор Шеффельвейс поздравил их, указав, что с одной стороны — энергичный представитель буржуазии, а с другой — целеустремленный рабочий… И уже на следующем заседании Дидерих принял деятельное участие в обсуждении очередных дел.
В повестке дня значился вопрос о канализации Геббельхенштрассе. Многие старые дома этого предместья и теперь, на пороге двадцатого столетия, все еще пользовались выгребными ямами; их ядовитые испарения то и дело проникали в соседние районы. В тот вечер, когда Дидерих попал в «Зеленый ангел», он сам в этом убедился. И он энергично восстал против финансовых и технических соображений одного из членов магистрата. Требование, предъявляемое во славу цивилизации, выше мелочных расчетов.
— «Германский дух — это культура»! — воскликнул Дидерих. — Милостивые государи! Так сказал ни более ни менее как его императорское величество кайзер. А по другому случаю его величество изволили выразиться так: «Подобному свинству нужно положить конец». Во всех начинаниях, где нужно проявить размах, пусть вдохновляет нас возвышенный пример его величества, а потому, милостивые государи…
— Ура! — послышался одинокий голос слева, и Дидерих увидел ухмыляющееся лицо Наполеона Фишера. Тогда он выпрямился, он засверкал очами.
— Совершенно верно! — громко воскликнул он в ответ. — Лучшего заключения для моей речи не придумаешь! Его величеству кайзеру ура, ура, ура!
Смущенное молчание… Но так как социал-демократы смеялись, то среди правых несколько человек крикнуло «ура». Доктор Гейтейфель тем временем внес запрос, не является ли в сущности оскорблением величества упоминание его имени в такой странной связи? Председательствующий немедленно прекратил прения. В прессе же дебаты продолжались. «Глас народа» утверждала, что доктор Геслинг вносит в заседания магистрата дух самого гнусного раболепия, меж тем как «Нетцигский листок» называл его речь вдохновляющим выступлением пламенного патриота. И только когда на словопрения в прессе откликнулась «Берлинер локаль-анцейгер», всем стало ясно, что произошло событие большого значения. Газета его величества на все лады расхваливала мужественное выступление нетцигского городского гласного доктора Геслинга. Она с удовлетворением отмечала, что новый дух решительного национализма, который проповедует кайзер, завоевывает всю страну. Призыв кайзера услышан, граждане пробуждаются от спячки, происходит размежевание между теми, кто за кайзера, и теми, кто против него. «Пусть доктор Геслинг послужит примером для многих славных представителей наших городов!»
Дидерих уже с неделю носил на груди этот номер газеты. И вот однажды, в ранний утренний час, он, сделав крюк, чтобы обойти Кайзер-Вильгельмштрассе, с заднего хода проскользнул в пивную Клапша, где его дожидались Наполеон Фишер и хозяин партийного кабачка Рилле. Хотя в пивной не было ни души, все трое забились в самый дальний угол. Фрейлейн Клапш не успела принести гостям пива, как ее тотчас же выпроводили: сам Клапш, подслушивавший у дверей, не мог ничего уловить, кроме шушуканья. Он попытался воспользоваться окошечком, через которое подавал пиво в часы оживленной торговли, но опытный в этом деле Рилле захлопнул окошечко у него перед носом. И все-таки Клапш успел заметить, что доктор Геслинг вскочил и как будто грозился уйти. К этому он, как националист, никогда руки не приложит!.. Позднее, однако, фрейлейн Клапш, которую позвали, чтобы расплатиться за пиво, уверяла, что она видела бумагу, где стояли подписи всех троих.
На тот же день Эмми и Магда получили приглашение от фрау фон Вулков на чашку чая, и Дидерих сопровождал их. Гордо подняв головы, шествовали брат и сестры по Кайзер-Вильгельмштрассе. Проходя мимо масонской ложи, Дидерих сдержанно приподнял цилиндр, приветствуя знакомых, которые стояли на крыльце и с удивлением смотрели, как он входит в резиденцию регирунгспрезидента. Часового он приветствовал фамильярным движением руки. В гардеробной брат и сестры встретили офицеров и их дам, с которыми обе фрейлейн Геслинг были уже знакомы. Звякнув шпорами, лейтенант фон Брицен помог Эмми снять пальто; она поблагодарила его через плечо, что твоя графиня, и наступила Дидериху на ногу: помни, мол, где находишься, и не поскользнись. И в самом деле, когда лейтенант фон Брицен согласился, наконец, пройти первым в гостиную, когда кончились восторженные расшаркивания перед президентшей, которая представила Дидериха всему обществу, какая же почетная и опасная задача встала перед ним — сидеть на легком стульчике, втиснувшись между двумя дамскими туалетами, держать на весу чашку чая и в то же время с очаровательной улыбкой принимать и передавать вазу с пирожными, а между двумя глотками не забыть сказать несколько любезных слов о выдающемся успехе «Тайной графини», несколько сдержанно серьезных — во славу обширной деятельности господина регирунгспрезидента, несколько решительных — против крамолы, с уверением в собственных верноподданнических чувствах, и при этом все время подкармливать вулковскую собаку, которая стоит тут же и клянчит. О невзыскательном обществе, собиравшемся в погребке или в ферейне воинов, не стоило и вспоминать: здесь нужно была, не моргая, с судорожной улыбкой смотреть в бесцветные водянистые глаза капитана фон Кекерица, человека с бледной лысиной и огненно-красным — от середины лба до подбородка — лицом, и слушать его рассказы о происшествиях на учебном плацу. И вот, когда от напряженного ожидания вопроса, служил ли ты в армии, тебя заранее бросает в пот, сидящая рядом дама с гладко зачесанными наверх белокурыми волосами и облупленным носом нежданно-негаданно заводит с тобой разговор о лошадях… На этот раз Дидериха выручила Эмми. Поддерживаемая лейтенантом фон Вриценом, с которым она, казалось, была уже коротко знакома, Эмми искусно вступила в разговор о лошадях, пересыпая свою речь специальными терминами, и даже не побоялась тут же сочинить миф о прогулках верхом по горным перевалам, которые она будто бы совершала в имении своей тетки. Когда же лейтенант предложил ей вместе отправиться верхом за город, она отговорилась тем, что бедная фрау Геслинг не разрешает ей ездить верхом. Дидерих не узнавал Эмми. Своими талантами, от которых Дидериха оторопь брала, она затмила Магду; а Магде ведь удалось подцепить жениха! Дидерих не без ужаса подумал, как в тот раз, когда возвращался из «Зеленого ангела», о неведомых путях, на которые может вступить девушка, если… Вдруг он заметил, что, отвлекшись своими мыслями, он прослушал вопрос хозяйки дома, и все молчат в ожидании его ответа. Он оглянулся, как бы прося о помощи, но встретил лишь неумолимый взгляд, устремленный на него с большого портрета: это был он, бледный, каменный, в красной форме гусара, одна рука на бедре, кончики усов у самых глаз, какой холодный блеск в глазах, глядевших через плечо! Дидерих затрясся, он захлебнулся чаем, фон Брицен похлопал его по спине.
Одна дама, которая все время усиленно налегала на еду, собралась петь… В музыкальном салоне все расположились группами. Дидерих, остановившись в дверях, вынул украдкой часы и вдруг услышал у себя за спиной покашливание хозяйки дома.
— Я понимаю, дорогой доктор, что не нам и нашей легкой, слишком легкой болтовне вы жертвуете свое время, столь драгоценное для человека, обремененного важными обязанностями. Мой муж ждет вас. Идемте!..
Приложив палец к губам, она пошла вперед. Миновали коридор, пересекли пустую переднюю. Тихо-тихо президентша постучала в дверь. Ответа не было. Она робко оглянулась на Дидериха; у него тоже душа в пятки ушла.
— Оттохен, — позвала она, нежно прильнув к запертой двери.
Они прислушались. Наконец, после паузы, из кабинета президента донесся страшный бас:
— Дался тебе Оттохен! Скажи своим остолопам, пусть лакают чай без меня!
— Он так занят! — прошептала фрау фон Вулков, слегка побледнев. — Неблагонадежные подрывают его здоровье… К сожалению, я вынуждена вернуться к гостям. О вас доложит лакей… — И она ушла.
Дидерих тщетно ждал лакея. Потянулись долгие минуты. Но вот появился огромный вулковский пес; он с презрением прошел мимо Дидериха и царапнул дверь. Тотчас же раздалось: «Шнапс, войди!» — и дог сам открыл дверь. Воспользовавшись тем, что она осталась распахнутой, Дидерих дерзнул вместе с ним проскользнуть в комнату. Фон Вулков, окутанный клубами табачного дыма, сидел за письменным столом, громадной спиной к дверям.
— Добрый день, господин Регирунгспрезидент, — сказал Дидерих, щелкнув каблуками.
— Да ну, Шнапс, никак и ты научился языком чесать? — спросил Вулков, не оборачиваясь. Он сложил вчетверо какую-то бумагу, неторопливо закурил новую сигару… «Ну, наконец-то», — подумал Дидерих. Но Вулков опять принялся писать. Одна лишь собака интересовалась Дидерихом. По-видимому, она решила, что здесь гость еще менее на месте, чем за дверью, ее презрение перешло в открытую неприязнь; оскалив зубы, дог обнюхивал брюки Дидериха. Это было, пожалуй, уже не простое обнюхивание. Дидерих, стараясь не шуметь, переступал с ноги на ногу, а дог урчал грозно, но приглушенно, прекрасно понимая, что иначе хозяин заставит его прекратить игру. Дидериху как-то удалось поставить между собой и своим врагом стул и, вцепившись в его спинку, кружить то быстрее, то медленнее, — надо было все время быть начеку, как бы Шнапс не наскочил сбоку. Один раз Вулков чуть-чуть повернул голову, и Дидериху показалось, что он ухмыльнулся. Наконец псу наскучила игра, он подошел к хозяину, и тот погладил его; улегшись около кресла Вулкова, дог смелым взглядом охотника мерил Дидериха, вытиравшего с лица пот.
«Проклятая скотина», — подумал Дидерих, и вдруг все в нем заклокотало. Он задыхался от негодования и густого табачного дыма; подавляя кашель, он думал: «Кто я такой, что позволяю так со мной обращаться? Последний смазчик на моей фабрике не потерпел бы такого обращения. У меня докторский диплом! Я член городского самоуправления! Этот невежественный наглец нуждается во мне больше, чем я в нем». Все, что Дидерих увидел и перечувствовал в гостиной президентши, предстало теперь перед ним в зловещем свете. Над ним потешались. Молокосос лейтенант хлопал его по спине! Эти службисты и знатные дуры без конца несли вздор, а он сидел среди них болван болваном! «За чей счет живут эти чванливые тунеядцы? За наш!» Его убеждения, его чувства, — все в один миг рассыпалось в душе Дидериха, и из-под обломков взметнулось жаркое пламя ненависти. «Кровопийцы! Только и умеете, что саблей бряцать! Высокомерная сволочь!.. Мы расправимся со всей вашей бандой! Дождетесь!» Его кулаки сами собой сжимались, в припадке немого бешенства он видел растоптанным, развеянным в прах все: правительство, армию, чиновничество, все органы власти и ее самое — власть! Власть, которой мы позволяем топтать себя и лобызаем ее копыта! Против которой мы бессильны, потому что любим ее! Она у нас в крови, потому что преклонение перед ней у нас в крови! Мы ее атомы, мельчайшая молекула в ее плевке!.. Со стены, сквозь сизое облако, смотрело ее бескровное лицо, железное, беспощадное, сверкающее; но Дидерих, не помня себя от ярости, поднял кулак…
Вулковский пес зарычал, а из-под регирунгспрезидента раздался раскатистый треск — и Дидерих испуганно сжался. Он не понимал, что за наваждение нашло на него. Здание порядка, вновь восстановленное в его душе, еще слегка пошатывалось. Господин Регирунгспрезидент занят важными государственными делами. Вполне естественно, что приходится ждать, пока тебя заметят; а тогда уж знай высказывай свой благонамеренный образ мыслей и заботься о собственном преуспеянии.
— А, это вы, ученый муж? — сказал господин фон Вулков и повернулся к нему вместе с креслом. — Как дела? Вы становитесь настоящим государственным деятелем! Что ж, займите, займите сие почетное место!
— Льщу себя надеждой, — пробормотал Дидерих. — Кое-чего уже удалось добиться на благо дела национализма.
Вулков пустил ему в лицо мощную струю дыма и почти вплотную приблизил к нему свои плотоядные цинические глаза монгольского разреза.
— Прежде всего, голубчик, вы добились того, что прошли в гласные. Каким образом — разбираться не будем. Так или иначе, это вам сейчас очень на руку, фабрика ваша, говорят, совсем захирела. — Дидерих вздрогнул, а Вулков оглушительно захохотал. — Чего это вы? Мы ведь свои люди. Как вы думаете, что я здесь написал? — Он положил свою лапищу на большой лист бумаги и целиком закрыл его. — Я требую от министра этакого маленького германского орла для некоего господина Геслинга, в знак признания его заслуг: внедрения благонамеренного образа мыслей в Нетциге… Вы, верно, не ожидали от меня такой любезности? — прибавил он, ибо Дидерих, ослепленный, оглушенный, с бессмысленным выражением лица, не вставая со стула, непрерывно кланялся.
— Не знаю, право, чем… — произнес он наконец. — Мои скромные заслуги…
— Лиха беда — начало, — сказал Вулков. — Это лишь поощрение. Ваша позиция в процессе Лауэра была недурна. Ну, а ваше «ура» кайзеру в конце прений о канализации привело всю антимонархическую печать в совершеннейшее неистовство. В трех городах возбуждено по этому поводу дело об оскорблении величества. Приходится подчеркнуть, что мы вас поддерживаем и поощряем.
— Для меня лучшая награда, — воскликнул Дидерих, — что имя мое, имя ничем не примечательного бюргера, напечатанное в «Локаль-анцейгере», предстанет пред светлейшие очи его императорского величества!
— Ну, а теперь возьмите-ка сигару, — сказал Вулков, и Дидерих понял, что начинается деловая часть беседы. Уже в пылу восторженных чувств у него мелькнуло сомнение, не кроется ли за вулковской милостью совершенно особая причина. Дидерих пустил пробный шар:
— Ассигнования на постройку железной дороги до Раценгаузена город все же одобрит.
Вулков помотал головой.
— Ваше счастье. А то у нас есть более дешевый проект, по которому Нетциг вообще останется в стороне, помните это. Так что позаботьтесь, чтобы ваши гласные не чудили. Ну, а когда вынесете решение снабжать током именье Квицин?
— Магистрат против этого. — Дидерих воздел руки, как бы моля о пощаде. — Для города это убыточно, а господин фон Квицин не платит нам никаких налогов… Но я, как националист…
— Я бы этого просил. Иначе мой кузен господин фон Квицин возьмет да построит себе собственную электрическую станцию, ему это, сами понимаете, обойдется недорого: в имение моего кузена ездят охотиться два министра… И тогда он собьет ваши цены на электричество в Нетциге.
Дидерих выпрямился.
— Господин регирунгспрезидент, я готов, врагам наперекор, высоко держать в Нетциге знамя национализма. — И понизив голос: — От одного врага мы можем немедленно избавиться, от врага особенно злостного — это старый Клюзинг из Гаузенфельда.
— От этого? — Вулков презрительно ухмыльнулся. — Он у меня ручной. Он поставляет бумагу для окружных газет.
— А уверены ли вы, что он не поставляет еще больше бумаги неблагонамеренным газетам? Прошу прощения, но на этот счет, господин президент, я, пожалуй, все-таки информирован лучше.
— «Нетцигский листок» стал теперь более надежен с точки зрения национализма.
— Да, конечно… — Дидерих многозначительно кивнул. — С того самого дня, как старик Клюзинг вынужден был передать мне часть поставок. Гаузенфельдская фабрика, сказал он, перегружена. Разумеется, он опасался, что я сговорюсь с какой-либо из конкурирующих националистических газет. А быть может… — Дидерих снова выдержал выразительную паузу, — господин президент предпочтет передать заказы на бумагу для окружных газет националистическому предприятию?
— Значит… вы поставляете теперь бумагу для «Нетцигского листка»?
— Я никогда не поступлюсь своим националистическим образом мыслей настолько, чтобы поставлять бумагу газете, пока она содержится на деньги свободомыслящих.
— Ну и прекрасно, — Вулков уперся кулаками в ляжки. — Все понятно, можете не распространяться на этот счет. «Нетцигский листок» вы хотите заграбастать для себя целиком и окружные газеты прихватить. Вероятно, не откажетесь и от поставок правительству. Что еще?
— Господин президент, — деловито ответил Дидерих, — я не какой-нибудь Клюзинг, я с крамольниками на сделки не иду. Если бы вы, как председатель Библейского общества{21}, захотели оказать поддержку моему предприятию, смею надеяться, что дело национализма от этого только бы выиграло.
— Ну и прекрасно, — повторил Вулков и подмигнул.
Дидерих выложил свой козырь.
— Господин президент! Пока владельцем гаузенфельдской фабрики является Клюзинг, она не перестанет быть рассадником крамолы. Из восьмисот рабочих там нет ни одного, кто не голосовал бы за социал-демократов.
— А у вас?
Дидерих ударил себя в грудь.
— Бог свидетель, что я предпочел бы закрыть свою фабрику и обречь себя и своих домашних на лишения и невзгоды, но не потерпел бы ни одного рабочего не монархиста.
— Весьма полезный образ мыслей, — сказал Вулков.
Дидерих посмотрел на него чистосердечным взором.
— Я принимаю только таких рабочих, которые служили в армии; у меня сорок человек ветеранов последней войны. Зеленую молодежь я у себя не держу, особенно с того случая, когда часовой уложил на поле чести, как изволили выразиться его величество кайзер, одного моего рабочего, которого я застукал с невестой за мешками с тряпьем…
— Это уж ваша забота, милейший доктор, — отмахнулся Вулков.
Но Дидерих твердо шел к намеченной цели, не давая сбить себя.
— Нельзя допустить, чтобы за горой тряпья вершилась крамола. С вашим тряпьем, — я имею в виду политику, — дело обстоит иначе… Тут крамола может нам пригодиться, чтобы из свободомыслящего тряпья изготовить белую монархическую бумагу.
Дидерих сделал чрезвычайно глубокомысленное лицо. На Вулкова, видимо, слова его не произвели никакого впечатления. Он зловеще ухмылялся.
— Молодой человек, я ведь тоже не вчера родился. Выкладывайте начистоту, что вы там со своим механиком измыслили? — Видя, что Дидерих колеблется, Вулков продолжал: — А это тоже ветеран войны? Что скажете, господин гласный?
Дидерих глотнул слюну. Окольных путей не оставалось.
— Господин президент! — воскликнул он решительно и, понизив голос, скороговоркой лихорадочно продолжал: — Этот человек хочет попасть в рейхстаг. С точки зрения националистической, его кандидатура выгоднее кандидатуры Гейтейфеля. Во-первых, либералы со страху откачнутся к националистам, а во-вторых, если Наполеон Фишер пройдет на выборах, у нас в Нетциге будет памятник кайзеру Вильгельму. Все это письменно закреплено.
Он развернул перед Вулковым листок бумаги. Вулков прочитал его, поднялся, ногой отшвырнул от себя стул и зашагал по комнате, глубоко затягиваясь и толчками выпуская дым.
— Значит, Кюлеман отправляется к праотцам, а на его полмиллиона город вместо приюта для грудных младенцев воздвигает памятник кайзеру Вильгельму. — Вулков остановился перед Дидерихом. — Это, милейший, вам нужно зарубить себе на носу в ваших же собственных интересах! Если в рейхстаг от Нетцига пройдет социал-демократ, а в Нетциге не будет памятника Вильгельму Великому, вы меня узнаете. Я из вас фрикасе сделаю! Я изрублю вас так, что вас даже в приют для грудных младенцев откажутся взять!
Дидерих вместе со стулом откатился к стене.
— Господин президент! Во имя великого дела национализма я все ставлю на карту: себя, свое достояние, свое будущее. Но и со мной, как со всяким человеком, может случиться…
— Тогда да смилуется над вами бог.
— А вдруг Кюлемановы камни в почках еще рассосутся?
— Вы за все ответите! Тут и я рискую головой! — Яростно куря, Вулков грохнулся на свой стул. Когда облако табачного дыма рассеялось, он повеселел. — То, что я вам сказал на балу в «Гармонии», подтверждается. Рейхстаг долго не продержится, двигайте ваши дела в городе. Помогите мне свалить Бука, я помогу вам подкопаться под Клюзинга.
— Господин президент! — Улыбка Вулкова так окрылила Дидериха, что он уже не в силах был сдерживать себя. — Если бы вы намекнули ему, что намерены отобрать у него заказы! Он не станет поднимать шума, опасаться вам нечего, но он предпримет необходимые шаги. Быть может, вступит в переговоры…
— Со своим преемником, — закончил Вулков его мысль. Тут Дидерих вскочил со стула и забегал по комнате.
— Если б вы только знали, господин президент! Гаузенфельд — это, если можно так выразиться, машина в тысячу лошадиных сил! И что же? Она стоит, ее ест ржа. За отсутствием тока, другими словами — духа нашего времени, размаха!
— Которого у вас, как видно, хоть отбавляй, — ввернул Вулков.
— У меня он служит делу национализма! — воскликнул Дидерих. Он снова заговорил о памятнике. — Комитет по сооружению монумента кайзеру Вильгельму почтет за счастье, если нам удастся… если вы, господин президент… будете столь великодушны, что согласитесь принять на себя звание почетного председателя комитета, чем выкажете ваш драгоценнейший интерес к нашему делу.
— Не возражаю, — сказал Вулков.
— Самоотверженную деятельность своего почетного председателя комитет сумеет оценить по достоинству.
— Объяснитесь точнее! — В голосе Вулкова пророкотали гневные нотки, но Дидерих в раже ничего не заметил.
— В лоне комитета эта идея уже рассматривалась. Желательно воздвигнуть памятник в самом оживленном месте города и разбить вокруг парк для народных гуляний как символ неразрывной связи властелина с народом. Для этой цели мы наметили довольно большой участок в центре города; там легко будет заполучить близлежащие строения. Это Мейзештрассе.
— Так, так. Мейзештрассе. — Брови Вулкова сдвинулись, предвещая грозу. Дидерих почуял недоброе, но остановиться уже не мог.
— Мы задумали обеспечить за собой упомянутые участки раньше, чем город вплотную займется этим делом, и тем самым предупредить возможность противозаконных спекуляций. Само собою разумеется, что нашему почетному председателю принадлежит право первым…
Дидерих оборвал себя на полуслове и стремительно попятился: буря грянула.
— Сударь! Вы за кого меня принимаете? Я что, ваш коммерческий агент, что ли? Неслыханно! Беспримерно! Какой-то купчишка осмеливается предложить королевскому регирунгспрезиденту обстряпывать с ним его грязные дела!
Вулков нечеловечески ревел и надвигался на отступавшего Дидериха, обдавая его жаром своего тела и особым, одному ему присущим запахом. Собака тоже вскочила и ринулась в атаку. Казалось, вся комната, яростно рыча и завывая, кинулась на Дидериха.
— Вы ответите за тяжкое оскорбление должностного лица, сударь! — орал Вулков, а Дидерих, нащупывая позади себя дверь, гадал: кто первый вцепится ему в горло — собака или Вулков. Его трусливо бегавшие глаза остановились на бледном лице, оно грозило ему со стены, оно метало молнии. Вот она и схватила его за горло — власть! Он зарвался, он возомнил себя на равной ноге с нею! Это была его погибель, она, власть, обрушилась на него всем ужасом светопреставления… Вдруг дверь за письменным столом открылась, и вошел человек в форме полицейского. Но трясущемуся Дидериху теперь уже было все равно. Вулкова присутствие полицейского навело на новую адскую мысль.
— Я могу, выскочка вы несчастный, велеть немедленно арестовать вас за подкуп должностного лица, за попытку подкупа высшей государственной инстанции имперского округа! Я брошу вас за решетку, я пущу вас по миру!
На полицейского офицера этот страшный суд произвел куда более слабое впечатление, чем на Дидериха. Положив бумагу на стол, полицейский вышел. Впрочем, и сам Вулков круто повернулся и опять закурил свою сигару. Дидерих для него больше не существовал. И Шнапс тоже не замечал его, словно он был пустое место! Наконец Дидерих отважился молитвенно сложить руки. Его шатало.
— Господин президент, — заговорил он шепотом, — господин президент, с разрешения вашей милости я позволю себе… с вашего разрешения позвольте мне установить, что здесь произошло печальнейшее недоразумение. Да разве бы я при моем националистическом образе мыслей осмелился… Да как это возможно?
Он подождал, но никто, видимо, его не слушал.
— Если бы я думал о своей выгоде, — продолжал он несколько более внятно, — а не пекся бы неусыпно об интересах националистических, я был бы теперь не здесь, а у пресловутого господина Бука. Ведь этот господин, даю честное слово, предложил мне продать мой участок городу, либералы задумали построить там приют для грудных младенцев. Но я с негодованием отверг это наглое требование и нашел прямой путь к вам, ваша милость. Ибо лучше, сказал я, памятник кайзеру Вильгельму Великому в сердце, чем приют для грудных младенцев в кармане, сказал я, и открыто скажу это и сейчас.
Так как Дидерих заговорил громче, Вулков повернулся к нему.
— Вы все еще здесь? — спросил он.
И Дидерих ответил вновь замершим голосом:
— Господин регирунгспрезидент…
— Что вам от меня нужно? Я с вами не знаком. Никогда не имел с вами никаких дел.
— Господин президент, в интересах дела национализма…
— С лицами, которые спекулируют земельными участками, я не веду никаких дел. Продайте ваш участок, и баста. Тогда поговорим.
Дидерих, белый как мел, чувствуя себя раздавленным, пролепетал:
— А если я соглашусь, наш договор остается в силе? Орден? Намек Клюзингу? Почетный председатель?
Вулков скроил гримасу:
— Ладно уж! Но продать немедленно.
Дидерих задыхался.
— Я принесу эту жертву, — сказал он. — Самое драгоценное, чем обладает истый монархист — мои верноподданнические чувства, — должны быть превыше всякого подозрения.
— Разумеется, — буркнул Вулков, и Дидерих ретировался, гордый своим отступлением, хотя его и удручало сознание, что Вулков едва терпит его как союзника, точно так же как он едва терпит своего механика.
Магду и Эмми он застал в салоне; они сидели одни-одинешеньки, перелистывая какой-то роскошный альбом. Гости разошлись, фрау Вулков также покинула их: ей надо было переодеться к предстоящему вечеру у супруги полковника фон Гафке.
— Моя беседа с господином Вулковым дала вполне удовлетворительные для обеих сторон результаты, — сказал он сестрам, а когда они вышли на улицу, добавил: — Только сейчас я понял, что значит, когда ведут переговоры два корректных человека. В нынешнем деловом мире с его еврейским засильем об этом и представления не имеют.
Эмми, возбужденная не меньше Дидериха, заявила, что она собирается брать уроки верховой езды.
— Если я дам тебе на это денег, — сказал Дидерих, но лишь порядка ради. Он был горд за Эмми. — Скажи, у лейтенанта фон Врицена есть сестры? — спросил он. — Постарайся познакомиться с ними и добиться для всех нас приглашения на ближайший прием у фрау фон Гафке. — Как раз в эту минуту на противоположной стороне проходил сам полковник. Дидерих долго смотрел ему вслед. — Я прекрасно знаю, что оглядываться неприлично, но ведь это высшая власть, а она так притягательна!
Договор с Вулковым только прибавил Дидериху забот. Реальному обязательству продать дом он мог противопоставить всего лишь надежды и перспективы, — очень дерзкие надежды и туманные перспективы… Однажды в воскресенье — морозило и уже темнело — Дидерих отправился в городской парк и на уединенной дорожке повстречал Вольфганга Бука.
— Я все-таки иду на сцену, — заявил Бук. — Решено окончательно.
— А адвокатская карьера? А женитьба?
— Я пробовал стать на этот путь, но театр влечет сильнее. Там, знаете ли, меньше ломают комедию, честнее делают свое дело. Да и женщины красивей.
— Это еще не основание, — ответил Дидерих.
Но Бук говорил серьезно:
— Должен признаться, что пущенный о нас с Густой слух позабавил меня. Но, с другой стороны, при всей его нелепости он существует, девушка страдает, и я не могу ее больше компрометировать.
Дидерих искоса бросил на Бука испытующий взгляд: у него создалось впечатление, что Вольфганг ухватился за эту сплетню лишь как за предлог уклониться от женитьбы.
— Вы, конечно, понимаете, — строго сказал Дидерих, — в какое положение ставите свою невесту. Теперь ее не всякий согласится взять замуж. Надо быть рыцарем, чтобы сделать это.
Бук был того же мнения.
— При таких обстоятельствах, — многозначительно сказал он, — подлинно современному человеку с широким взглядом на вещи должно доставить особое удовлетворение вступиться за девушку и поднять ее до себя. В данном случае, когда ко всему в придачу есть деньги, благородство в конце концов непременно восторжествует: вспомните божий суд в «Лоэнгрине».
— А «Лоэнгрин» тут при чем?
Но Бук, чем-то явно обеспокоенный, не ответил: они были у Саксонских ворот.
— Зайдемте? — спросил Бук.
— Куда?
— А вот сюда. Швейнихенштрассе, семьдесят семь. Надо же в конце концов сказать ей, быть может, вы могли бы…
Дидерих присвистнул сквозь зубы.
— Ну, знаете… Вы до сих пор ей ничего не сказали? Вы сообщаете об этом сначала посторонним? Что же, ваше дело, драгоценнейший, только меня, пожалуйста, не впутывайте, я не имею обыкновения объявлять чужим невестам о расторжении помолвки.
— Сделайте исключение, — попросил Бук. — В жизни для меня всякие сцены очень тягостны.
— Я человек принципа, — сказал Дидерих.
Бук пошел на уступки:
— Я вас не прошу что-либо говорить. Пусть ваша роль будет бессловесная, вы и тогда послужите мне моральной поддержкой.
— Моральной? — переспросил Дидерих.
— В качестве, так сказать, представителя рокового слуха.
— Что вы хотите сказать?
— Я шучу. Вот мы и пришли, идемте!
И Дидерих, смущенный последними словами Бука, без возражений двинулся за ним.
Фрау Даймхен не оказалось дома, а Густа заставила себя ждать. Бук пошел взглянуть, что ее задерживает. Наконец она вошла, но одна.
— Как будто и Вольфганг был здесь? — спросила она.
Бук сбежал!
— Понять не могу, — сказал Дидерих. — У него был к вам неотложный разговор. — Густа покраснела. Дидерих повернулся к дверям. — В таком случае разрешите и мне откланяться!
— А какой у него был разговор? — допытывалась она. — Ведь не часто случается, чтобы ему было что-либо нужно. И зачем он привел вас?
— На это я также ничего не могу ответить. Должен сказать, что я решительно осуждаю его: в таких случаях свидетелей не приводят. Моей вины здесь нет, прощайте!
Но чем смущеннее он на нее глядел, тем настойчивее она добивалась объяснений.
— Я не желаю вмешиваться в дела третьих лиц, — сказал он наконец. — Да еще если третье лицо дезертирует и уклоняется от выполнения своих первейших обязанностей.
Густа широко раскрытыми глазами смотрела ему в рот, ловя каждое слово. Когда Дидерих договорил, она одно мгновение стояла неподвижно, потом порывисто закрыла руками лицо и заплакала. Видно было, как вздулись ее щеки, а сквозь пальцы капали слезы. У нее не оказалось носового платка; Дидерих одолжил ей свой. Он растерялся при виде такого отчаянья.
— В конце концов вы не так уж много потеряли в его лице.
— И это говорите вы! — накинулась на него Густа. — Кто, как не вы, травил его! Вы, который… Мне кажется более чем странным, что он именно вас прислал сюда…
— Что вы имеете в виду? — в свою очередь насторожился Дидерих. — Полагаю, что вы, многоуважаемая фрейлейн, не хуже моего знаете, чего можно ожидать от сего господина. Ибо там, где образ мыслей дряблый, там все дряблое. — Она смерила его ироническим взглядом, но он произнес еще строже: — Я все это наперед вам предсказывал.
— Вам это было выгодно, потому и предсказывали, — язвительно бросила она.
А он насмешливо:
— Вольфганг сам просил помешивать в его горшке. А если бы горшок не был обернут сотенными купюрами, он давно перестоялся бы.
— Да что вы знаете! — вырвалось у Густы. — В том-то и дело, этого-то я не могу ему простить, что ему все трын-трава. Даже мои деньги!
Дидерих был потрясен.
— С таким человеком нельзя иметь дело, — решительно сказал он. — У подобных людей нет ничего святого, на них ни в чем нельзя положиться. — Дидерих назидательно кивнул головой: — Кто равнодушен к деньгам, тот не понимает жизни.
— В таком случае вы-то ее прекрасно понимаете, — отпарировала Густа и слабо улыбнулась.
— Будем надеяться, — сказал он.
Она подошла к нему ближе и, часто моргая, смотрела на него сквозь не просохшие еще слезы.
— Вы все-таки оказались правы. Думаете, я очень буду горевать? — Она скривила губы. — Да я вообще его не любила. Попросту ждала случая избавиться от него. А он, как видите, оказался таким невежей, что сам оставил меня… Обойдемся и без него, — прибавила она, бросая на Дидериха обольстительный взгляд. Но Дидерих лишь отобрал у нее свой носовой платок, а остальное, очевидно, его нисколько не прельщало. Густа поняла, что он по-прежнему строго осуждает ее, как тогда, в «Приюте любви». И она смиренно молвила: — Вы намекаете на положение, в котором я невольно очутилась?
— Я ничего не сказал, — возразил он.
— Я не виновата, что люди говорят обо мне всякие гадости.
— Я тоже не виноват.
Густа опустила голову:
— Ну что ж, надо, пожалуй, смириться. Такая девушка, как я, не заслуживает, чтобы приличный человек, с серьезными взглядами на жизнь, взял ее замуж. — Говоря это, она все же искоса поглядывала, какое впечатление производят ее слова.
Дидерих засопел.
— Может, конечно, случиться… — начал он и сделал паузу. Густа затаила дыхание. — Допустим, — сказал он, отчеканивая каждое слово, — что как раз человек, весьма и весьма серьезно смотрящий на жизнь, человек современного толка, с широким взглядом на вещи, с чувством полной ответственности перед самим собой и перед своими будущими детьми, точно так же, как и перед кайзером и отечеством, возьмет на себя защиту беспомощной женщины и поднимет ее до себя.
Выражение лица у Густы становилось все молитвеннее. Она сложила ладони и, склонив голову набок, благоговейно смотрела на Дидериха. Но ему, по-видимому, этого было мало, он явно требовал чего-то исключительного — и Густа неуклюже рухнула на колени. Тогда Дидерих милостиво приблизился к ней.
— Так быть по сему, — сказал он и сверкнул очами.
В эту минуту вошла фрау Даймхен.
— Что это? — спросила она. — Что случилось?
— Ах, боже мой, мама, мы тут ищем мое кольцо, — не утратив присутствия духа, ответила Густа. Фрау Даймхен тоже опустилась на колени. Дидерих не захотел отстать от матери и дочери… Некоторое время все трое молча ползали по полу, пока Густа не вскрикнула:
— Нашла, нашла! — и решительно поднялась. — К твоему сведению, мама, я передумала.
Фрау Даймхен, которая никак не могла отдышаться, поняла не сразу. Густа и Дидерих объединенными усилиями растолковали ей положение дел. Она призналась, что и сама уже подумывала об этом: ничего не поделаешь, людскую молву не перешибешь.
— Вольфганг все равно немножко чересчур скучный, пока не выпьет. Вот только их семья: Геслинги не чета им.
— Ну, это мы еще посмотрим, — возразил Дидерих и объявил, что последнее слово не сказано, пока не урегулирована практическая сторона дела. Он пожелал увидеть документы, потом потребовал полной общности имущества, и чтоб никто и никогда не смел спрашивать с него отчета о расходовании денег! При малейшем возражении он брался за ручку двери, и Густа тихо, испуганно говорила матери:
— Ты хочешь, чтобы завтра весь город гудел о том, что один меня бросил и второй уже пятки показал?
Когда Дидерих убедился, что его не обманули, на него нашло благодушное настроение. Он поужинал с дамами и собирался уже, без дальних разговоров, послать служанку за шампанским, чтобы отпраздновать помолвку. Фрау Даймхен обиделась: разве у нее в хозяйстве не найдется шампанского, ведь у них бывают господа офицеры, им без шампанского никак нельзя.
— Вообще дуракам счастье; ведь Густа могла б заполучить в мужья и господина лейтенанта фон Врицена.
Дидерих самодовольно рассмеялся. Все складывается великолепно! Ему — Густины денежки, а Эмми — лейтенант фон Врицен!..
Все развеселились; после второй бутылки шампанского жених и невеста, сидя рядом и покачиваясь, то и дело прижимались друг к другу, ноги их сплелись до колен, и рука Дидериха скрылась под столом. Напротив них фрау Даймхен вертела большими пальцами. Вдруг Дидерих издал громовый треск и тотчас заявил, что всю ответственность за содеянное берет на себя, так, дескать, принято в аристократических кругах, например в доме Вулковых, куда он вхож.
Какая была сенсация, когда Нетциг узнал, что события приняли такой оборот! На вопросы, следовавшие за поздравлениями, Дидерих отвечал, что еще не знает, какое он сделает применение полутора миллионам марок своей жены. Возможно, что переедет в Берлин, для него, с его широким размахом, это было бы самое правильное. Так или иначе, но фабрику свою он думает продать, как только представится подходящий случай.
— Бумажная промышленность вообще переживает сейчас кризис, а мне теперь и подавно нет смысла держать в Нетциге такое худосочное предприятие.
Дома у Геслингов царила безоблачная атмосфера. Сумму, положенную сестрам на карманные расходы, Дидерих увеличил, а матери разрешил всласть упиться трогательными сценами и объятиями, он даже милостиво принял ее благословенье. Густа, всякий раз, как она являлась, неизменно выступала в роли феи, приносила вороха цветов, конфеты, серебряные сумочки. Дидерих теперь, казалось, шествовал рядом с ней по цветам. Дни пролетали, божественно легки: покупки, завтраки с шампанским, предсвадебные визиты. Жених и невеста, оживленно болтая, разъезжали в карете, а на козлах, рядом с кучером, восседал почасно оплачиваемый лакей благородной внешности.
Лучезарное настроение, во власти которого они находились в те дни, привело их на «Лоэнгрина». Обе матери скрепя сердце остались дома; жених и невеста, вопреки правилам хорошего тона, настояли на своем и сидели одни в аванложе. У стены стоял, скрытый от нескромных глаз, красный плюшевый диван, продавленный, весь в пятнах; было в нем что-то дразнящее и сомнительное. По сведениям Густы, эта ложа принадлежала господам офицерам, которые устраивали здесь встречи с актрисами.
— С актрисами мы счастливо разделались, — сказал Дидерих и прозрачно намекнул на то, что, откровенно говоря, до недавнего времени он был связан с актрисой этого театра, имени которой, натурально, назвать не может… Лихорадочные расспросы Густы вовремя пресек стук капельмейстерской палочки. Они заняли свои места.
— Гениш стал еще неаппетитней, — немедленно заметила Густа, кивая в сторону дирижера. На Дидериха он произвел впечатление человека не совсем здорового, но зато высокоартистического. Он отбивал такт всеми четырьмя конечностями, черные спутанные пряди волос били его по крупному землистому лицу с жирными, трясущимися в такт щеками, и все его тело ритмично сотрясалось под фраком и брюками. Оркестр гремел что есть силы, но Дидерих заявил, что не признает увертюр.
— И вообще, — вторила ему Густа, — для того, кто слышал «Лоэнгрина» в Берлине…
Не успел подняться занавес, как она уже презрительно хмыкнула:
— О боже! Ну и Ортруда! В каком-то халате и в корсете чуть ли не до колен!
Внимание Дидериха больше привлекал сидевший под дубом король, как видно выдающаяся личность. Облик его не производил особенного впечатления; Вулков умел пользоваться своим басом и своей бородищей с гораздо большим эффектом. Но то, что король изрекал, радовало сердце националиста: «Империи честь повсюду хранить: восток ли то будет, иль запад». Браво! Всякий раз, когда он пел слово «германский», он вскидывал вверх правую руку, а музыка в свою очередь подкрепляла этот жест. Да и вообще сочно подчеркивала все, что следовало. Именно сочно — вот правильное слово. Как жаль, что к его речи по поводу канализации не было подобного музыкального сопровождения! Герольд же, напротив, навевал на него грусть: это был точь-в-точь толстяк Делицш, легендарный фанатик пивного культа. Под впечатлением этого сходства Дидерих начал всматриваться в лица дружинников, и ему уже повсюду чудились новотевтонцы. Они обзавелись брюшками и бородами и, памятуя свое суровое время, оделись в жесть. Не все из них, видно, жили в достатке; благородные рыцари с дублеными физиономиями и коленями точно на шарнирах напоминали собой заурядных чиновников средневековья, а представители черной кости были еще менее примечательны; однако одно было несомненно: иметь дело с этими людьми, обладающими безукоризненными манерами, было бы весьма приятно. Вообще Дидерих пришел к заключению, что в этой опере сразу чувствуешь себя в родной стихии. Щиты и мечи, много бряцающей жести, монархический образ мыслей, победные клики, высоко поднятые стяги, да еще знаменитый немецкий дуб: так и подмывает самому выйти на сцену!
Что касается женской половины этой брабантской компании, то она, конечно, оставляла желать лучшего. Густа язвительно спрашивала Дидериха, с которой же из этих дам он…
— Не та ли коза в широком балахоне? Или вон та корова с золотым обручем на рогах?
И Дидерих уже склонялся к тому, чтобы остановить свой выбор на черноволосой в корсете, но вовремя спохватился, что именно она во всей этой истории играет сомнительную роль. Ее супруг Тельрамунд вначале вел себя благопристойно, но затем, видно, и здесь была пущена в ход злостная сплетня. К сожалению, темноволосая раса своими еврейскими махинациями угрожала немецкой верности даже там, где эта верность являла собой столь блистательный образец.
С появлением Эльзы без дальнейших рассуждений стало ясно, кому отдать пальму первенства. Славному королю излишне было так беспристрастно во всем разбираться. Чисто германский тип Эльзы, ее волнистые белокурые волосы, ее поведение, свидетельствующее о благородстве расы, уже сами по себе говорили за нее. Дидерих впился в нее взглядом, она взглянула вверх, она обаятельно улыбнулась. Он схватился за бинокль, по Густа вырвала бинокль у него из рук.
— Значит, Мерея? — прошипела она. И, в ответ на его красноречивую улыбку, сыронизировала: — У тебя чудный вкус, я чувствую себя польщенной. Драная еврейская кошка!
— Она еврейка?
— Мерея? А ты что думал? Ее фамилия Мезериц, ей сорок лет.
Сконфуженный, он взял бинокль, который Густа, насмешливо кривя губы, подала ему, и убедился, что она права. Ничего не поделаешь, мир иллюзий! Дидерих разочарованно откинулся на спинку кресла. И все же Эльзино целомудренное предчувствие женских радостей умилило его не меньше, чем короля и благородных рыцарей. Тут уж он ничего не мог с собой поделать. И божий суд тоже показался ему превосходным по своей практичности выходом из положения. Никто по крайней мере не скомпрометирован. Само собой разумеется, можно было заранее предвидеть, что благородные рыцари не захотят вмешиваться в историю, исход которой сомнителен. Теперь оставалось надеяться лишь на нечто из ряда вон выходящее. Музыка делала свое дело, она подготовляла к чему-то сверхъестественному. Дидерих раскрыл рот, глаза у него стали такими идиотски-блаженными, что Густа подавила разбиравший ее смех. Теперь Дидерих был настолько подготовлен, весь зал был настолько подготовлен, что Лоэнгрин мог явиться. И он явился, засверкал, отослал своего лебедя, засверкал еще ослепительнее. Дружинники, король, рыцари, так же как и Дидерих, были потрясены. Недаром же существуют высшие силы… Да, высочайшая власть была воплощена в этом волшебном сверкании. Все равно — лебедь ли на шлеме, орел ли, но Эльза хорошо знала, почему она бухнулась перед ним на колени. Дидерих в свою очередь сверкнул очами на Густу, смех застрял у нее в горле. Она на себе испытала, каково это, когда тебя кругом оплетают клеветой, когда жених тебя бросает и нигде нельзя показаться, и остается один выход — бежать куда глаза глядят, — как вдруг является герой и избавитель, ему нипочем все россказни, и он берет тебя замуж.
— Быть по сему! — сказал Дидерих и кивком головы показал на коленопреклоненную Эльзу. Густа же, потупившись, смиренно и покаянно прильнула к его плечу.
Остальное шло как по писаному. Тельрамунд был теперь попросту жалок. Против власти не пойдешь. Даже король держит себя с ее представителем Лоэнгрином самое большее как союзный князек средней руки. Он вторит победному гимну в честь того, кто стоит над ним. Оплоту благонамеренного образа мыслей с жаром возносится хвала, бунтарям предлагается отряхнуть с ног прах германской земли.
Во втором акте — Густа в кротком самозабвении все еще поглощала пралине — было показано возвышенное зрелище: контраст между блестящим, без малейшего диссонанса, празднеством благонамеренных в нарядно освещенных залах дворца и двумя темными фигурами бунтарей, которые лежали на камнях мостовой в весьма плачевном виде. «Вставай, подруга моего позора», — Дидериху показалось, что сам он некогда, при соответствующих обстоятельствах, произнес этот стих. Ортруда пробудила в нем кое-какие личные воспоминания: низкая тварь, что и говорить, но что-то шевельнулось в душе Дидериха, когда она, опутав своего дружка, прибрала его к рукам. Он замечтался… В Ортруде была какая-то острота, свойственная всем энергичным и строгим дамам, в отличие от Эльзы, этой гусыни, которую Ортруда обвела вокруг пальца. На Эльзе, конечно, можно было жениться. Дидерих искоса взглянул на Густу. «Нет счастья без раскаянья», — пропела Эльза, и Дидерих сказал Густе:
— Будем надеяться.
Толстяк Делицш объявил проспавшимся после пиршества рыцарям и дружинникам, что, по милости божьей, у них теперь новый повелитель. Еще вчера они верой и правдой служили Тельрамунду, а сегодня они уже верноподданные Лоэнгрина и служат ему верой и правдой. Они не разрешали себе иметь собственное мнение и проглатывали любой законопроект.
— Рейхстаг мы еще тоже согнем в бараний рог, — пообещал Дидерих.
Однако, когда Ортруда захотела вступить в Мюнстерский собор раньше Эльзы, Густа возмутилась:
— Какое она имеет право, это меня всегда злит. Ведь у нее теперь ни кола ни двора, и вообще…
— Еврейское нахальство, — пробормотал Дидерих. Впрочем, он не мог не признать, что Лоэнгрин, мягко выражаясь, неосторожен, как он может предоставить Эльзе решение — открыть ли ему свое имя и тем поставить все дело под угрозу, или не открывать. Женщинам нельзя так доверяться! Да и к чему? Ведь дружинникам излишне доказывать, что он, Лоэнгрин, невзирая на смутьяна Тельрамунда, чист и незапятнан, ибо их националистический образ мыслей выше всяких подозрений.
Густа пообещала Дидериху, что в третьем акте произойдет самое интересное, но за это ей полагается еще пралине. Когда она получила конфеты, театр огласили звуки свадебного марша; Дидерих подпевал оркестру. Дружинники в свадебном шествии, без жестяных доспехов и развевающихся знамен, решительно проигрывали, да и Лоэнгрину лучше бы не показываться в камзоле. Увидев его, Дидерих лишний раз проникся сознанием незаменимости мундира. Женщины, с их кислыми, как квас, голосами, наконец благополучно убрались. Но король! Он не в силах оторваться от новобрачных, он старается втереться к ним в доверие и, кажется, не прочь остаться здесь в роли зрителя. Дидерих, который и раньше считал короля чересчур дряблым для такого сурового времени, теперь просто обозвал его тюфяком.
Наконец король все же ретировался; Лоэнгрин и Эльза уселись на диван «вкусить наслаждений, что бог один дарует нам». Сначала они обнимались, отстранившись нижней половиной тела как можно дальше друг от друга. Но чем больше они пели, тем ближе придвигались друг к другу, то и дело поглядывая на Гениша. Гениш со своим оркестром словно поддавал им жару, и ничего удивительного тут не было: Дидерих и Густа в своей уединенной ложе и те тихонько сопели и впивались друг в друга горящими взорами! Чувства устремлялись по тропам волшебных звуков, которые Гениш своими ритмическими телодвижениями извлекал из оркестра, а руки следовали за чувствами. Дидерих просунул руки между стулом и спиной Густы и, обхватив ее ниже талии, бессвязно бормотал:
— С первого же раза, как я это увидел, я сказал себе: она или никто.
Но вдруг маленькое происшествие, которому впоследствии суждено было надолго занять внимание нетцигских любителей искусства, нарушило чары. У Лоэнгрина из-под камзола высунулась фуфайка. Он только начал свою арию: «Ночи ароматы мы с тобой вдыхаем», как… из распахнувшегося назади камзола показалась фуфайка. Пока явно взволнованная Эльза застегивала камзол, зрители выказывали живейшее беспокойство. Но вскоре зал снова поддался волшебным чарам музыки. Густу, которая поперхнулась конфетой, взяло сомнение.
— Сколько времени он носит эту фуфайку? И вообще откуда она у него? Ведь лебедь-то уплыл со всем его багажом?
Дидерих сердито запретил ей рассуждать.
— Ты совершенно такая же дура, как Эльза, — сказал он ей.
Эльза на сцене вела себя так, словно стремилась все погубить; она не могла удержаться, чтобы не выведать у мужа его политические тайны. Бунтари были разбиты наголову: трусливое покушение Тельрамунда по воле провидения не удалось; но женщины, сказал себе Дидерих, если только на них не надеть узды, еще худшее зло, чем крамольники.
Это полностью подтвердилось в следующей сцене. Дуб, знамена, все атрибуты национализма были снова налицо, прозвучали слова: «Немецкий край, немецкий меч, за них готов костьми я лечь». «Браво!» Но Лоэнгрин решил отойти от общественной жизни. «Все во мне усомнились!» — пропел он с полным основанием. Он поочередно обвинял в своих неудачах то мертвого Тельрамунда, то лежащую в обмороке Эльзу. Ввиду того что ни тот, ни другая не могли возразить ему, он мог легко доказать свою правоту, а тут еще выяснилось, что он стоит одним из первых в табели о рангах. Он раскрыл свое инкогнито. Это вызвало у дружинников, никогда не слышавших о нем, невероятное волнение. Дружинники никак не могли успокоиться; они были ко всему готовы, только не к тому, что его зовут Лоэнгрин. Тем настойчивей просили они своего возлюбленного повелителя не совершать рокового шага, не отрекаться от престола. Но Лоэнгрин оставался неумолим и все так же хрипло пел. Да и лебедь уже дожидался его. Ортруда, ко всеобщему удовольствию, сломала себе шею на своей последней наглой выходке. Жаль только, что и Эльза сложила голову на поле брани, покинутом Лоэнгрином, чью ладью теперь повлек уже не лебедь, освобожденный от чар, а мощный голубь. Зато только что появившийся юный Готфрид был провозглашен государем, — третьим по счету за три дня — и все рыцари и дружинники, готовые, как всегда, служить государю верой и правдой, повергли к его стопам свои верноподданнические чувства.
— Вот откуда все зло, — молвил Дидерих, подавая Густе пальто. Все эти катастрофы, в которых сказалась самая суть власти, настроили его на возвышенный лад; он испытывал глубокое удовлетворение.
— Откуда же? — спросила Густа из духа противоречия. — Просто она хотела знать, кто он такой. Что же в этом плохого? Разве она не имела права? Ведь с ее стороны это только порядочность…
— Тут скрыт глубокий смысл, — строго пояснил Дидерих. — Мораль всей этой истории с Граалем та, что августейший повелитель держит ответ только перед богом и собственной совестью. А все мы — перед ним. Если речь идет об интересах его величества, делай что хочешь, а я не пророню ни единого словечка и даже… — Дидерих жестом дал понять, что в подобной ситуации и он, не размышляя, пожертвовал бы Густой. Это ее разозлило.
— Да ведь это разбой! С какой стати я должна платиться жизнью за то, что у Лоэнгрина, этого барана, ни на грош темперамента? Даже в брачную ночь Эльза от него никакого толку не добилась! — И Густа презрительно сморщила носик, как в тот раз, когда они выходили из «Приюта любви», где тоже толку не было.
По дороге домой жених и невеста помирились.
— Вот искусство, которое нам нужно! — воскликнул Дидерих. — Истинно немецкое искусство!
В этой опере, как ему кажется, и текст и музыка отвечают всем требованиям национализма. Протест здесь приравнивается к преступлению, все устоявшееся, все узаконенное блестяще воспевается, родовитость и божья милость вознесены на недосягаемую высоту, а народ — хор, всегда заставаемый событиями врасплох, — покорно бьется с врагами своих властелинов. В основании — воинственность, вершины — в мистических облаках, и то и другое здесь соблюдено. Весьма мило и симпатично также то, что в этом творении мужчине отводится лучшая, любовно разработанная роль. «Я чувствую, как сердце замирает, чарует он меня своей красой», — пели вместе с королем мужчины. И музыка в этой опере тоже полна мужественного обаяния, она героична, хотя и пышна, она проникнута верноподданническими чувствами даже в минуту страсти. Кто устоит перед ней? Тысяча представлений этой оперы, и не останется ни одного немца, который не стал бы националистом. Дидерих высказал эту мысль вслух.
— Театр — то же оружие. Даже процесс по делу об оскорблении величества вряд ли успешнее пробудит бюргера от спячки, чем такая опера. Если Лауэра я посадил в тюрьму, то перед автором «Лоэнгрина» я преклоняюсь.
Он предложил послать Вагнеру поздравительную телеграмму. Густа объяснила ему, что — увы! — это никак невозможно. Настроившись на столь возвышенный лад, Дидерих принялся рассуждать об искусстве вообще. Искусства бывают разных разрядов. Искусство высшего разряда — это музыка, вот почему она и является чисто немецким искусством. За ней следует драма.
— Почему? — спросила Густа.
— На нее в иных случаях можно написать музыку, ее не обязательно читать, и вообще.
— А за драмой какое искусство следует?
— Портретная живопись, конечно, потому что можно писать портреты кайзера. Все остальное не столь важно.
— Ну, а роман?
— Это не искусство. По крайней мере не немецкое, хвала господу: об этом говорит уже само слово.
И вот наступил день свадьбы. Торопились обе стороны: Густу подгоняли людские толки, Дидериха — политические мотивы. Для большего эффекта свадьбу Магды с Кинастом решили приурочить к этому же дню. Кинаст прибыл, и Дидерих время от времени поглядывал на него с беспокойством, так как он сбрил бороду, усы закрутил вверх, до самых глаз, и тоже сверкал очами. В переговорах об участии Магды в прибылях он обнаружил неуемную деловитость. Дидерих, не без тревоги за исход дела, хотя и с твердым намерением до конца выполнить долг перед самим собой, теперь часто углублялся в бухгалтерские книги. Даже утром перед венчанием, уже облаченный во фрак, он сидел в конторе; вдруг ему подали визитную карточку: Карнауке, старший лейтенант в отставке.
— Что ему надо, Зетбир?
Старый бухгалтер тоже недоумевал.
— Ну, все равно, офицера нельзя не принять. — И Дидерих сам открыл дверь.
На пороге стоял прямой, как палка, господин в наглухо застегнутом зеленоватом пальто, по которому сбегали струйки воды. С остроносых лаковых полуботинок посетителя тотчас же натекла лужа, с его зеленой шапчонки, какие носят помещики — он почему-то ее не снял, — тоже капало.
— Прежде всего обсушимся, — сказал незнакомец. Не дожидаясь приглашения, он подошел к печке и скрипучим голосом прокричал: — Продаете, а? Прижало, а?
Дидерих не сразу сообразил, но затем бросил обеспокоенный взгляд на Зетбира. Старик снова принялся за прерванное письмо.
— Господин старший лейтенант, по-видимому, спутал номер дома, — осторожно сказал Дидерих; но эго не помогло.
— Ерунда. Никакой ошибки… Прошу без штучек. Приказ свыше. Поменьше болтовни и тотчас же приступить к продаже, иначе — да смилуется бог!
У гостя была слишком уж странная манера разговаривать. Дидерих не мог не заметить, что хотя в прошлом посетитель несомненно был военным, его необычайная выправка неестественна, а глаза — совершенно стеклянные. Едва Дидерих отдал себе в этом отчет, как гость снял свою зеленую помещичью шапчонку и стряхнул с нее воду прямо на фрачную сорочку Дидериха. Тот запротестовал, но лейтенант в отставке страшно оскорбился.
— К вашим услугам, — проскрипел он. — Господа фон Квицин и фон Вулков будут говорить с вами от моего имени. — Он с усилием моргнул, и Дидерих, у которого мелькнуло страшное подозрение, забыл о своем гневе, он помышлял только об одном — как бы выпроводить бывшего лейтенанта за дверь.
— Поговорим во дворе, — шепнул он ему и, повернувшись к Зетбиру, так же тихо: — Этот господин пьян до бесчувствия, попытаюсь спровадить его.
Но Зетбир поджал губы, насупился и отодвинул письмо, которое писал.
Посетитель вышел прямо под дождь, Дидерих за ним:
— Не обессудьте, уважаемый, поговорить ведь можно и здесь.
Только когда Дидерих тоже основательно промок, ему удалось затащить гостя на фабрику, где никого не было. Лейтенант кричал на весь цех:
— Стакан водки! Покупаю все, вместе с водкой!
Хотя фабрика, по случаю свадьбы хозяина, сегодня не работала, Дидерих боязливо озирался по сторонам; он открыл чулан, где были сложены мешки с негашеной известью, и, сделав отчаянное усилие, втолкнул туда лейтенанта. Вонь здесь стояла нестерпимая, лейтенант несколько раз чихнул, после чего назвал себя:
— Имею честь представиться: Карнауке. Почему вы так воняете?
— Вас кто-нибудь послал? — спросил Дидерих.
Гость обиделся.
— Что вы хотите этим сказать?.. Я покупаю недвижимость. — Поймав на себе взгляд Дидериха, он оглядел свое насквозь промокшее летнее пальтецо. — Временная заминка в делах, — проскрипел он. — Посредничаю у джентльменов, Почетное занятие.
— Сколько предлагает ваш доверитель?
— Сто двадцать тысяч чохом.
И, несмотря на ужас и негодование Дидериха, твердившего, что цена его участку не меньше двухсот тысяч, лейтенант стоял на своем: сто двадцать чохом.
— Не пойдет… — Дидерих имел неосторожность двинуться к выходу, и лейтенант прибег к более решительным мерам воздействия. Дидериху пришлось защищаться, он упал на мешки, гость — на него.
— Вставайте, — прохрипел Дидерих, — нас обожжет хлором!
Старший лейтенант завопил, точно его уже опалило сквозь платье, и тут же опять горделиво выпрямился. Он подмигнул Дидериху.
— Президенту фон Вулкову приспичило… настаивает на немедленной продаже, иначе он знать вас не знает. Кузен фон Квицин округляет свои владения. Твердо рассчитывает на вашу сговорчивость. Сто двадцать чохом.
Дидерих, бледный — точно уже выбеленный хлором, — сделал еще одну попытку:
— Сто пятьдесят… — Но голос изменил ему. Порядочному человеку это трудно понять! Вулков, фанатик чести, неподкупный, как сам страшный суд!.. Дидерик еще раз окинул безнадежным взглядом фигуру Карнауке, старшего лейтенанта в отставке. И такого субъекта Вулков посылает от своего имени, ему он передоверяет свои дела! Разве нельзя было в тот раз, с глазу на глаз, с должной осторожностью и взаимным уважением совершить эту сделку? Но юнкеры умеют лишь хватать человека за глотку, вести дела они до сих пор не научились.
— Идите к нотариусу, — шепнул Дидерих лейтенанту, — я приду следом.
Он выпустил его во двор. И только собрался выйти сам, как дорогу ему преградил Зетбир. Старик смотрел на него, поджав губы.
— Что вам нужно? — спросил Дидерих. Он совсем обессилел.
— Хозяин, — глухо сказал старый бухгалтер, — за то, что вы собираетесь сделать, я больше не могу нести ответственность.
— Никто и не требует от вас ответственности. — Дидерих высокомерно вскинул голову. — Я знаю, что делаю.
Старик умоляюще поднял руки.
— Нет, не знаете, хозяин! Я защищаю дело нашей жизни — вашего покойного отца и мое. Защищаю фабрику, в которую мы вложили так много честного труда. Она и вас вскормила и на ноги поставила. А вы то покупаете дорогие машины, то отказываетесь от заказов, вы мечетесь и только губите все дело. А теперь еще задумали продать ваш старый дом!
— Вы подслушивали. Вы никак не можете допустить, чтобы что-нибудь делалось без вашего участия. Смотрите не простудитесь. — Дидерих издевался над стариком.
— Не продавайте дома! — жалобно просил старик. — Мне больно смотреть, как сын и наследник моего старого хозяина расшатывает прочный фундамент фирмы и пускается в авантюры.
Дидерих смерил его сочувственным взглядом.
— В ваше время, Зетбир, широкий размах был не в моде. Нынче люди решаются на риск. Дело — превыше всего. Потом вы поймете, зачем мне надо было продавать дом.
— Да, вы это тоже потом поймете. Когда все кончится банкротством или когда ваш шурин, господин Кинаст, подаст на вас в суд. Вы произвели кой-какие манипуляции в ущерб интересам ваших сестер и матери. Если бы я кое-что рассказал господину Кинасту, — я не сделаю этого из уважения к памяти вашего отца, — вам бы не поздоровилось.
Старик не помнил себя, он визжал, в его покрасневших глазах стояли слезы. Дидерих шагнул к нему и сунул кулак ему под нос.
— Попробуйте только! Я тут же докажу, что вы обкрадываете фирму и обкрадывали ее всегда. Вы что думаете, я не застраховал себя?
Старик тоже поднял свой дрожащий кулак. Они тяжело дышали друг другу в лицо. Зетбир поводил воспаленными глазами, Дидерих сверкал очами. И старик отступил.
— Нет, — сказал он. — Это никуда не годится. Я всегда был верным слугой своему старому хозяину. Совесть моя требует, чтобы я отдал его наследнику все свои силы и служил бы ему верой и правдой, пока ноги носят.
— Это бы вас устроило, я понимаю, — жестко и холодно сказал Дидерих. — Радуйтесь, что я вас сию же минуту не вышвырнул. Немедленно пишите прошение об увольнении, оно уже удовлетворено. — И Дидерих выбежал вон.
У нотариуса он потребовал, чтобы в договоре покупатель именовался «неизвестный». Карнауке ухмыльнулся.
— Но мы же знаем господина фон Квицина.
Нотариус также улыбнулся.
— Я вижу, — сказал он, — что господин фон Квицин округляет свои владения. До сих пор он владел на Мейзештрассе только маленьким кабачком «Петух». А теперь он одновременно ведет переговоры о покупке двух участков по соседству с вашим, господин доктор. Таким образом он расширит свои владения до городского парка и получит место для огромного строительства.
Дидерих задрожал. Он шепотом попросил нотариуса соблюдать тайну, покуда возможно, и попрощался: времени у него в обрез.
— Знаю, — сказал лейтенант, удерживая его. — Торжественный день. Завтрак в отеле Рейхсгоф. Я в полной готовности. — Он расстегнул зеленое пальтецо и показал свой измятый сюртук. Дидерих, ужаснувшись, попытался от него отделаться, но лейтенант снова пригрозил ему секундантами.
Невеста заждалась, обе матери утирали ей слезы под ехидные улыбки присутствующих дам: видно, и второй жених сбежал. Магда и Кинаст кипели от возмущения; между Швейнихенштрассе и Мейзештрассе без конца сновали посыльные… Наконец-то! Дидерих явился, хотя и в старом фраке. Он даже не объяснил причины своего опоздания. В ратуше и потом в церкви он поразил окружающих своим расстроенным видом. Говорили, что все эти приметы не предвещают счастливого союза. Пастор Циллих в своей проповеди упомянул, что земные блага преходящи. Все понимали его разочарование. Кетхен и вовсе не показалась.
На свадебном завтраке Дидерих был молчалив и в мыслях унесся далеко от всего, что происходило вокруг. Он часто даже забывал о еде и сидел, уставившись в пространство. Одному лишь отставному лейтенанту Карнауке удавалось вывести его из оцепенения. Лейтенант не дремал. Уже после супа он поднял бокал за невесту и произнес тост, полный намеков, в которых гости, еще недостаточно захмелевшие, пока не находили вкуса. Больше тревожили Дидериха некоторые другие выражения Карнауке, сопровождаемые подмигиванием в его, Дидериха, сторону; на его беду, они повергли в раздумье и Кинаста. Момент, о котором Дидерих думал с трепетом душевным, наступил. Кинаст встал и попросил его уделить несколько минут для разговора с глазу на глаз… Но тут отставной лейтенант яростно застучал о свой бокал и вскочил с места. Веселый праздничный шум сразу стих; на вытянутых пальцах Карнауке висела голубая ленточка, а под нею — крест с сияющим золотым ободком… О! — Все шумно задвигались, посыпались поздравления. Дидерих протянул к кресту обе руки; блаженство, почти невыносимое, прилило от груди к горлу, слова вырывались помимо его воли, он сам не знал, что говорит.
— Его величество… Невиданная милость… Скромные заслуги, незыблемая верность…
Он низко кланялся, он положил руку на сердце, а когда Карнауке вручал ему крест, он сомкнул глаза и оцепенел, словно перед ним стоял тот, другой, сам даритель. Ослепленный лучами этой милости, Дидерих чувствовал: вот они — спасенье и победа. Вулков выполнил договор. Власть выполнила договор с Дидерихом. Орден Короны четвертой степени сиял, и все становилось явью: памятник Вильгельму Великому и Гаузенфельд, большие дела, слава!
Времени было в обрез. Кинасту, который заволновался и оробел, Дидерих бросил несколько общих фраз о чудесных днях, навстречу которым его поведут, о великолепных перспективах, открывающихся перед Кинастом и всей семьей Геслингов, — и новобрачные умчались.
Они сели в купе первого класса. Дидерих сунул три марки проводнику и задернул занавески. Распаленная счастьем энергия бурлила в нем и требовала безотлагательного выхода; Густа никак не ждала от него такой темпераментности.
— Ты, оказывается, вовсе не похож на Лоэнгрина, — сказала она.
Но когда она уже легла и закрыла глаза, он еще раз выпрямился перед ней во весь рост. Он стоял, словно отлитый из железа, с орденом на груди, и сверкал очами.
— Раньше чем приступить к делу, — сказал он, чеканя каждое слово, — помянем его величество, нашего всемилостивейшего кайзера… Ибо в деле этом есть высшая цель — быть достойным его величества и произвести для него хороших солдат.
— О! — воскликнула Густа, сиянием ордена на его груди вознесенная в горние сферы. — Ты ли это, Дидерих?
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Господин доктор Геслинг и его супруга, прибывшие из Нетцига, войдя в лифт цюрихского отеля, молча переглянулись: управляющий, осторожно окинув их беглым взглядом, распорядился поднять их на четвертый этаж. Дидерих послушно заполнил регистрационный листок, но когда обер-кельнер вышел из номера, он дал волю своему негодованию: здешние порядки! Да и вообще этот Цюрих! Возмущение его с каждой минутой росло; кончилось тем, что он решил написать Бедекеру{22}. Но так как подобная месть казалась ему слишком слабой, он накинулся на Густу: во всем виновата ее шляпа. Густа же причину всех бед видела в его гогенцоллернском плаще.
Когда они ринулись в ресторан ко второму завтраку, лица у обоих пылали. На пороге они остановились, учащенно дыша под устремленными на них взглядами, — Дидерих в смокинге, Густа в шляпе, утыканной перьями, бантами и пряжками, достойной блистать в лучшем номере бельэтажа. Тот же кельнер торжественно проводил чету на отведенные ей места.
С Цюрихом и отелем они примирились вечером. Во-первых, номер в четвертом этаже хоть и не соответствовал их положению, зато стоил дешево; во-вторых, как раз напротив супружеской кровати висела картина с изображением одалиски почти в натуральную величину; смуглая, полнотелая, с влажной истомой в черных глазах, блестевших из-под опущенных век, она, скрестив под головой руки, нежилась на пышном ложе. Рама словно перерезала ее пополам, что дало супругам повод к шуткам. Весь следующий день они бродили полусонные, невероятно много ели и спрашивали себя, что было бы, если б одалиску не перерезали пополам и она была бы целехонька. Они так устали, что пропустили поезд, а вечером пораньше вернулись в свою дешевую, но сулившую новые изнурительные радости комнату. Трудно сказать, когда и чем кончилась бы подобная жизнь; но вдруг Дидерих, клевавший носом, прочел в газете, что кайзер собирается нанести визит королю Италии и находится на пути в Рим{23}. Грянул гром, и Дидерих проснулся. Упругим шагом направился он к портье, в контору, к лифту, и как ни молила Густа, как ни жаловалась, что у нее голова кругом идет, чемоданы были упакованы и Дидерих поволок Густу на вокзал.
— Зачем это? — хныкала она. — Здесь такие замечательные постели!
Но Дидерих на прощанье лишь удостоил одалиску насмешливым взглядом:
— Веселитесь на здоровье, сударыня!
Он был так взбудоражен, что долго не мог заснуть. Густа мирно храпела у него на плече. Дидерих, мчась сквозь ночь, думал о том, что по другой железнодорожной магистрали, но с той же скоростью и к той же цели мчится сам кайзер. Состязание между кайзером и Дидерихом! И так как Дидериху уже не раз доводилось высказывать мысли, таинственным образом совпадавшие с мыслями его величества, то, быть может, и в эту минуту кайзер знает о Дидерихе: знает, что преданный ему душой и телом верноподданный одновременно с ним переваливает через Альпы, задавшись целью показать трусливым латинянам, что такое преданность своему кайзеру. Сверкающим взором окидывал он дремлющих на скамье пассажиров, брюнетиков, чьи лица во сне казались мелкими, осунувшимися. Пусть узнают, что значит истинно немецкий богатырский дух!
Утром в Милане, а в полдень во Флоренции многие пассажиры сошли. Этого Дидерих не мог постичь. Он старался, правда без особого успеха, разъяснить оставшимся, какое событие ждет их в Риме. Два американца как будто выказали некоторый интерес к его словам, и Дидерих торжествующе воскликнул:
— И вам тоже, наверно, завидно, что у нас такой кайзер! Вполне понятно!
Американцы переглянулись с безмолвным вопросом в глазах, так и оставшимся без ответа.
Когда подъезжали к Риму, волнение Дидериха перешло в бешеную жажду деятельности. С итальянским разговорником в руках, он гонялся за проводниками, пытаясь установить, кто раньше прибудет в Рим — он или его кайзер. Глядя на лихорадочно взбудораженного супруга, Густа тоже загорелась.
— Дидель! — воскликнула она. — Мне не жалко, я брошу ему под ноги свою дорожную вуаль, да, да, пусть он пройдет по нему, и розы со своей шляпы брошу!
— А вдруг он тебя заметит и ты произведешь на него впечатление? — опросил Дидерих и судорожно улыбнулся.
Бюст Густы заходил вверх и вниз, она потупилась. Дидерих, тяжело дыша, сделал мучительное усилие и овладел собой.
— Моя мужская честь священна, так и знай. Однако в данном случае… — И он скупым жестом выразил недосказанное.
Наконец прибыли в Рим, но все произошло совсем не так, как им рисовалось. Всех пассажиров в величайшей суматохе спровадили с перрона и оттеснили на самый край широкой привокзальной площади и в соседние улицы, которые тотчас же были оцеплены. Но Дидерих, обуреваемый безудержным восторгом, прорвался через все преграды. Густу, в отчаянии простиравшую к нему руки, он бросил одну со всем багажом и очертя голову ринулся вперед… В мгновенье ока он очутился посреди площади; два солдата с перьями на шляпах погнались за ним, полы их ярких мундиров разлетались во все стороны. Но тут с перрона на площадь спустилось несколько человек, и вскоре прямо на Дидериха покатил экипаж. Дидерих сорвал с головы шляпу и так взревел, что высокие особы, сидевшие в экипаже, прервали свою беседу. Тот, кто сидел оправа, выглянул, и они посмотрели друг другу в глаза — Дидерих и его кайзер. Его величество холодно и испытующе улыбнулся, собрав морщинки вокруг глаз, а складки у рта чуть дрогнули и опустились книзу. Дидерих, вытаращив глаза, непрерывно крича и размахивая шляпой, бежал рядом с экипажем, и посреди площади, под ослепительно синим небом они несколько секунд были одни — кайзер и его верноподданный, а вокруг рукоплескала иноземная толпа.
Но вот экипаж свернул на убранную флагами улицу, и приветственные крики замерли вдали. Дидерих вздохнул, закрыл глаза и надел шляпу.
Густа выбилась из сил, махая ему рукой, чтобы он шел к ней, а публика, все еще толпившаяся на площади, весело и благодушно хлопала ему. Смеялись вместе со всеми и те два солдата, которые несколько минут назад гнались за ним. Один из них отнесся к Дидериху так участливо, что даже подозвал извозчика. Сидя в экипаже, Дидерих раскланивался во все стороны.
— Они как дети, — сказал он супруге и прибавил — Такие же наивные. — Он признался: — В Берлине, конечно, это так легко не сошло бы… Вспомнить только, что творилось во время беспорядков на Унтерденлинден, там было не до смеха…
Экипаж приближался к отелю, и Дидерих выкатил грудь колесом. Его осанка произвела впечатление, и супруги получили номер во втором этаже.
Однако первые лучи утреннего солнца застали Дидериха уже на улице.
— Кайзер встает рано, — назидательно сказал он Густе, которая лишь хрюкнула в подушку.
Впрочем, она была бы ему только в тягость. Вооружившись планом города, он добрался до Квиринала{24} и водворился там. Безлюдная площадь утопала в светлом золоте солнечных лучей: на фоне безоблачного неба резко выделялся массивный дворец, — а напротив, в ожидании выхода его величества, стоял Дидерих, выкатив грудь, на которой блестел орден Короны четвертой степени. Из нижней части города по лестнице поднималось стадо коз и постепенно исчезало за фонтаном и огромными статуями объездчиков коней. Дидерих ни разу не оглянулся. Прошло два часа; площадь оживилась, из караульной будки вышел часовой, в одном из двух порталов показался швейцар, кто-то входил во дворец, кто-то выходил оттуда. Дидерих забеспокоился. Он незаметно приблизился к фасаду, медленно прошел вдоль него, с любопытством заглядывая внутрь. Когда он в третий раз проходил мимо швейцара, тот несколько нерешительно поднес руку к фуражке. Видя, что Дидерих остановился и ответил на приветствие, швейцар фамильярно заговорил с ним.
— Все в порядке, — сказал он, прикрыв рот рукой. И Дидерих принял рапорт, как будто так и следовало. Ему докладывают о самочувствии его кайзера — что может быть естественней? На вопрос, когда и куда отправится кайзер, Дидерих без труда получил ответ.
Швейцар сам смекнул, что Дидериху, раз он сопровождает кайзера, понадобится экипаж, и послал за ним. Тем временем на площади собралась кучка любопытных. Но вот швейцар отошел в сторону; за спиной форейтора, в открытой карете, сверкая каской с орлом, показался белокурый северный повелитель. Шляпа Дидериха взлетела в воздух, он крикнул по-итальянски, точно из пистолета выстрелил: «Да здравствует кайзер!», и горстка любопытных охотно подхватила… Затем Дидерих одним прыжком вскочил в стоящий наготове экипаж и, подгоняя кучера хриплыми окриками и обещанием щедрых чаевых, понесся вслед. И вот он уже у цели, а высочайшая карета только приближается. Когда кайзер вышел из кареты, горстка любопытных собралась и здесь; и Дидерих опять кричал по-итальянски… Стоять на часах перед домом, в котором пребывает его кайзер! Выкатив грудь колесом, Дидерих испепеляющим взором встречал всякого, кто осмеливался приблизиться. Спустя десять минут горстка зевак пополнилась. Карета кайзера выехала из ворот, и Дидерих с криком: «Да здравствует кайзер!», как эхо повторенным зеваками, пустился вскачь к Квириналу. И все начинается сызнова. Дидерих на часах. Кайзер в кивере. Горстка любопытных. Новая цель, новое возвращение, новый мундир, и Дидерих всегда на месте, всегда — ликующая встреча. Так и пошло; и никогда в жизни не знал Дидерих более счастливых минут. Его приятель швейцар точно докладывал ему, куда поедет кайзер. Случалось, что какой-нибудь чиновник, отдав честь, рапортовал Дидериху, а он благосклонно выслушивал донесение; или кто-либо обращался к нему за приказаниями, и он отдавал их в неопределенных выражениях, но повелительным тоном. Солнце поднималось все выше над раскаленными мраморными плитами фасадов, за которыми его кайзер вел переговоры мирового масштаба. Дидерих твердо переносил пытку жаждой и зноем. Как ни молодцевато он держался, ему все же казалось, что под лучами полуденного солнца его живот отвисает до самой мостовой, а орден Короны четвертой степени плавится на груди… Кучер, по дороге все чаще заглядывавший в кабачки, в конце концов пришел в восхищение от столь героического выполнения долга и принес немцу вина. С новым зарядом огня в жилах оба опять пустились вскачь. Рысаки кайзера неслись стрелой; чтобы опередить их на извозчичьем экипаже, надо было молнией промчаться по уличкам, похожим на узкие ущелья, вспугивая редких прохожих, которые в страхе жались к стенам; а иной раз приходилось опрометью взлетать по какой-нибудь лестнице. Но всякий раз секунда в секунду он стоял во главе кучки зевак, смотрел, как из кареты выходил седьмой по счету мундир, — и Дидерих начинал кричать. Тогда кайзер поворачивал голову и улыбался. Он узнавал его, своего верноподданного! Того, который кричал, который всегда был на своем посту. Дидерих, счастливый августейшим вниманием, трепеща от полноты чувств, метал сверкающие взоры в публику, весело и благодушно глазевшую на него.
Лишь когда швейцар заверил Дидериха, что его императорское величество завтракает, он разрешил себе вспомнить о Густе.
— На кого ты похож! — вскрикнула Густа, увидев его, и попятилась к стене, ибо он был красен, как помидор, пот лил с него ручьями, а взгляд его посветлевших глаз дико блуждал, точно взгляд древнегерманского воина, совершающего набег на латинские земли.
— Сегодня великий день для дела национализма! — сказал он с жаром. — Мы с его величеством одерживаем моральные победы!
Как он это сказал! Густа забыла страхи и обиды, пережитые за долгие часы ожидания; она подошла, нежно раскрыла объятья и смиренно прильнула к нему.
Но Дидерих едва разрешил себе урвать часок на обед. Он знал, правда, что после обеда кайзер имеет обыкновение отдыхать; тогда, значит, надо неотступно стоять на часах под его окнами. Он и стоял неотступно, и результаты показали, как он был прав. Через каких-нибудь полтора часа после того, как он занял свою позицию напротив дворцового портала, подозрительного вида субъект, воспользовавшись кратковременной отлучкой швейцара, спрятался за колонну и в ее предательской тени дожидался удобной минуты, чтобы привести в исполнение свой злодейский замысел. Но Дидерих не зевал! Испуская воинственные клики, он как буря пронесся по площади. Всполошившиеся зеваки бросились за ним, охрана поспешила к месту происшествия, сбежались слуги — и все с восхищением смотрели, как Дидерих с боем вытаскивает злоумышленника на свет божий. Они дрались так яро, что даже вооруженная охрана не решилась к ним приблизиться. Вдруг противник Дидериха, которому каким-то образом удалось высвободить правую руку, взмахнул пестрой коробочкой. На несколько секунд все оцепенели, затем в панике, с отчаянными воплями бросились бежать. Бомба! Вот бросает!.. Уже бросил! В ожидании взрыва те, кто был всех ближе, заранее стеная, попадали наземь. А Дидерих, у которого лицо, плечи и грудь были обсыпаны чем-то белым, стоял и чихал. Сильно запахло мятой. Храбрейшие из храбрых вернулись и принялись обнюхивать его; один из солдат с развевающимися перьями на шляпе, послюнив палец, ткнул им в белое вещество и попробовал на вкус. Дидерих, очевидно, понял, что сказал этот солдат толпе и почему лица людей опять засветились веселым доброжелательством, ибо он и сам уже нисколько не сомневался, что его обсыпали зубным порошком. Все же он не забывал об опасности, которую кайзер избежал, быть может, лишь благодаря его, Дидериха, бдительности. Преступник пытался — разумеется, тщетно — проскочить мимо него и скрыться, но железный кулак Дидериха настиг его, и злодей был передан в руки полиции. Последняя установила, что это немец, и обратилась к Дидериху с просьбой учинить ему допрос. Дидерих, хоть и обсыпанный зубным порошком, выполнил свою задачу, как заправский следователь. Ответы задержанного, который — заметьте — оказался художником, с первого взгляда не имели ничего общего с политикой, но в их потрясающей непочтительности и отсутствии нравственных принципов проявились несомненно бунтарские тенденции, почему Дидерих и рекомендовал немедленно взять злодея под стражу. Полицейские увели его, не преминув предварительно козырнуть Дидериху. А он едва успел с помощью своего приятеля, швейцара, почиститься, ибо тут же было объявлено о выходе кайзера. Служба Дидериха снова началась.
Эта служба вынуждала его безостановочно, дотемна, мотаться по городу, пока не привела как-то к зданию германского посольства, где в честь его величества был устроен прием. Длительное пребывание кайзера в посольстве позволило Дидериху подзарядиться в ближайшем кабачке. Он взобрался на стоящий перед входом стул и обратился к народу с речью, проникнутой духом национализма. Он разъяснял этим бесхарактерным людишкам, этим тюфякам, преимущества железного режима и настоящего кайзера перед какой-то там куклой… Он говорил, залитый красным светом от плошек, которые курились перед дворцом германского посольства, а толпа глазела, как он раскрывает рот с закрученными под прямым углом усами, как он сверкает очами и вдруг застывает, точно отлитый из чугуна, — и этого, видно, ей было достаточно, чтобы понимать его, потому что она ликовала, хлопала в ладоши и, как только Дидерих выкрикивал: «Да здравствует кайзер!», кричала вместе с ним. С серьезным и даже грозным видом принимал Дидерих, во имя своего кайзера и страшной мощи своего кайзера, дань восторга от иноземной толпы, а затем сползал со стула и возобновлял обильные возлияния. Некоторые соотечественники чокались с ним, едва ли менее взбудораженные, чем он; как истые немцы, они пили, не отставая от него. Один из них развернул лист какой-то вечерней газеты с огромным портретом кайзера и прочитал заметку о происшествии в портале дворца, виновником которого оказался неизвестный немец. Лишь благодаря бдительности чиновника из личной охраны кайзера удалось помешать злодейскому замыслу; тут же был помещен и снимок чиновника. Мог ли Дидерих не узнать его? Сходство было, правда, отдаленное, а имя — до неузнаваемости искажено, зато контуры лица и усы полностью соответствовали оригиналу. Так Дидерих увидел кайзера и себя самого на одном и том же газетном листе; кайзера и его верноподданного, показанных здесь на удивление всему миру. Это было больше, чем он мог перенести. С увлажненными глазами он встал и затянул «Стражу на Рейне». Вино, стоившее так дешево, и восторги, без конца получавшие все новую и новую пищу, привели к тому, что весть об отбытии кайзера из посольства застала Дидериха не в очень-то достойном виде. Тем не менее он сделал все, что мог, во исполнение своего долга. Выписывая вензеля, он ринулся с Капитолия вниз, споткнулся — и покатился с лестницы, пересчитывая ступеньки. Собутыльники догнали его уже внизу, на узкой уличке, где он стоял, повернувшись лицом к стене… Свет факелов и цокот копыт. Кайзер! Все, пошатываясь, бросились за каретой, но Дидериху не помог даже новотевтонский кодекс чести, и он растянулся там, где стоял… Когда два городских стражника натолкнулись на него, он сидел в луже, прислонившись к стене. Они опознали чиновника из личной охраны кайзера и, сильно встревоженные, наклонились над ним. Но в следующую минуту стражники поглядели друг на друга и разразились веселым хохотом. Чиновник из личной охраны, слава богу, не был мертв, он храпел во все носовые завертки, а лужа, в которой он сидел, была отнюдь не лужей крови.
Вечером следующего дня, на парадном спектакле, вид у кайзера был крайне озабоченный. Дидерих заметил это. Он сказал Густе:
— Теперь я знаю, что не даром потратил столько денег. Помяни мое слово — мы присутствуем при историческом событии!
И предчувствие не обмануло его. В театре появились вечерние газеты с сообщением, что кайзер этой же ночью отбывает из Рима и что он распустил рейхстаг! Дидерих, такой же озабоченный, как его кайзер, разъяснял соседям важность сего события. У крамольников хватило совести отвергнуть военный законопроект! Националисты будут драться за своего кайзера не на жизнь, а на смерть! Сам он, уверял Дидерих, ближайшим поездом отправится восвояси, — и ему немедленно сообщили время отхода поезда… Недовольной была одна только Густа.
— В кои-то веки собрались в чужие края, уж могли бы, слава богу, позволить себе немножко удовольствия. Так нет, два дня я отдежурила одна в гостинице, а теперь извольте опрометью мчаться обратно из-за этого…
И Густа метнула в сторону кайзерской ложи такой возмущенный взгляд, что Дидерих строго одернул ее… Она тоже разгорячилась; кругом зашикали, и когда Дидерих с воинственным видом, сверкая очами, стал огрызаться, возмущенная публика вынудила его вместе с Густой задолго до отхода поезда покинуть зал.
— О правилах хорошего тона эти макаронники и слыхом не слыхали, — изрек он, выходя из театра, и громко засопел. — Да и вообще, что тут хорошего, хотел бы я знать! Приятная погода, это, конечно… Ну, что ж, любуйся по крайней мере всем этим старьем, которое здесь все заполонило, — потребовал он.
— Я любуюсь! — жалобно сказала Густа, уже укрощенная.
И вот, сохраняя подобающую дистанцию, они следуют за поездом кайзера. Густа, в суматохе позабывшая свои губки и щетки, на каждой станции порывалась выйти. Для того чтобы она как-нибудь прожила без них тридцать шесть часов, Дидерих без передышки произносил выспренние речи о величии идеи национализма. Все же первой ее заботой, как только они сошли с поезда в Нетциге, были губки. И надо же было им приехать в воскресенье! К счастью, аптека оказалась открытой. Пока Дидерих получал багаж, Густа бросилась туда. Так как она долго не возвращалась, Дидерих последовал за ней.
Дверь в аптеку была приоткрыта, трое парнишек подглядывали в щель и корчились от смеха. Дидерих посмотрел поверх их голов и остолбенел от удивления — за стойкой, сложив руки на груди и устремив хмурый взгляд в пространство, шагал взад и вперед его старый приятель и собутыльник Готлиб Горнунг. Густа как раз говорила:
— Все-таки мне очень хотелось бы знать, получу я зубную щетку или нет.
Готлиб Горнунг вышел из-за стойки и, не меняя позы, мрачно уставился на Густу.
— Надеюсь, у меня на физиономии ясно написано, — начал он ораторским тоном, — что я не могу и не хочу продавать вам зубную щетку.
— То есть как это! — воскликнула Густа и попятилась к стене. — Ведь вот же у вас полная банка зубных щеток.
Горнунг улыбнулся улыбкой Люцифера.
— Вон тот дядька наверху, — сказал он, запрокидывая голову и подбородком указывая на потолок, над которым, по-видимому, обитал его патрон, — может торговать здесь чем ему угодно. Меня это ни в малейшей степени не интересует. Не для того я проучился шесть семестров, не для того был членом самой аристократической корпорации, чтобы продавать зубные щетки.
— А зачем же вы тогда здесь? — спросила Густа, заметно оробев.
— Я здесь для рецептуры, — величественно поводя глазами, ответил Горнунг.
Густа, как видно, почувствовала себя побежденной. Она повернулась, собираясь уйти. Но в голове у нее мелькнула одна мысль.
— С губками, значит, такая же штука?
— Совершенно такая же, — подтвердил Горнунг.
Густа, очевидно, только того и ждала, чтобы напуститься на него. Она выпятила бюст и уже готова была разойтись вовсю, но Дидерих вовремя вмешался и уладил дело мирным путем. Он заявил, что друг его прав, надо беречь престиж «Новотевтонии» и высоко держать ее знамя. А тот, кому нужна губка, может взять ее сам и деньги положить на стойку; так он и поступил. Готлиб Горнунг тем временем отошел в сторону, насвистывая, точно был здесь один. Дидерих участливо осведомился, как жилось его другу. К сожалению, жизненный путь Готлиба Горнунга был усеян терниями: раз он не желал продавать губки и зубные щетки, его ни в одной аптеке не хотели держать и из пяти уже выставили. Но, невзирая ни на что, он решил и впредь непоколебимо отстаивать свои убеждения, рискуя потерять и это место.
— Вот перед тобой истый новотевтонец, посмотри-ка на него хорошенько! — сказал Дидерих Густе, и та посмотрела на него хорошенько.
Дидерих в свою очередь не заставил себя долго упрашивать, рассказал о событиях своей жизни и своих достижениях. Он обратил внимание Горнунга на свой орден, повернул так и этак перед приятелем Густу и назвал цифру ее капитала. Кайзер, чьи враги и хулители благодаря Дидериху сидят за решеткой, недавно посетил Рим и опять-таки стараниями Дидериха избег опасности, угрожавшей его особе. Газеты, опасаясь паники при дворах и на бирже, изобразили все как выходку какого-то полусумасшедшего.
— …Между нами говоря, у меня есть все основания полагать, что существовал разветвленный заговор. Сам понимаешь, Горнунг, что в интересах национализма это надо держать в тайне, ведь ты несомненно тоже националист.
Горнунг был националистом, и Дидерих стал распространяться о задаче необычайной важности, вынудившей его внезапно прервать свое свадебное путешествие и вернуться. Необходимо провести в рейхстаг кандидата от националистов! Не следует закрывать глаза на трудности. Нетциг — цитадель свободомыслия. Смута расшатывает устои…
Тут Густа пригрозила забрать багаж и уехать домой одна. Дидерих впопыхах успел лишь пригласить приятеля зайти к нему поскорее, сегодня же вечером, им нужно срочно поговорить. Садясь в экипаж, он увидел, как один из шалунов, дожидавшихся за дверью, вошел в аптеку и попросил показать ему зубную щетку. Дидерих решил, что Готлиб Горнунг с его аристократическими наклонностями, которые так мешают ему продавать губки и щетки, может оказаться весьма полезным союзником в борьбе против демократии… Но это было наименее важное из его срочных дел. Старой фрау Геслинг разрешено было наскоро всплакнуть, а затем ее попросили удалиться на второй этаж, где раньше помещались только служанки и сушилось белье и куда Дидерих теперь спровадил мать и Эмми. Еще с дорожной копотью в усах он задворками отправился к фон Вулкову. Так же незаметно вызвал к себе Наполеона Фишера и одновременно принял меры, чтобы без промедления встретиться с Кунце, Кюнхеном и Циллихом.
Нелегко заниматься делами в воскресный день. Майора едва удалось оторвать от партии в кегли, пастору Циллиху пришлось отказаться от семейной прогулки за город с Кетхен и асессором Ядассоном, а Кюнхен находился в плену у своих двух жильцов, которые уже довели его до полупьяного состояния. Наконец кое-как удалось согнать их всех в помещение ферейна воинов, и Дидерих без лишних проволочек объявил, что необходимо выдвинуть кандидата от националистов и что при сложившихся обстоятельствах единственной подходящей фигурой является майор Кунце.
— Ура! — сразу же крикнул Кюнхен, но Кунце нахмурился сильнее обычного. Неужели его считают таким простофилей? — прошипел он сквозь зубы. Очень ему нужно срамиться!
— Я заранее предвижу, что ждет кандидата от националистов. Полный провал — как дважды два.
Дидерих заявил, что майор глубоко заблуждается:
— Мы располагаем ферейном воинов. Не забудьте, господа! Ферейн воинов — бесценная оперативная база. Отсюда мы прямиком пробьемся, если можно так выразиться, к памятнику Вильгельму Великому, а там уже выиграем бой.
— Ура! — крикнул опять Кюнхен, а остальные пожелали узнать, к чему Дидерих приплел памятник; и он посвятил их в свой замысел, но счел за благо умолчать о том, что памятник является объектом сговора между ним и Наполеоном Фишером.
Приют для грудных младенцев, за который ратовали свободомыслящие, осторожно сказал он, не пользуется популярностью, можно немалое число избирателей перетянуть на сторону националистов, если пообещать на средства, завещанные Кюлеманом, построить памятник. Прежде всего многие ремесленники получили бы работу, в городе ключом забила бы жизнь, закладка такого памятника бесспорно встретила бы широкий отклик. А Нетциг избавился бы от своей дурной славы демократического болота и грелся бы в лучах монаршей милости.
Тут Дидерих вспомнил о своем сговоре с Вулковым, но опять-таки предпочел промолчать.
— Мужу, который так бесконечно много сделал для нашего общего блага, — он широким жестом указал на Кунце, — этому мужу наш добрый старый город когда-нибудь тоже поставит памятник. Он и кайзер Вильгельм Великий будут глядеть друг на друга…
— …и показывать друг другу язык, — договорил за него майор, который никак не мог отделаться от своего неверия. — Если вы думаете, что жители Нетцига только и ждут великого мужа, который под бой барабанов приведет их в лагерь националистов, почему бы вам самому не взять на себя роль этого великого мужа? — И он впился взглядом в Дидериха. Но Дидерих ответил ему еще более открытым взглядом; он прижал руку к сердцу.
— Господин майор! Мой всем известный монархический образ мыслей навлек на меня более тяжелые испытания, чем кандидатура в депутаты рейхстага, и я вправе сказать, что испытания эти выдержал! Я как передовой борец за правое дело не убоялся принять на себя всю ненависть неблагонадежных элементов и поэтому сам не могу пожать плоды принесенной мною жертвы. Нетциг за меня голосовать не будет, но за мое дело он будет голосовать, и поэтому я отхожу на задний план, ибо быть человеком дела — значит быть немцем. И я уступаю вам, господин майор, без малейшей зависти весь почет и всю славу!
Всеобщее движение. Голос Кюнхена, крикнувшего «браво», дрогнул от слез, пастор проникновенно кивал, а Кунце, явно потрясенный, глядел куда-то под стол. Дидерих же чувствовал себя хорошо, легко, он прислушался к голосу сердца и нашел в этом сердце верность, самопожертвование, мужественный идеализм. Поросшая светлым пухом рука Дидериха протянулась через стол, а поросшая темными волосками рука майора не сразу, но крепко пожала ее.
Не успело замолчать сердце, как во всех четырех мужах заговорил рассудок. Майор осведомился, готов ли Дидерих возместить моральный и материальный ущерб, который ему угрожает, если он потерпит поражение в единоборстве с кандидатом клики свободомыслящих.
— Вы, конечно, понимаете… — Он поднял руку и ткнул пальцем в Дидериха, который не сразу пришел в себя от такой прямолинейности. — Дело национализма вам самим не представляется таким уж безупречным, и ваше стремление непременно привлечь меня, насколько я вас знаю, господин доктор, связано с какими-то вашими махинациями, в которых я, как бесхитростный солдат, благодарение господу, ни черта не смыслю.
В ответ на эту тираду Дидерих поспешил пообещать бесхитростному солдату орден, и так как он намекнул на сговор с Вулковым, то националистический кандидат безоговорочно сдался… Пастор Циллих успел поразмыслить над тем, позволяет ли ему положение, которое он занимает в городе, взять на себя обязанности председателя национального избирательного комитета? Не приведет ли это к расколу в его приходе? Ведь его шурин Гейтейфель выставлен кандидатом от либералов! Другое дело, конечно, если бы вместо памятников строили церкви.
— Ибо, истинно говорю, в божьих храмах мы терпим большую нужду, чем когда-либо, а дорогой моему сердцу храм пресвятой Марии столь заброшен городскими властями, что не сегодня-завтра купол его обрушится мне и моим прихожанам на голову.
Дидерих, не задумываясь, обязался произвести в церкви какой угодно ремонт. Он поставил лишь одно условие: пусть пастор позаботится, чтобы на руководящие посты в новой партии не попали те элементы, которые своими высказываниями в прошлом вызывают законные сомнения в искренности их националистического образа мыслей.
— Разумеется, я не хочу вторгаться в чьи-либо семейные отношения, — добавил Дидерих, выразительно взглянув на папашу Кетхен, который, очевидно, смекнул, о чем речь, и промолчал. Неожиданно снова подал голос Кюнхен, бравурных возгласов которого давно не было слышно. Все это время пастор и майор, разговаривая с Дидерихом, силой удерживали Кюнхена на стуле; но как только они ослабили внимание, он бурно вторгся в дебаты. Где прежде всего следует насаждать националистический образ мыслей? Среди молодежи? А как это осуществить, если директор гимназии друг господина Бука?
— Тут хоть чахотку наживи, твердя им о наших доблестных подвигах в семидесятом… — Словом, Кюнхен желал стать директором, и Дидерих великодушно обещал ему содействие.
После того как на здоровой основе личных интересов была намечена политическая стратегия, можно было с чистой совестью предаться энтузиазму, который, как разъяснил пастор Циллих, ниспосылается богом и необходим в самых праведных делах, ибо только он воистину освящает их… Вся компания отправилась в погребок.
На рассвете, когда четверо друзей возвращались домой, уже повсюду, среди белых воззваний, призывавших голосовать за Гейтейфеля, и красных — ратовавших за социалиста Наполеона Фишера, красовались плакаты в черно-бело-красной рамке, рекомендовавшие избирателям отдать свои голоса кандидату «партии кайзера» майору Кунце. Дидерих, широко расставив ноги, останавливался перед ними, стараясь держаться как можно тверже, и пронзительным тенором зачитывал их вслух. «Бродяги, не помнящие родства, засевшие в распущенном ныне рейхстаге, посмели отказать нашему несравненному кайзеру в средствах, необходимых для борьбы за величие империи… Так будем же достойны нашего великого монарха и сокрушим его врагов! Вся наша программа — это кайзер! Кто не за меня, тот против меня. На одной стороне крамола, на другой — партия кайзера». Кюнхен, Циллих и Кунце сопровождали каждое слово громогласным ура, а Дидерих, увидев, что несколько рабочих, направлявшихся на фабрику, в недоумении остановились, обратился к ним и принялся разъяснять националистическую декларацию.
— Рабочие! — сказал он, — вы и не знаете, как вам повезло, что вы родились немцами. Весь мир завидует нам, завидует, что у нас такой кайзер, я сам недавно убедился в этом, когда был за границей.
Кюнхен под немыми взглядами рабочих отбарабанил кулаками туш по рекламному щиту, и четверо приятелей прокричали «ура».
— Хотите, чтобы ваш кайзер подарил вам колонии? — продолжал Дидерих. — Ясно, хотите! В таком случае, извольте отточить ему меч! Голосуйте не за каких-нибудь бродяг, не помнящих родства, — этого не смейте делать! — подавайте голоса за единственно подлинного монархического кандидата, за господина майора Кунце. В противном случае я ни на секунду не поручусь, что наша страна займет достойное место под солнцем, а вам не грозит опасность, что в получку вы будете приносить жене и детям на двадцать марок меньше.
Рабочие безмолвно переглянулись и пошли своей дорогой.
Но и друзья не теряли времени. Сам Кунце взял на себя задачу разъяснить точку зрения националистов членам ферейна воинов.
— Пусть рабочие не надеются, что смогут вступать в свободные профессиональные союзы! Мы выбьем из них всякие вольные идеи! Мы заговорим с ними другим языком!
Пастор Циллих решил заняться подобной же деятельностью в христианских ферейнах, а Кюнхен размечтался о том, как его старшеклассники загорятся энтузиазмом. В его воображении они уже носились на велосипедах по городу и волокли избирателей к урнам. Дидерих превзошел всех — неусыпное чувство долга не давало ему ни минуты покоя. Супруге, лежавшей в постели и встретившей его упреками, он ответил, сверкая очами:
— Мой кайзер кликнул клич, значит, супружеские обязанности побоку. Понятно?
Густа порывисто повернулась на другой бок, воздвигнув между собой и невежей мужем некое подобие башни — перину, взбитую ее пышными прелестями. Дидерих подавил в себе подкрадывавшееся раскаяние и немедленно принялся сочинять воззвание против плана либералов построить приют для грудных младенцев. «Нетцигский листок» поместил его, хотя за два дня до того напечатал заметку Гейтейфеля с горячим призывом учредить приют для грудных младенцев. Ибо, разъяснял тут же редактор Нотгрошен, его газета, орган просвещенных кругов общества, почитает своим долгом перед подписчиками испытывать каждую вновь возникшую идею на оселке культурной совести. Дидерих как раз это и сделал, не оставив от идеи приюта камня на камне. Для кого в первую голову предназначается приют? Для внебрачных детей. Что таким образом поощряется? Порок! Испытываем мы в этом необходимость? Ни в коей мере: «Ибо мы, слава богу, не находимся в печальном положении французов, которые, в силу своей демократической распущенности, стали вымирающей нацией. Предоставим французам выдавать премии за внебрачных детей, потому что иначе у них не будет солдат. Нам же не грозит загнивание, прирост населения у нас безграничен. Мы соль земли!» И Дидерих высчитал для подписчиков «Нетцигского листка», к какому сроку население Германии достигнет ста миллионов и сколько, в самом крайнем случае, понадобится времени, чтобы весь земной шар стал немецким.
Теперь, по мнению национального комитета, первое предвыборное собрание «партии кайзера» было достаточно подготовлено. Собрание устроили в пивной Клапша. Сам Клапш постарался об истинно немецком оформлении зала. Среди еловых гирлянд алели транспаранты: «Воля кайзера — высший закон». «У вас нет других врагов, кроме моих врагов». «Социал-демократов я беру на себя». «Мой курс — единственно правильный». «Граждане — воспряньте от сна!»
Заботу о пробуждении граждан взяли на себя Клапш и фрейлейн Клапш — они то и знай заменяли на столиках опустевшие кружки полными, даже не очень тщательно подсчитывая, вопреки обыкновению, количество выпитых кружек. В результате, когда председательствующий пастор Циллих представил собранию Кунце, его встретили очень тепло. Впрочем, несмотря на клубы табачного дыма, окутавшего президиум, Дидерих сумел сделать досадное открытие: в зал проникли Гейтейфель, Кон и некоторые их единомышленники. Так как за подбор людей отвечал Горнунг, Дидерих напустился было на него. Но Горнунг и слышать ни о чем не хотел. Он был возмущен. Малого труда, что ли, стоило ему согнать в пивную людей? Только благодаря его агитации будущий памятник Вильгельму Великому привлек такую армию поставщиков, что городу вовек не расплатиться с ними, хотя бы Кюлеман трижды испустил дух! Руки у него, у Горнунга, опухли от пожатий всех этих новоиспеченных националистов! А чего только они от него не требовали! Предлагали стать компаньоном владельца аптекарского магазина, но это еще куда ни шло. Готлиб Горнунг решительно возражал против такого демократического стирания граней. Хозяин аптеки, где он работал, только что уволил его, но он еще непреклоннее, чем когда-либо, стоит на своем — продавать зубные щетки и губки он не будет!
А Кунце тем временем бубнил свою программную речь. Его мрачная физиономия не могла ввести Дидериха в заблуждение. Майор явно понятия не имел о том, что он собирается сказать, и чувствовал себя в предвыборной борьбе беспомощнее, чем на поле боя.
— Милостивые государи, — говорил он, — армия наш единственный оплот… — Кто-то из компании Гейтейфеля крикнул с места: «Очень печально!» Кунце сразу же стушевался и добавил: — Но кто ее оплачивает? Буржуазия.
Гейтейфельцы встретили эти слова криками одобрения. Растерявшись, Кунце заявил:
— Поэтому мы все оплот и горе монарху…
— Правильно! Верно! — кричали свободомыслящие, и ярые националисты присоединились к ним.
Майор вытирал взмокшее лицо; помимо его воли речь его принимала такой характер, точно он произносил ее в каком-нибудь либеральном ферейне. Дидерих тянул его сзади за фалды, заклиная поставить точку, но как майор ни старался кончить, все было напрасно: он никак не мог найти перехода к лозунгу «партии кайзера». В конце концов он потерял терпение, отчаянно побагровел и в бешенстве крикнул:
— «Выкорчевать до последнего пня!» Урра!
Ферейн воинов откликнулся бурей аплодисментов. К столикам, где воодушевление не выражалось столь бурно, по знаку Дидериха, поспешно подходили с пивом Клапш или фрейлейн Клапш.
Доктор Гейтейфель попросил слова, но Готлиб Горнунг его опередил. Дидерих предпочел оставаться в тени, прячась в облаке табачного дыма, окутывавшего президиум. Он пообещал десять марок Горнунгу. И тот при своем стесненном положении не мог отказаться. Скрежеща зубами, фармацевт подошел к краю сцены и стал комментировать то место в речи уважаемого господина майора, где было сказано: «Армия, во имя которой все мы готовы на любые жертвы, является нашим оплотом в борьбе с засасывающей тиной демократии».
— Демократия — это мировоззрение недоучек, — заявил фармацевт. — Наука развенчала его.
— Правильно! — крикнул кто-то; это был голос владельца аптекарского магазина, который хотел привлечь Горнунга в компаньоны.
— Господа и слуги будут существовать всегда, — изрек Готлиб, — ибо то же самое мы видим в природе. И это правильно: ступенькой выше тебя всегда стоит некто, кого ты боишься, и ступенькой ниже — некто, кто тебя боится. Иначе до чего бы мы докатились! Любой встречный воображал бы, что он может существовать сам по себе, и все люди равны. Горе тому народу, у которого освященные традицией формы отношений потонут в демократической каше и восторжествует разлагающая идея ценности человеческой личности! — Здесь Готлиб Горнунг скрестил руки на груди и вздернул подбородок. — Я, — воскликнул он, — член высокоаристократической корпорации, познавший, как радостно пролить кровь за честь знамени, никогда не снизойду до того, чтобы продавать зубные щетки!
— И губки тоже? — спросил кто-то.
— И губки тоже! — не колеблясь, подтвердил Горнунг. — Я заранее самым решительным образом отвергаю всякие предложения подобного рода. Никогда не следует забывать, кто перед тобой. Каждому свое. И под этим лозунгом мы отдадим свои голоса только одному кандидату, тому, кто не откажет кайзеру в его желании получить столько солдат, сколько он захочет. Ибо одно из двух: или у нас есть кайзер, или его нет.
Так Готлиб Горнунг закончил свою речь. Он отступил в глубь сцены, выдвинул нижнюю челюсть и, насупив брови, устремил взгляд в зал, гремевший бурей аплодисментов. Члены ферейна воинов продефилировали с высоко поднятыми кружками пива в руках мимо него и Кунце. Кунце пожимал протянутые к нему руки. Горнунг стоял рядом, точно вылитый из бронзы, а Дидерих не мог подавить в себе чувства горечи; ведь эти две второстепенные фигуры пожинают то, что он посеял. Хочешь не хочешь, а надо отказаться в их пользу от преходящей популярности, ибо он, Дидерих, лучше этих двух простаков знает, к чему все сведется. В конечном счете кандидат от националистов нужен лишь для того, чтобы сколотить вспомогательный отряд для Наполеона Фишера, и поэтому разумнее всего самому держаться в тени. Гейтейфель, разумеется, прилагал все усилия, чтобы заставить Дидериха выступить. Председатель пастор Циллих не находил больше предлога отказывать Гейтейфелю в слове. Тот немедленно заговорил о приюте для грудных младенцев.
— Это, — сказал он, — дело социальной совести и гуманности. А что такое памятник Вильгельму Великому? Спекулятивное предприятие, и тщеславие — это еще самый благородный из тех инстинктов, на которых в данном случае спекулируют…
Поставщики, сидевшие в зале, слушали оратора молча, время от времени нарушая тишину глухим ропотом, дававшим выход их наэлектризованным чувствам. Дидерих дрожал.
— Есть люди, — говорил Гейтейфель, — которым не страшно выбросить лишних сто миллионов на армию, так как они уже наперед прикинули, как с лихвой вернуть свой личный вклад.
Дидерих вскочил:
— Прошу слова!
И поставщики, дав волю своему негодованию, разразились криками: «Браво! Просим! Долой!» Они бушевали до тех пор, пока Гейтейфель не сошел с подмостков и Дидерих не стал на его место.
Он долго ждал, прежде чем улеглась буря националистического возмущения.
— Господа! — начал он наконец.
— Браво! — закричали поставщики, и Дидериху опять пришлось сделать паузу. Как легко дышалось в этой атмосфере созвучно настроенных умов! Когда ему удалось, наконец, заговорить, он облек в слова всеобщее возмущение, сказав, что предыдущий оратор позволил себе усомниться в чистоте националистических убеждений собрания.
— Безобразие! — кричали поставщики.
— Это только доказывает, — воскликнул Дидерих, — насколько своевременно основание «партии кайзера»! Кайзер самолично повелел сплотиться всем тем, — будь то хозяин иль слуга, — кто хочет избавить его от бунтарской заразы. А мы этого хотим. Вот почему наш националистический и монархический образ мыслей стоит выше подозрений со стороны тех элементов, которые сами подготовляют почву для бунтарства.
Раньше, чем разразилась буря аплодисментов, Гейтейфель успел очень внятно бросить:
— Не забегайте вперед! Существует еще перебаллотировка!
И хотя поставщики громом рукоплесканий заглушили его дальнейшие слова, Дидерих учуял в этих двух фразах опасный намек и предпочел переменить тему. Вопрос о приюте для грудных младенцев был менее каверзным. Как! Назвать приют делом социальной совести? Нет, такой приют — порождение порока!
— Нам, немцам, подобные учреждения не нужны. Пусть их строят французы, эта вымирающая нация.
Дидериху оставалось лишь пересказать собственную статью, напечатанную в «Нетцигском листке». Юношеский ферейн, возглавляемый пастором Циллихом, и ферейн приказчиков-христиан аплодировали каждому его слову.
— Германцы целомудренны! — восклицал Дидерих. — Потому мы и одержали победу в семидесятом!
Теперь вопли восторга стал испускать ферейн воинов. Из-за стола президиума вскочил Кюнхен и, размахивая сигарой, завизжал:
— Мы им скоро опять покажем, где раки зимуют! Дидерих поднялся на цыпочки.
— Господа! — восклицал он, стараясь перекричать шум разбушевавшегося моря националистических восторгов, — пусть памятник кайзеру Вильгельму будет знаком нашего преклонения перед великим дедом нашего кайзера, — ведь все мы, говоря без преувеличения, чтим его почти как святого, — и в то же время обещанием его великому внуку, нашему несравненному молодому кайзеру, что мы навсегда останемся такими, какие мы есть, то есть целомудренными, свободолюбивыми, правдивыми, верными и бесстрашными!
Тут поставщиков уже никакая сила не могла сдержать. Самозабвенно упивались они высокими идеалами, да и Дидерих как бы отрешился от всех своих мирских мыслишек, забыл о соглашении с Вулковым, о сговоре с Наполеоном Фишером, о своих темных расчетах на перебаллотировку. Чистый энтузиазм вознес его душу на высоту, от которой кружилась голова. Ему не сразу удалось вновь заорать:
— Вот почему мы должны со всей решимостью положить конец клеветническим наветам тех, кто силится разложить нас своей ложной гуманностью!
— А куда вы спрятали вашу настоящую? — спросил Гейтейфель и этим вопросом так подстегнул националистов, что дальнейшую речь Дидериха собрание слышало только урывками. Можно было лишь разобрать, что он не желает вечного мира, ибо это мечта — и мечта не из прекрасных. Вместо этого он требовал спартанского воспитания расы. Слабоумных и прегрешающих против нравственности он предлагал хирургическим путем лишать способности к размножению. Когда Дидерих дошел до этого пункта своей программы, Гейтейфель и его единомышленники покинули зал. На пороге Гейтейфель обернулся и крикнул:
— Не забудьте кастрировать и крамольников!
— Обязательно кастрируем, — откликнулся Дидерих, — если вы не перестанете злопыхательствовать!
— Обязательно кастрируем! — неслось отовсюду. Все повскакали с мест, чокаясь и что-то восторженно крича, хором изливая свои возвышенные чувства. Дидерих стоял среди бушующего моря славословий; он пошатывался под натиском истинно немецких рук, жаждавших пожать его руку, и националистических кружек пива, протянутых к нему, чтобы чокнуться, он смотрел с подмостков в зал, и в хмельном чаду ему казалось, что зал раздвигается, становится шире, выше. В облаках дыма под самым потолком мистически пламенели обращенные к нему заповеди его владыки: «Воля кайзера!», «Мои враги!», «Мой курс!» Ему хотелось бросить их в бурлящий восторгом зал, но он схватился за горло, — он не мог выдавить из себя ни единого звука: он потерял голос. Дидерих панически оглядывался, ища глазами Гейтейфеля, но того и след простыл. «Мне не надо было его так раздражать. Боже, смилуйся надо мной, когда он будет смазывать мне горло!»
Гейтейфель запретил Дидериху выходить из дому — более жестокой мести он не мог бы придумать. В городе что ни день все яростнее кипела предвыборная борьба, и так как все выступали с речами, на страницах газет без конца мелькали знакомые имена. Даже пастор Циллих и сам редактор Нотгрошен выступали на каких-то собраниях, не говоря уже о Кюнхене, который выступал в тысяче мест одновременно. Один только Дидерих безмолвствовал, он полоскал горло в своей гостиной, заново обставленной в старонемецком стиле. Из ниши окна на него смотрели три бронзовые фигуры, почти в две трети человеческого роста — кайзер, кайзерша и зекингенский трубач{25}. Дидерих купил их по случаю у Кона, хотя Кон перестал заказывать у него бумагу и все еще был далек от националистического образа мыслей. Но Дидерих, обставляя свою квартиру, не мог отказаться от этих фигур. Когда он попрекал Густу слишком дорогой шляпкой, она вспоминала ему эту покупку.
Густа в последнее время часто капризничала, временами ее тошнило; тогда она поднималась в спальню старой фрау Геслинг, и та ухаживала за ней. Как только ей становилось лучше, она принималась допекать старуху, напоминая, что все здесь куплено на ее, Густины, деньги. А фрау Геслинг не упускала случая изобразить брак Густы с ее Диделем как подлинную милость божию для Густы в ее тогдашнем положении. Дело кончалось тем, что Густа, вся пунцовая, дулась и фыркала, а фрау Геслинг ударялась в слезы. Дидерих от этих сцен только выигрывал: после них обе женщины были с ним необычайно нежны — каждая старалась перетянуть ничего не подозревавшего Диделя на свою сторону.
Что касается Эмми, то в таких случаях она, по обыкновению, хлопала дверью и шла к себе наверх, в комнату с покатым потолком. Густа помышляла уже о том, чтобы выдворить ее и оттуда. Где, в самом деле, сушить белье в дождь? Если Эмми не может найти жениха, потому что у нее гроша за душой нет, значит ее надо выдать замуж за человека более низкого сословия, за честного ремесленника! Но Эмми, конечно, корчит из себя аристократку, ведь она вхожа к Бриценам! Густу задевало за живое, что фрейлейн Брицен приглашает Эмми к себе, хотя сама ни разу не была у Геслингов. Ее брату, лейтенанту, за ужины в доме Даймхенов не грех бы нанести ей, Густе, хотя бы один визит, но он почему-то удостаивает своими посещениями только второй этаж геслинговского дома. Это было весьма подозрительно. Успехи в обществе не спасали, правда, Эмми от приступов жестокой депрессии; в такие дни она не выходила даже к обеду.
Однажды Густа из жалости, а может, и от скуки, поднялась наверх к Эмми, но та, увидев ее, закрыла глаза и продолжала лежать, бледная и неподвижная, в своем ниспадающем мягкими складками пеньюаре. Так как Эмми упорно молчала, Густа разоткровенничалась сама: заговорила о Дидерихе и о своей беременности. Но застывшее лицо Эмми вдруг сморщилось, как от боли, она повернулась к Густе и энергичным жестом указала ей на дверь. Густа и не подумала сдержать свое возмущение. Эмми, порывисто вскочив, ясно и недвусмысленно заявила, что хочет побыть одна, а когда фрау Геслинг прибежала на шум, было уже принято решение, что впредь обе семьи будут столоваться раздельно. Дидериха, которому Густа с плачем пожаловалась на Эмми, эта бабья склока рассердила. К счастью, он придумал выход, который мог, казалось, хотя бы на время утишить разгоревшиеся страсти. Пользуясь тем, что голос к нему частично вернулся, он немедленно поднялся к Эмми и объявил ей о своем решении отправить ее на месяц-два к Магде в Эшвейлер. К его удивлению, она отказалась. Он продолжал настаивать, и Эмми уже готова была вспылить, но внезапно, точно охваченная страхом, начала тихо и настойчиво просить, чтобы он разрешил ей остаться дома. Дидерих, у которого почему-то сердце дрогнуло от жалости, растерянно обвел глазами комнату и вышел.
На следующий день Эмми, свежая и румяная, в самом лучшем настроении как ни в чем не бывало появилась за столом. Густа держалась сдержанно и холодно и все бросала выразительные взгляды на Дидериха. Он истолковал их по-своему, поднял стакан и, обращаясь к Эмми, лукаво сказал:
— За ваше здоровье, фрау фон Брицен.
Эмми побледнела.
— Это еще что за шутовство! — крикнула она гневно, швырнула салфетку и хлопнула дверью.
— Вот те раз! — буркнул Дидерих, а Густа лишь пожала плечами. Только когда фрау Геслинг ушла, Густа, загадочно глядя Дидериху в глаза, спросила:
— Ты и в самом деле так думаешь?
Дидерих почувствовал страх, но только вопросительно посмотрел на жену.
— Я полагаю, — продолжала Густа, — что будь это так, господин лейтенант хотя бы на улице соблаговолил со мной раскланиваться. А сегодня он попросту перешел на другую сторону.
Дидерих заявил, что все это ее фантазия. Густа ответила:
— Если это моя фантазия, то не единственная. По ночам я слышу, как кто-то крадется по дому, а сегодня утром Минна мне сказала…
Кончить фразу ей не удалось.
— Вот как! — Дидерих громко засопел, — С прислугой шушукаешься! Мама тоже всегда так делала. Но я этого не потерплю, так и знай. Честь моего дома я охраняю сам и не нуждаюсь ни в тебе, ни в Минне, а если вы иного мнения, то вот бог, а вот и порог.
Получив столь мужественный отпор, Густа вынуждена была замолчать, но когда Дидерих выходил, она исподлобья проводила его взглядом и усмехнулась.
Дидерих был тоже доволен собой: своей решительной отповедью он сразу положил конец разговорам об Эмми. Жизнь и без того сложна, незачем ее еще больше запутывать! Враги не преминули воспользоваться его хрипотой, которая, к сожалению, на целых три дня отвлекла его от участия в борьбе. Не далее как сегодня утром Наполеон Фишер поставил его в известность, что «партия кайзера» становится слишком сильной и что в последние дни она уж чересчур травит социал-демократов. А при таких обстоятельствах…
Дидерих, чтобы успокоить его, вынужден был пообещать сегодня же выполнить взятые на себя обязательства и потребовать от гласных постройки дома профессиональных союзов для социал-демократов… И, далеко еще не восстановив здоровье, он пошел в ратушу, где его ждал сюрприз: предложение о постройке дома профессиональных союзов только что было внесено, и кем же? Господином Коном и его единомышленниками! Либералы поддержали это предложение, оно прошло как по маслу — будто его только и ждали. Дидерих, собиравшийся громогласно заклеймить Кона и его единомышленников за измену делу национализма, издал лишь какие-то лающие звуки: этот подвох снова лишил его голоса. Вернувшись домой, он немедленно послал за Наполеоном Фишером.
— Вы уволены! — пролаял Дидерих.
Механик подозрительно ухмыльнулся.
— Хорошо! — сказал он и пошел к дверям.
— Стойте! — опять пролаял Дидерих. — Напрасно вы надеетесь выскочить сухим из воды. Если вы стакнетесь со свободомыслящими, то будьте уверены, я разглашу наш договор. Вам не поздоровится!
— Политика есть политика, — ответил Наполеон Фишер, пожав плечами.
И так как Дидерих перед лицом столь безграничного цинизма даже пролаять ничего не смог, Наполеон Фишер фамильярно подошел к нему и разве что не похлопал его по плечу.
— Господин доктор, — сказал он благодушно, — зря вы это сердитесь. Оба мы… ну да, вот именно, мы оба… — И в ухмылке его было такое грозное предостережение, что Дидериха мороз по коже продрал. Он поспешно предложил Наполеону Фишеру сигару. Фишер закурил и сказал:
— Если один из нас начнет говорить, то ведь и другой в долгу не останется. Не правда ли, господин доктор? Мы ведь с вами не какие-нибудь старые болтуны, как, скажем, господин Бук, который ничего про себя держать не умеет?
— А что такое? — уже совсем шепотом спросил Дидерих, которого обуревали страхи, один другого мучительнее.
Механик удивленно вскинул брови.
— Вы разве не слышали? Господин Бук повсюду толкует, будто весь ваш национализм — дутая штука. Вы просто хотите, говорит он, за бесценок сграбастать Гаузенфельд и рассчитываете сбить на него цену, запугав Клюзинга — пусть, дескать, думает, что потеряет заказы из-за того, что он не националист.
— Он это говорит?.. — спросил Дидерих, окаменев.
— Он это говорит, — подтвердил Фишер. — И еще он говорит, что окажет вам услугу и замолвит за вас словечко Клюзингу. Тогда, говорит он, вы угомонитесь.
Дидерих опомнился.
— Фишер! — отрывисто пролаял он. — Помяните мое слово: недалеко то время, когда старик Бук будет стоять на перекрестке и просить милостыню! Да-да! Уж я позабочусь на этот счет, будьте покойны. До свиданья!
Наполеон Фишер удалился, но Дидерих долго еще лаял, тяжелыми шагами расхаживая по комнате. Этакий подлец, ханжа! За всем, что вставало на пути Дидериха, скрывались козни старика Бука. Он, Дидерих, всегда подозревал это. Предложения Кона и компании — это его рук дело, а теперь еще этот наглый поклеп насчет Гаузенфельда! Дидерих, в сознании неподкупности своего монархического образа мыслей, места себе не находил от возмущения. «И откуда ему было пронюхать об этом? — думал он в страхе и гневе. — Неужто меня выдал Вулков? И теперь все, конечно, думают, что я веду двойную игру!» У Дидериха было сегодня впечатление, что Кунце и другие охладели к нему, они, по-видимому, не считали более необходимым посвящать его в свои планы. В комитет он не вошел, он принес свое честолюбие в жертву общему делу. Из этого, может быть, следует, что не он подлинный основатель «партии кайзера»?.. Со всех сторон предательство, интриги, враждебная подозрительность… и нигде прямодушной немецкой верности.
На ближайшем предвыборном собрании Дидериху, все еще способному только лаять, волей-неволей пришлось в бессильной ярости наблюдать, как Циллих из личных интересов — вполне понятно каких — предоставил слово Ядассону и как Ядассон сорвал бурные аплодисменты, ополчившись на не помнящих родства бродяг, которые собираются голосовать за Наполеона Фишера. Дидерих находил речь Ядассона жалкой, недостойной государственного деятеля, и чувствовал свое огромное превосходство над ним. Но все же нельзя закрывать глаза на то, что, чем больше Ядассон, вдохновленный успехом, завирается, тем больший отклик он находит среди части слушателей, отнюдь, по-видимому, не националистов, а скорее всего сторонников Кона и Гейтейфеля. Их подозрительно много, и Дидерих, которому повсюду чудились ловушки, видел и за этим маневром руку своего заклятого врага, от которого исходило все зло, — старика Бука.
У Бука голубые глаза и приветливая улыбка, между тем это самый лицемерный тип из всех, кто подкапывается под благонамеренных. Мысль о старике Буке не давала Дидериху покоя даже во сне. На следующий вечер он сидел у себя за круглым столом, не отвечая на вопросы домашних, — он мысленно строил козни против старого Бука. Особенно бесило Дидериха то, что он ошибся в расчетах: не успел он окрестить старика беззубым болтуном, как тот взял да и показал зубы. После всех своих медоточивых разговоров Бук не желал дать себя просто слопать, и это действовало на Дидериха как вызов. А его лицемерная незлобивость: как он искусно прикинулся, что прощает Дидериху разорение своего зятя! Зачем ему понадобилось оказывать Дидериху протекцию и проводить его в совет городских гласных? Только затем, чтобы Дидерих осрамился и чтобы легче было его свалить. Вопрос старика, не продаст ли Дидерих городу свой земельный участок, представлялся ему теперь опаснейшей ловушкой. У Дидериха было такое ощущение, будто его планы давно разгаданы. Ему даже мерещилось, что старый Бук, скрытый табачным дымом, был незримым свидетелем его тайных переговоров с президентом Вулковым; а в ту мрачную зимнюю ночь, когда Дидерих прокрался к Гаузенфельду, залез в канаву и плотно сжал веки, чтобы блеск глаз не выдал его, над ним прошел все тот же старик и пронизал его взглядом… Воображение ясно рисовало Дидериху склонившегося над ним старика и бледную, холеную руку, протянутую, чтобы помочь ему выбраться из канавы. Доброта, которой светилось его лицо, была глубочайшей насмешкой, была нестерпимее всего. Уж не рассчитывал ли он приручить Дидериха и исподволь, всяческими уловками вернуть его, как блудного сына, на прежний путь? Но мы еще посмотрим, кто кого!
— Что с тобой, дорогой мой сын? — спросила фрау Геслинг, услышав тяжкий стон, исторгнутый из груди Дидериха ненавистью и страхом. Он вздрогнул. В комнату вошла Эмми, и Дидериху почему-то подумалось, что уже не в первый раз. Она направилась к окну, высунулась из него, вздохнула, — словно никого не было в комнате, — и снова пошла к двери. Густа следила за ней взглядом. Когда Эмми поравнялась с Дидерихом, Густа насмешливо уставилась на обоих. Дидерих испугался еще больше: это была усмешка самой крамолы; так всегда усмехался Наполеон Фишер. Так усмехнулась Густа. Он насупился и грубо крикнул:
— Ну, что такое?
Густа поспешила уткнуться в свою штопку, а Эмми, застыв, посмотрела на него тем опустошенным взглядом, который он уже не раз замечал у нее за последнее время.
— Что с тобой? — повторил он. И так как Эмми не откликнулась, продолжал: — Что ты все выглядываешь на улицу?
Эмми только передернула плечами, лицо ее оставалось каменным.
— Ну же? — повторил Дидерих, но уже потише; он не решался повысить голос: ее взгляд, ее поза выражали глубокое безразличие, это давало ей какое-то преимущество перед ними.
Наконец, как бы снисходя к нему, она заговорила:
— Может быть, сестры фон Брицен еще заглянут к нам?..
— В такой поздний час? — вырвалось у Дидериха.
Тут заговорила Густа.
— Как же, ведь мы привыкли к почестям… Впрочем, девицы-то еще вчера укатили вместе с мамашей. Может быть, они не попрощались с особами, которых знать не хотят, но стоит только заглянуть к ним на виллу…
— Что? — спросила Эмми.
— Да я уж знаю, о чем говорю! — Сияя от злорадства, Густа победно выпалила: — И лейтенант уезжает вслед за ними… Его переводят в другое место. — Пауза. Взгляд в сторону золовки: — Да, да, он сам хлопотал о переводе.
— Ты лжешь! — простонала Эмми.
Она пошатнулась, но тотчас же выпрямилась. С высоко поднятой головой вышла и опустила за собой портьеру.
В комнате стало тихо. Старуха Геслинг по-прежнему сидела на диване, сложив руки на животе. Густа вызывающе следила за Дидерихом; пыхтя, он бегал из угла в угол. Добежав до двери, внезапно остановился: через щелку он увидел Эмми, которая не то сидела в столовой на стуле, не то свисала с него, вся скрюченная, точно ее связали и швырнули на этот стул. Вздрогнув, она повернулась лицом к свету; только что мертвенно-бледное, оно теперь было очень красным, а глаза словно ничего не видели. Неожиданно она вскочила, как опаленная огнем, ноги плохо держали ее, она натыкалась на мебель, не ощущая боли, и не помня себя от гнева бросилась вон из комнаты, словно в туман, в кипящую мглу… Испуганный Дидерих оглянулся на мать и жену. Увидев по выражению лица Густы, что от нее можно ожидать непочтительной выходки, он мгновенно натянул на себя привычную маску благопристойности и, выпрямившись, шумно шагнул вслед за Эмми. Но, прежде чем он дошел до лестницы, наверху щелкнул в замке ключ. Сердце у Дидериха так забилось, что он вынужден был остановиться. Поднявшись наверх, он мог только слабым, задыхающимся голосом потребовать, чтобы Эмми отперла дверь. Ответа не последовало, но он услышал, как на умывальнике что-то звякнуло. Он взмахнул руками, закричал не своим голосом, забарабанил в дверь. За этим неистовым шумом он не заметил, что Эмми открыла дверь, и продолжал кричать, хотя она стояла перед ним.
— Что тебе от меня нужно? — спросила юна гневно.
Дидерих пришел в себя. На нижних ступеньках лестницы с перекошенными от ужаса лицами и немым вопросом в глазах стояли фрау Геслинг и Густа.
— Не подыматься! — скомандовал он и втолкнул Эмми в комнату.
Он запер двери.
— Им незачем это нюхать, — коротко сказал он и вынул из таза маленькую губку, пропитанную хлороформом. Отведя руку с губкой далеко в сторону, он сурово спросил: — Откуда это у тебя?
Эмми откинула голову назад и взглянула ему в лицо, но промолчала. И чем дольше она молчала, тем бессмысленнее казался Дидериху его вопрос, столь уместный с юридической точки зрения. В конце концов он попросту подошел к окну и швырнул губку в темный двор. Послышался всплеск. Губка попала в водосток. Дидерих облегченно вздохнул.
— Что тебе от меня нужно? — повторила Эмми. — Неужели я не вправе делать то, что хочу!
Такого вопроса он не ожидал.
— Хорошо, но что… что ты хочешь сделать?
Эмми отвернулась; глядя в сторону и пожимая плечами, она сказала:
— Тебе это все равно.
— Ну, знаешь! — возмутился Дидерих. — Если ты окончательно потеряла совесть и не стыдишься судьи небесного, что я, конечно, осуждаю, то посчитайся хоть немного со всеми нами. Одна ты, что ли, на свете?
Ее безразличие не на шутку уязвило его.
— Я не допущу скандала в своем доме! Я первый почувствую на себе его последствия.
Она вдруг взглянула ему в глаза.
— А я не почувствую?
Он крякнул.
— Моя честь… — Но тут же осекся; в ее лице, — он никогда не подозревал, что оно может быть таким выразительным, — были жалоба и насмешка одновременно. Растерявшись, он шагнул к двери. Вдруг его осенило, как полагается поступать в таких случаях. — Разумеется, я как брат и человек чести до конца выполню свой долг. Я вправе надеяться, что ты возьмешь себя в руки. — Он бросил взгляд на умывальный таз, откуда все еще тянуло хлороформом. — Дай честное слово!
— Оставь меня в покое, — сказала Эмми.
Дидерих вернулся.
— Очевидно, ты все-таки не отдаешь себе отчета в серьезности положения. Если то, чего я опасаюсь, правда, то ты…
— Это правда, — сказала Эмми.
— Значит, ты не только погубишь себя, по крайней мере в глазах общества, а и всю семью опозоришь! И когда я во имя долга и чести предлагаю тебе…
— Все же факт останется фактом, — сказала Эмми.
Дидерих испугался; он хотел было выразить свое отвращение перед столь безграничным цинизмом, но он слишком отчетливо прочитал на ее лице, через что она прошла и от чего отреклась раз и навсегда. Перед величием ее отчаяния Дидерих содрогнулся. В нем словно оборвались какие-то искусственно натянутые пружины. Ноги у него обмякли, он сел и с усилием выговорил:
— Так скажи мне только… Я готов тебя… — Он пристально взглянул на Эмми, и слово «простить» застряло у него в горле. — Я готов тебе помочь.
— Как же ты это сделаешь? — спросила она устало и прислонилась к стене.
— Тебе придется, конечно, кое-что рассказать мне, — сказал он, глядя в пол. — Разумеется, только некоторые подробности. Полагаю, все началось с уроков верховой езды?
Она слушала, она ничего не подтверждала, ничего не отрицала… Но, подняв глаза, он увидел, что Эмми, слегка приоткрыв рот, смотрит на него с удивлением. Дидериху было понятно это удивление: высказывая вслух многое из того, что она до сих пор хранила в себе, он снимал с ее плеч тяжесть пережитого. Сердце его исполнилось неизведанной гордости.
— Положись на меня. Я пойду к нему завтра же утром.
Она тихо и робко покачала головой.
— Нет, тебе этого не понять. Все кончено.
— О, мы не так уж беспомощны, — произнес он бодрым тоном. — Поглядим, что можно сделать.
На прощанье Дидерих подал ей руку и пошел к двери. Она остановила его:
— Ты вызовешь его на дуэль? — Глаза ее расширились, она прикрыла рукой рот.
— С чего ты взяла? — спросил Дидерих; такой исход не приходил ему в голову.
— Поклянись, что не вызовешь!
Он дал слово и покраснел — ему очень хотелось знать, за кого она страшится: за него или за того — другого. Не хотел бы он, чтобы это был другой. Но от вопроса он удержался, чтобы не причинить ей боли. И почти на цыпочках вышел из комнаты.
Обеим женщинам, все еще дожидавшимся внизу, он сердито велел ложиться спать. Сам же улегся рядом с Густой лишь после того, как она уснула. Надо было обдумать, как держаться завтра. Прежде всего — воинственно… Не допускать и тени сомнения в исходе дела. Но перед мысленным взором Дидериха вместо собственной внушительной фигуры настойчиво вставал облик приземистого человека с блестевшими от слез печальными глазами, который просит, грозит и уходит совершенно разбитый: господин Геппель, отец Агнес Геппель. Теперь, в своем душевном смятении, Дидерих почувствовал, каково было тогда старому отцу. «Тебе этого не понять», — сказала Эмми. Но он понимал, потому что сам причинил другому такие же страдания.
— Боже сохрани, — громко произнес он, ворочаясь с боку на бок. — И не подумаю впутываться в это дело. Хлороформ — это только притворство. Женщины — хитрый народ. Я попросту вышвырну ее вон, она этого заслуживает.
Но он увидел перед собой Агнес под дождем, на улице, и лицо ее, совершенно белое в свете газового фонаря, обращено вверх, к его окну. Он натянул простыню на голову. «Не могу я выгнать ее на улицу». Наступило утро, и он с удивлением вспомнил обо всем происшедшем.
«Лейтенанты встают спозаранку», — подумал он и выскользнул из дому еще до того, как проснулась Густа. За Саксонскими воротами под весенним небом благоухали и звенели птичьими голосами сады. Виллы, еще запертые, словно только что умылись, и почему-то думалось, что все они заселены молодоженами. «Кто знает, — размышлял Дидерих, вдыхая чистый воздух, — быть может, это вовсе не трудно. Ведь попадаются иногда порядочные люди. И положение вещей благоприятнее, чем…» Он предпочел не додумать свою мысль. В глубине улицы остановился экипаж. Перед каким же это домом? Значит, правда, уезжает. Калитка была распахнута, двери тоже. Навстречу Дидериху вышел денщик.
— Докладывать незачем, я уже вижу господина лейтенанта.
В комнате, прямо напротив входа, лейтенант укладывал чемодан.
— В такую рань? — спросил он и захлопнул крышку, прищемив себе палец. — О черт!
Дидерих пал духом. «И он тоже укладывается».
— Чему я обязан… — начал фон Брицен, но у Дидериха вырвался невольный жест: церемонии, мол, излишни.
Господин фон Брицен начисто отрицал все. Отрицал дольше, чем в свое время Дидерих, и Дидерих признал в душе, что так и надо: там, где речь идет о чести девушки, лейтенант обязан быть более щепетилен, чем новотевтонец. Но когда все было выяснено, господин фон Брицен немедленно заявил, что он, разумеется, всегда к услугам многоуважаемого брата, в чем, само собой, ни на минуту не могло быть сомнения. Но Дидерих, несмотря на жестокий страх, обуявший его, беспечно ответил, что разрешать вопрос с оружием в руках нет необходимости, при условии, конечно, если господин фон Брицен… И господин фон Брицен скроил мину, которую Дидерих заранее представлял себе, и привел доводы, которые Дидерих заранее слышал. Припертый к стене, он сказал фразу, которой Дидерих больше всего боялся и которая, он признавал это, не могла не прозвучать здесь. Девушку, потерявшую честь, порядочные люди не делают матерью своих детей! Тогда Дидерих произнес то, что в свое время сказал господин Геппель, таким же убитым голосом, как в свое время господин Геппель. Справедливый гнев он почувствовал лишь в ту минуту, когда пустил в ход свою главную угрозу, угрозу, на которую возлагал надежды со вчерашнего дня.
— Ввиду вашего нерыцарского поведения я, к сожалению, буду вынужден поставить обо всем в известность командира полка.
И в самом деле, на господина фон Брицена эта угроза как будто сильно подействовала.
— Чего вы этим добьетесь? — неуверенно спросил он. — Что мне прочтут нравоучение? Ну, что ж. А вообще… — Господин фон Брицен овладел собой. — Вообще, у полковника, вероятно, иные понятия о рыцарстве, нежели у господина, который не желает драться на дуэли.
Дидерих вспылил. Пусть господин фон Брицен изволит попридержать язык, а то как бы ему не пришлось иметь дело с «Новотевтонией». Достаточно взглянуть на его, Дидериха, шрамы, чтобы убедиться в его радостной готовности пролить кровь за честь знамени. Он пожелал бы господину лейтенанту, чтобы ему пришлось когда-нибудь вызвать на дуэль, например, графа фон Тауэрн-Беренгейма!
— Я его без всяких околичностей вызвал! — И, не переводя дыхания, Дидерих выпалил, что далеко еще не признает за таким вот наглым дворянчиком права убивать солидного бюргера и отца семейства! — Соблазнить сестру и застрелить брата, на это у вас хватит совести! — воскликнул он вне себя.
Господин фон Брицен, придя в такой же раж, как и Дидерих, сказал, что велит денщику искровенить морду презренному купчику, и так как денщик был уже рядом, Дидериху ничего не оставалось, как очистить поле боя, но последний выстрел все же остался за ним.
— Не рассчитывайте, — крикнул он, — что ради таких наглецов мы одобрим военный законопроект! Вы еще узнаете, что такое бунт!
Выйдя на улицу и шагая по пустынной аллее, он продолжал кипеть, показывая невидимому врагу кулак, и бормотал угрозы:
— Несдобровать вам! Дождетесь, мы с вами покончим!
Вдруг он заметил, что сады так же, как и раньше, благоухают и звенят птичьими голосами под весенним небом, и понял, что сама природа, ласковая или суровая, бессильна воздействовать на власть — власть, которая над нами, которую ничто не может поколебать. Пригрозить бунтом не трудно; а что же будет с памятником кайзеру Вильгельму? С Вулковым и Гаузенфельдом? Кто хочет попирать других, должен смиренно позволить попирать себя. Таков железный закон власти. После вспышки протеста он уже чувствовал сладостную дрожь человека, которого попирает власть… Его обогнал экипаж: господин фон Брицен со своими чемоданами. Дидерих, раньше, чем это дошло до его сознания, стал вполоборота, намереваясь поклониться. Но господин фон Брицен отвернулся. Дидерих, несмотря на все происшедшее, не мог не залюбоваться юным богатырем офицером. «Таких офицеров нет нигде», — решил он.
Однако как только он свернул на Мейзештрассе, на душе у него заскребли кошки. Он издали увидел, как Эмми высматривает его, и неожиданно для себя подумал о том, сколько она, вероятно, выстрадала за минувший час, пока решалась ее судьба. Бедная Эмми, судьба твоя решена. Власть, стоящая над нами, конечно, возвышает душу, но если она поражает твою родную сестру… «Я не думал, что меня это так глубоко заденет». Он постарался бодро кивнуть ей. Эмми очень похудела; как же никто этого не замечал! Из-под матово блестевших волос на него смотрели огромные, воспаленные бессонницей глаза; когда он кивнул, губы у Эмми задрожали; он и это заметил, страх обострил его зрение. По лестнице Дидерих подымался почти крадучись. На втором этаже Эмми вышла из столовой и впереди него двинулась наверх. На площадке третьего этажа она обернулась, но, увидев его лицо, вошла в комнату без единого вопроса, стала у окна и отвернулась. Дидерих, собрав все силы, громко сказал:
— О, ничего еще не потеряно!
Но тут же страх охватил его, он закрыл глаза. Когда он застонал, Эмми повернулась, медленно подошла и положила голову ему на плечо, чтобы вместе поплакать.
Внизу у него произошла стычка с Густой, которая хотела натравить его на Эмми. Дидерих бросил ей в лицо, что она, пользуясь несчастьем Эмми, старается вознаградить себя за те неблаговидные обстоятельства, при которых она сама вышла замуж.
— Эмми по крайней мере ни за кем не бегает.
— Может, скажешь, я за тобой бегала? — взвизгнула Густа.
— Она моя сестра! — пресек дальнейшие разговоры Дидерих.
С тех пор как он взял Эмми под свое покровительство, она приобрела в его глазах особую привлекательность, и он оказывал ей необычные знаки уважения. После обеда, не обращая внимания на усмешку Густы, Дидерих целовал Эмми руку. Он сравнивал сестру с женой: насколько же вульгарнее была Густа! Даже Магда, его любимица, так как она имела успех, проигрывала теперь рядом с покинутой Эмми. Несчастье придало облику Эмми оттенок благородства и недосягаемости. Когда ее бледная рука — ее и словно не ее — свешивалась с кресла и сама она погружалась в себя, в неведомую бездну, ему чудилось, что он заглядывает в какой-то более глубокий мир. Положение падшей, страшное и презренное, когда в нем оказывались другие, создавало вокруг Эмми, его сестры, особый ореол и атмосферу двусмысленного обаяния. Эмми казалась ему еще более блестящей и трогательной, чем прежде.
Рядом с ней лейтенант, виновник всего, сильно померк, — а вместе с ним померкла и власть, под сенью которой он восторжествовал. Дидерих убедился, что власть может принять низкий и подлый облик: и сама власть и все, что идет по ее следам — успех, почет, мировоззрение. Глядя на Эмми, он невольно начинал сомневаться в ценности всего, чего он достиг и чего добивался: Густы и ее денег, памятника, высочайших милостей, Гаузенфельда, наград и постов. Он смотрел на Эмми и вспоминал об Агнес, Агнес, которая учила его любви и нежности; она была в его жизни чем-то настоящим, подлинным, он должен был удержать ее! Где она теперь? Умерла? Порой он сидел, обхватив голову руками. Чего он достиг? Чем вознаградила его власть за служение ей? Опять все рассыпалось прахом, все предали его, злоупотребили его самыми лучшими намерениями, а старый Бук — хозяин положения. Подкрадывалась мысль — быть может, победила Агнес, которая только и умела что страдать? Он написал в Берлин, навел о ней справки. Она вышла замуж и была более или менее здорова! Весть эта принесла ему облегчение, но и слегка разочаровала.
Пока он сидел, обхватив голову руками, день выборов неуклонно приближался. Исполненный сознания суетности мира сего, Дидерих не хотел ничего замечать, в том числе и выражения лица своего механика, а оно с каждым днем становилось все враждебнее. В воскресенье, на которое назначены были выборы, рано утром — Дидерих еще не вставал, — в спальню вошел Наполеон Фишер. Даже не подумав извиниться, он начал:
— Ваша политика, господин доктор, двулична. Вы дали нам обещания, и мы, по своей лояльности, не вели агитации против вас, а только против свободомыслящих.
— И мы тоже, — сказал Дидерих.
— Этому вы и сами не верите. Вы снюхались с Гейтейфелем. Он уже обещал вам поддержать ваш памятник. Если вы не перейдете к нему с развернутыми знаменами сейчас, то сделаете это на перебаллотировке — нагло предадите народ. — Наполеон Фишер, скрестив руки на груди, широко шагнул к постели. — Я хотел бы только, господин доктор, чтобы вы помнили: у нас глаза открыты.
В постели Дидерих чувствовал себя беспомощным, выданным на милость своего политического противника. Он попытался его утихомирить.
— Я знаю, Фишер, вы большой политик. Таким политикам место в рейхстаге.
— Правильно. — Фишер метнул в него взгляд исподлобья. — Могу вас уверить, что если я не попаду в рейхстаг, то на многих предприятиях вспыхнет забастовка, и одно из этих предприятий вам очень хорошо знакомо, господин доктор. — Он пошел к двери. С порога он еще раз пристально посмотрел на Дидериха, который от испуга с головой зарылся в перины и подушки. — А посему да здравствует интернациональная социал-демократия! — выкрикнул он и вышел.
— Да здравствует его величество кайзер, ура! — крикнул из-под горы перин Дидерих. Однако ему ничего другого не оставалось, как трезво взглянуть в лицо действительности. Оно было достаточно грозным.
Томимый тяжелыми предчувствиями, он поспешил в город, зашел в ферейн воинов, зашел к Клапшу, и повсюду он видел, что, пока он сидел дома и малодушествовал, коварная тактика старика Бука ознаменовалась новыми успехами. Партия кайзера разбавилась пополнением из рядов свободомыслящих, а соперничество между Кунце и Гейтейфелем было ничто по сравнению с пропастью, разверзшейся между ним, Дидерихом, и Наполеоном Фишером. Пастор Циллих, обменявшийся со своим шурином Гейтейфелем стыдливым приветствием, уверял, что, если даже победит кандидат свободомыслящих, партия кайзера может быть довольна своим успехом, ибо она изрядно укрепила в этом кандидате националистический образ мыслей. Так как Кюнхен высказался в том же духе, то невольно возникало подозрение, что они не удовлетворились вырванными у Вулкова и у него, Дидериха, обещаниями, и Буку удалось посулами личных выгод заставить их плясать под его дудку. От демократической клики с ее системой подкупов всего можно ждать! Что касается Кунце, то он при любых условиях хотел пройти на выборах, на худой конец с помощью свободомыслящих. Он был так отравлен ядом честолюбия, что даже обещал отстоять постройку приюта для грудных младенцев! Дидерих вскипел: Гейтейфель во сто раз опаснее любого пролетария; он намекнул Кунце на плачевные последствия, которыми чреват столь непатриотический образ действий. К сожалению, Дидериху нельзя было высказаться яснее, и, с картиной стачки перед глазами, с руинами памятника, Гаузенфельда и всего, о чем он мечтал — в сердце, носился он под дождем от одного избирательного участка к другому и волоком волок к урнам благонамеренных избирателей, отдавая себе полный отчет в том, что их верность кайзеру бьет мимо цели и играет на руку его злейшим врагам. Вечером, с ног до головы забрызганный уличной грязью, доведенный до лихорадочного одурения сутолокой этого длинного дня, бесчисленными кружками пива и ожиданием развязки, он, сидя у Клапша, узнал результаты: за Гейтейфеля подано около восьми тысяч голосов, шесть тысяч с небольшим за Наполеона Фишера, Кунце же получил три тысячи шестьсот семьдесят два голоса. Перебаллотировка между Гейтейфелем и Фишером.
— Ура! — закричал Дидерих, ибо ничего не было потеряно, а время выиграно.
Твердым шагом вышел он из пивной, клянясь в душе отныне и впредь сделать все возможное, чтобы еще спасти дело националистов. Он торопился, ибо пастор Циллих готов был немедленно покрыть все стены листками, в которых сторонники партии кайзера призывались на перебаллотировке голосовать за Гейтейфеля. Кунце, конечно, предавался честолюбивой надежде, что Гейтейфель ему в угоду снимет свою кандидатуру. Какое ослепление! Уже на следующее утро все читали на белых листовках свободомыслящих ханжеское заявление, будто и они настроены националистически, будто националистический образ мыслей не является привилегией меньшинства, а поэтому… Трюк старика Бука полностью раскрылся; надо действовать, не то вся партия кайзера целиком вернется в лоно свободомыслящих! Возвращаясь домой после разведки, весь напружиненный бьющей через край энергией, Дидерих встретил в подъезде Эмми. Опустив на лицо вуаль, она шла с таким видом, точно ей все на свете безразлично. «Нет, благодарю покорно, — подумал Дидерих, — мне отнюдь не безразлично. Куда это приведет?» И он поздоровался с Эмми как-то воровато и робко.
Он уединился в конторе, где Зетбира уже не было. Дидерих, теперь сам управляющий своей фабрикой, обязанный ответом только господу богу, принимал здесь важные решения. Он вызвал по телефону Гаузенфельд. В эту минуту открылась дверь, почтальон положил на стол пачку корреспонденции, и Дидерих прочел на лежащем сверху конверте «Гаузенфельд». Он повесил трубку и, качая головой, суровый, как судьба, уставился на письмо. Все в порядке. Старик без слов понял, что не следует больше поддерживать деньгами своих друзей — Бука и его сообщников, а то, чего доброго, его еще привлекут к ответственности. Спокойно надорвал Дидерих конверт, но с первых же строк жадно впился в письмо. Какой сюрприз! Клюзинг решил продать фабрику! Он стар и видит в Дидерихе своего единственного преемника!
Что это значит? Он уселся в уголок и глубоко задумался. Прежде всего, то, что Вулков уже действует. Старик давно был в отчаянной тревоге за правительственные заказы, а стачка, которой угрожал Наполеон Фишер, переполнила чашу. Безвозвратно ушло то время, когда он мог рассчитывать выбраться из тисков, предложив Дидериху часть поставок для «Нетцигского листка». Теперь он предлагает весь Гаузенфельд. «Вот что значит власть!» — заключил Дидерих и мигом смекнул, что предложение Клюзинга купить фабрику за ее настоящую цену попросту смехотворно. И он в самом деле громко рассмеялся… Вдруг Дидерих увидел ниже подписи приписку, сделанную более мелким почерком и настолько незаметную, что поначалу он проглядел ее. Когда он прочел, рот у него сам собой раскрылся. Внезапно он подпрыгнул.
— Ну вот! — ликующе крикнул он на всю контору, в которой никого, кроме него, не было. — Теперь они у нас в руках! — И вслед за тем почти мрачно произнес — Ужасно! Бездна!
Слово за слово он еще раз перечел фатальную приписку, положил письмо в сейф и решительным движением повернул ключ в замке. Теперь там дремлет яд, который убьет Бука со всей его кликой, и яд этот доставлен его же, Бука, другом. Клюзинг не только отказался снабжать их деньгами, но еще и предал их. И поделом; такая растленность, по-видимому, даже Клюзинга отталкивает. Кто вздумает щадить их, тот становится их соучастником. Дидерих прикинул свои возможности. «Пощада в этом случае была бы настоящим преступлением. Каждый за себя. Надо действовать твердо и решительно. Вскрыть язву и все вымести железной метлой. Я беру это на себя во имя общественного блага, так повелевает долг, долг истинного немца. Что поделаешь — суровые времена!»
В тот же вечер в огромном зале «Валгалла» состоялось многолюдное открытое собрание, созванное избирательным комитетом свободомыслящих. При деятельном содействии Готлиба Горнунга Дидерих принял меры, чтобы сторонники Гейтейфеля ни в коем случае не стали хозяевами положения. Сам он счел излишним явиться к началу, к программной речи кандидата, и пришел с таким расчетом, чтобы попасть уже на прения. Сразу же в фойе он натолкнулся на Кунце, взбешенного до последней степени.
— Отставной солдафон! — крикнул Кунце. — Да вы взгляните на меня, сударь, и скажите, похож я на человека, который должен покорно выслушивать такие вещи?
От волнения он захлебнулся, и Кюнхен пришел ему на помощь.
— Пусть бы мне Гейтейфель сказал нечто подобное! — визжал он. — Он бы узнал, кто такой Кюнхен!
Дидерих посоветовал майору немедленно подать в суд на Гейтейфеля. Но Кунце не приходилось пришпоривать; он грозился попросту изничтожить Гейтейфеля. Дидериху и это было на руку, он горячо поддакнул, когда Кунце объявил, что если дело так обстоит, то он предпочитает блокироваться с самыми отъявленными бунтовщиками, только не со свободомыслящими. Кюнхен и подошедший пастор Циллих нашли нужным возразить ему. Враги империи идут вместе с партией кайзера! «Продажные трусы» — говорил взгляд Дидериха. Майор не успокаивался, он так и дышал местью. Кровавыми слезами заплачет у него вся эта шайка!
— И не позже как нынче вечером! — пообещал Дидерих с такой железной убежденностью, что друзья застыли в изумлении. Дидерих сделал паузу и, сверкая очами, заглянул каждому в глаза: — Что бы вы сказали, господин пастор, если бы я публично уличил ваших друзей из свободомыслящих в некоторых махинациях?
Пастор Циллих побледнел. Дидерих обратился к Кюнхену.
— Мошеннические трюки с общественными деньгами.
Кюнхен подскочил.
— Умереть можно! — воскликнул он в испуге.
— Дайте мне прижать вас к сердцу! — взревел Кунце и заключил Дидериха в объятия. — Я простой солдат, — уверял он. — Пусть оболочка груба, но ядро — чистое золото. Докажите, что эти канальи занимаются мошенническими проделками, и майор Кунце друг вам, как если бы мы плечом к плечу сражались под Марс-ла-Тур{26}!
На глазах у майора блестели слезы, у Дидериха — тоже. Но и в зале настроение было не менее приподнятым. В сизом от табачного дыма воздухе мелькали поднятые кулаки, тут и там из чьей-нибудь груди вырывались возгласы: «Безобразие!», «Правильно!», «Подлость!» Предвыборная борьба была в разгаре. Дидерих бросился в самую гущу ее с бешеным ожесточением, ибо, как вы думаете, кто стоял впереди президиума, возглавляемого самим стариком Буком, и держал речь? Зетбир, уволенный Дидерихом управляющий! Он, конечно, мстит Дидериху, и его речь сплошное подстрекательство. В самом сокрушительном тоне он доказывал, что доброжелательное отношение некоторых работодателей к подчиненным всего лишь демагогический прием: его цель — расколоть буржуазию и толкнуть часть избирателей в лагерь крамольников. Раньше эти же хозяева говорили: «Рожденный рабом рабом останется».
— Безобразие! — кричали организованные рабочие.
Дидерих, расталкивая толпу, прорывался вперед, пока не очутился у самой трибуны.
— Низкая клевета! — бросил он в лицо Зетбиру. — Стыдитесь! Как только я вас уволил, вы примкнули к злопыхателям!
Ферейн воинов, предводительствуемый Кунце, заорал дружным хором:
— Подлость! Безобразие!
Организованные рабочие подняли свист, Зетбир показывал дрожащий кулак Дидериху, а тот грозил засадить его в тюрьму. Тут поднялся старик Бук и зазвонил в колокольчик.
Когда шум улегся настолько, что можно было говорить, он начал мягким голосом, который постепенно окреп и потеплел:
— Сограждане! Не давайте пищу честолюбию отдельных личностей, не принимайте его всерьез! Что значат здесь отдельные личности? И даже классы? Речь идет о народе, а народ — это все мы, за исключением правителей. Нам — бюргерам — необходимо сомкнуть ряды и не повторять снова и снова ошибки, которая уже была совершена в пору моей юности: не будем обращаться к помощи штыков, всякий раз как рабочие требуют признания своих прав. Ведь оттого, что мы никогда не хотели признать права рабочих, правители забрали такую власть, что и нас лишили прав!
— Правильно!
— Теперь, когда правители требуют увеличения армии, народу, всем нам остается, быть может, последняя возможность отстоять свою свободу. Ведь нас вооружают только для того, чтобы поработить. Рожденный рабом рабом останется — это говорят не только вам, рабочим, это говорят всем нам правители, чья власть с каждым днем обходится нам все дороже и дороже!
— Правильно! Браво! Ни одного солдата, ни одного гроша!
Под гул одобрительных возгласов старик Бук сел. Дидерих, готовый дать решительный бой и уже заранее обливаясь потом, еще раз обшарил взглядом зал и нашел Готлиба Горнунга, который дирижировал поставщиками материалов для памятника кайзеру Вильгельму. Пастор Циллих расхаживал по рядам среди христианских отроков, члены ферейна воинов сосредоточились вокруг Кунце, и Дидерих выхватил меч из ножен.
— Исконный враг снова поднимает голову! — крикнул он, презрев смерть. — Мы называем изменником фатерланда всякого, кто отказывает нашему несравненному кайзеру в…
— У-у! У-у! — загудели изменники фатерланда, но Дидерих, под залпы рукоплесканий благонамеренных, продолжал кричать, хотя голос у него то и дело срывался:
— Один французский генерал потребовал реванша!
Кто-то из сидящих в президиуме спросил:
— А большой куш он получил из Берлина?
Раздался смех. Дидерих судорожно бил руками в воздухе, точно хотел подняться и полететь.
— Сверкающие стены штыков! Кровь и железо! Воинственные идеалы! Сильная монархия!..
Трескучие фразы бряцали, ударяясь одна о другую, под исступленный рев благонамеренных.
— Твердая власть! Оплот против трясины демократии!
— Вулков, вот ваш оплот! — крикнул тот же голос из президиума.
Дидерих быстро оглянулся, он узнал Гейтейфеля.
— Вы хотите сказать, что правительство его величества…
— Тоже оплот! — сказал Гейтейфель.
Дидерих, тыча в него пальцем, крикнул в крайней ажитации:
— Вы оскорбили кайзера!
— Провокатор! — взвизгнул за его спиной Наполеон Фишер, ибо это был он. Его товарищи осипшими голосами подхватили:
— Провокатор! Провокатор! — Они вскочили и грозным кольцом обступили Дидериха. — Опять он за старое! Ему хочется еще одного посадить за решетку! Вон!
И Дидериха схватили за шиворот. С перекошенным от ужаса лицом он ворочал шеей, зажатой мозолистыми руками, и сдавленным голосом молил председателя о помощи. Старик Бук пришел на помощь, он усиленно звонил в колокольчик и даже послал несколько молодых людей на выручку Дидериху. Как только Дидериха отпустили, он поднял руку и обличительным перстом указал на старика Бука.
— Продажность демократов! — кричал он, приплясывая от азарта. — Я докажу!
— Браво! Дать слово! — И лагерь националистов бросился в бой, опрокидывая столы и испепеляя взглядами противника. Казалось, вот-вот начнется рукопашная: полицейский офицер, дежуривший на сцене, уже взялся за каску; момент был критический… И вдруг со сцены раздался повелительный голос:
— Тише! Пусть говорит!
Наступила почти полная тишина. В этом голосе чувствовалась такая сила гнева, что все присмирели. Старик Бук, выпрямившись во весь рост за столом президиума, уже не был прежним почтенным старцем, он словно стал стройнее от переполнявшей его энергии, он был бледен от ненависти, он метнул в Дидериха взгляд — вчуже дух захватывало!
— Пусть говорит! — повторил старик. — И предателям дают слово, прежде чем вынести приговор. Перед вами образец предателя нации. Он лишь внешне изменился с той поры, как мое поколение боролось, потерпело крах, ушло в тюрьмы и на виселицы…
— Ха-ха-ха! — сардонически захохотал Готлиб Горнунг, преисполненный сознанием своего превосходства. На беду, поблизости от него сидел широкоплечий рабочий, он так грозно взмахнул кулаком, что Горнунг, прежде чем удар попал в цель, вместе со стулом полетел вверх тормашками.
— Уже в те времена, — продолжал старик, — были люди, предпочитающие личную выгоду чести, люди, которым никакая тирания не унизительна, если она обогащает. Рабское вожделение к материальным благам — плод и орудие всякого тиранического господства, вот что нас тогда погубило, и вам, сограждане… — Старик широко раскинул руки, он напрягал последние силы для рвавшегося из его груди крика души. — И вам, сограждане, тоже грозит опасность впасть в рабскую зависимость от его предательской власти и сделаться его добычей. Пусть этот человек говорит…
— Нет!
— …Пусть говорит. Но затем спросите у него, сколько он потребовал чистоганом за убеждения, которые имеет наглость называть националистическими? Спросите, кому он продал свой дом, с какой целью и с каким барышом?
— Вулкову!
Это было сказано на сцене, но зал услышал. Дидерих, подталкиваемый безжалостными кулаками, не совсем по своей воле добрался до ступенек, ведущих на сцену. Поднявшись, он огляделся в поисках помощи: старик Бук сидел неподвижно, положив на колено сжатый кулак и не спуская глаз с Дидериха; Гейтейфель, Кон и остальные члены президиума с холодной кровожадностью на лицах ждали его провала, а зал кричал ему: «Вулков! Вулков!» Дидерих что-то лепетал насчет поклепа, сердце у него неистово билось, на мгновенье он закрыл глаза в надежде, что упадет без сознания и тем все кончится. Но сознания он не потерял, и, когда ему ничего другого не оставалось, он вдруг ощутил в себе прилив отчаянной храбрости. Он ощупал нагрудный карман, уверенный в силе своего оружия, смерил воинственным взглядом врага, этого коварного старого Бука, который, наконец, сбросил с себя маску отеческого покровительства и открыто выказал свою ненависть. Дидерих сверкнул на него очами и яростно ткнул ему в ноги кулаком. Затем твердым шагом подошел к рампе.
— Кто хочет заработать? — заорал он в гудящий зал голосом ярмарочного зазывалы, и зал утих как по мановению волшебной палочки. — Каждый может заработать! — с неослабевающей силой продолжал он орать. — Всем, кто сумеет доказать, сколько я заработал на продаже своего дома, плачу столько же!
Этого, по-видимому, никто не ожидал. Поставщики первые крикнули «браво!», затем их решились поддержать христиане и воины, правда не очень уверенно, ибо крики «Вулков!», сопровождаемые ритмическим постукиванием пивными кружками о столы, возобновились. Дидерих увидел в этом заранее подготовленную обструкцию, направленную не только против него, но и против высшей власти. Он в тревоге оглянулся — полицейский офицер и в самом деле схватился за свою каску. Дидерих сделал ему знак рукой, что справится сам, и проревел:
— Вулков тут ни при чем! Свободомыслящие под приют для грудных младенцев предлагали мне продать дом, настоятельно предлагали, могу поклясться в этом. Я, как националист, с негодованием отклонил гнусное предложение обмануть город и разделить награбленное с некиим бессовестным членом магистрата!
— Вы лжете! — крикнул старик Бук и вне себя от возмущения вскочил на ноги.
Но Дидерих, в сознании своей правоты и высоконравственной миссии, разошелся еще пуще. Он сунул руку в нагрудный карман, вынул оттуда листок и бесстрашно размахивал им перед тысячеголовым драконом, который раскинулся у его ног и обдавал его фонтаном возгласов:
— Лжец! Мошенник!
— Вот доказательство! — ревел он и до тех пор размахивал листком, пока его не услышали.
— Со мной сделка не удалась, зато в Гаузенфельде им посчастливилось. Да-да, соотечественники! В Гаузенфельде!.. Каким образом? А вот каким. Двое господ из партии свободомыслящих явились к владельцу с просьбой заключить с ними запродажную на известный участок, на тот случай, если приют решено будет строить там.
— Имена! Имена!
Дидерих бил себя в грудь, готовый на любой шаг. Клюзинг открыл ему все, кроме имен. Горящими глазами обвел он членов президиума. Ему показалось, что один из них побледнел. «Кто не рискует — тот не выигрывает», — подумал он и заревел:
— Один из них магазиновладелец господин Кон!
И с миной человека, выполнившего свой долг, он сбежал со ступенек и попал прямо в объятия Кунце, и тот самозабвенно расцеловал его в обе щеки под рукоплескания благонамеренных. Остальные кричали — кто: «Доказательства!», кто: «Ложь!» — но все единодушно требовали: «Дать слово Кону!», и Кон уже никак не мог уклониться от выступления. Старик Бук, у которого заметно подрагивали щеки, пристально посмотрел на него; не дожидаясь просьбы с его стороны, он предоставил ему слово. Кон, подталкиваемый Гейтейфелем, не очень уверенно вышел из-за длинного стола президиума; он словно с трудом волочил ноги и произвел неблагоприятное впечатление еще до того, как заговорил. Он виновато улыбнулся.
— Милостивые государи, вы, разумеется, не поверили тому, что оказал предыдущий оратор, — начал он так тихо, что почти никто не разобрал его слов. И все-таки Кону показалось, что он слишком резок. — Мне не хотелось бы, — продолжал он, — прямо уличить предыдущего оратора во лжи, но все же дело было не совсем так.
— Ага, он не отрицает! — И тут разразилась такая буря, что Кон от неожиданности отскочил назад. Зал бурлил, в воздухе мелькали кулаки. То здесь, то там между противниками завязывались драки. Кюнхен носился между рядов, волосы его развевались.
— Ура! — кричал он, потрясал кулаками и подстрекал к побоищу… На сцене также все пришло в движение, кроме полицейского офицера. Старик Бук покинул председательское место и отвернулся от народа, не пожелавшего услышать последний крик его души; стоя в стороне, одинокий, он обратил глаза туда, откуда никто не мог видеть, как из них льются слезы. Гейтейфель возмущенно корил полицейского офицера, а тот, не шелохнувшись на своем стуле, отвечал, что вопрос, когда и как распускать собрание, единолично решает должностное лицо, и нет никакой необходимости делать это именно тогда, когда свободомыслящие зашли в тупик. Выслушав полицейского, Гейтейфель подошел к столу, зазвонил в колокольчик и крикнул:
— Второе имя!
На сцене все хором подхватили этот возглас и повторяли его до тех пор, пока зал не услышал и Гейтейфель смог продолжать.
— Второй был член суда Кюлеман! Совершенно точно. Кюлеман собственной персоной. Тот самый Кюлеман, на средства которого предполагается построить приют для грудных младенцев. Кто осмелится утверждать, что Кюлеман расхищает оставляемое им наследство? Вот то-то оно и есть! — И Гейтейфель пожал плечами.
В зале раздался одобрительный смех. Но ненадолго: страсти вспыхнули снова.
— Доказательства! Пусть Кюлеман сам выступит! Воры!
Гейтейфель пояснил, что Кюлеман тяжело болен. За ним пошлют, ему уже звонят по телефону.
— Беда! — шепнул Дидериху Кунце. — Если второй был Кюлеман, то нам крышка, можем петь себе отходную.
— Слишком рано! — с безумной храбростью воскликнул Дидерих.
Пастор Циллих возложил все надежды на перст божий. Дидерих в порыве отчаянной отваги сказал:
— Очень он нам нужен!
Доказывая и убеждая, он набросился на какого-то скептика, позволившего себе усомниться в успешном исходе борьбы. Благонамеренных он подбивал занять решительную позицию и даже пожимал руки социал-демократам, стараясь раздуть их ненависть к буржуазной коррупции, и повсюду размахивал письмом Клюзинга. Он так энергично хлопал рукой по бумаге, что никто ничего не успевал прочесть, он кричал:
— Разве здесь написано Кюлеман? Здесь сказано Бук! Если у Кюлемана еще не отнялся язык, он должен будет признать, что духу его в Гаузенфельде не было. В Гаузенфельд приезжал Бук!
При этом он не забывал следить за тем, что делается на сцене, а там стало вдруг удивительно тихо. Члены президиума носились взад и вперед, но разговаривали шепотом. Старика Бука нигде не было видно. «Что случилось?» В зале тоже стало тише, неизвестно почему. Внезапно разнесся слух: «Говорят, Кюлеман скончался». Дидерих не столько услышал, сколько нюхом учуял это. Он вдруг примолк и перестал надсаживаться. Все в нем напряглось, его лицо непроизвольно сводило гримасой. Если к нему обращались с вопросом, он не отвечал, он слышал вокруг себя какой-то бессмысленный хаос звуков и лишь смутно представлял себе, где находится. Но вот подошел Готлиб Горнунг и сказал:
— Кюлеман как будто действительно скончался. Я был наверху, когда телефонировали к нему на квартиру. В эту минуту он испустил дух.
— И очень кстати, — сказал Дидерих; он удивленно осмотрелся вокруг, словно только что проснувшись.
— Это перст божий, — заявил пастор Циллих, а Дидерих сказал себе, что перст этот иногда, право же, бывает очень полезен. Что было бы, если бы сей перст направил судьбу по иному пути?.. Враждующие партии смешались; в политику вторглась смерть, и члены партий стали просто людьми, все говорили вполголоса и покидали зал. Только выйдя на улицу, Дидерих узнал, что со стариком Буком случился обморок.
«Нетцигский листок» сообщил о «трагическом финале предвыборного собрания», а в заключение напечатал почетный некролог, посвященный памяти «высокочтимого гражданина Кюлемана». Перед читателем предстал ничем не запятнанный образ покойного, хотя и произошли события, требовавшие разъяснения… Между Дидерихом и Наполеоном Фишером состоялась встреча с глазу на глаз. Уже в самый канун перебаллотировки «партия кайзера» созвала еще одно собрание, на котором не возбранялось присутствовать и противникам. В своем пламенном выступлении Дидерих громил продажных демократов и их нетцигского главаря; назвать его имя — долг каждого верного монархиста… но он все же предпочел его не называть.
— Ибо, милостивые государи, в сердце моем горит огонь высокого стремления сослужить службу нашему несравненному кайзеру, разоблачить его опаснейшего врага и доказать, что этот враг тоже только о том и помышляет, что о наживе. — И тут у него вдруг блеснула одна мысль, быть может просто воспоминание, он и сам не знал. — Его величество изрек однажды прекрасные слова: «Все мои африканские колонии отдам за приказ об аресте Эйгена Рихтера». Я же, милостивые государи, отдаю в руки его величества ближайших друзей Рихтера. — Выждав, пока затихнет гром рукоплесканий, он продолжал, несколько понизив голос: — А кроме того, милостивые государи, у меня есть особые основания полагать, чего ждут от партии кайзера в высоких, в чрезвычайно высоких сферах. — Он нащупал нагрудный карман, словно и на этот раз в нем лежало неопровержимое доказательство, и, набрав полную грудь воздуха, вдруг рявкнул: — Тот не верноподданный, кто после всего вздумает подать голос за свободомыслящих!
Собрание одобрительно загудело, и тогда Наполеон Фишер, присутствовавший в зале, попытался указать на неизбежные последствия такой позиции. Дидерих немедленно прервал его:
— Националисты скрепя сердце выполнят свой долг и изберут меньшее зло… Но я первый ни в какие сделки с антимонархистами вступать не намерен. — И он до тех пор стучал кулаком по кафедре, пока Наполеон Фишер не стушевался.
Утром в день перебаллотировки, как бы в подтверждение искренности Дидериха, в социал-демократической газете «Глас народа» было напечатано, наряду с ироническими выпадами против самого Дидериха, все, что он сказал о старике Буке, причем назывались имена.
— Геслингу крышка, — говорили одни избиратели. — Теперь Бук подаст на него в суд.
— Буку крышка, — отвечали другие. — Геслингу слишком многое известно.
Свободомыслящие, кто еще сохранил голову на плечах, тоже пришли к заключению, что теперь опасно лезть на рожон. Если националисты, с которыми, видно, шутить сейчас не приходится, считают, что следует голосовать за социал-демократов, то… А пройдет социал-демократ на выборах, значит хорошо, что ты голосовал за него, иначе рабочие еще подвергнут тебя бойкоту.
Развязка наступила в три часа дня. На Кайзер-Вильгельмштрассе прозвучал сигнал тревоги. Все бросились к окнам, к дверям магазинов: где горит? Посреди улицы, в полной военной форме, маршировали члены ферейна воинов. Знамя ферейна указывало им дорогу чести. Кюнхен, исполнявший роль командира, в лихо заломленной на затылок островерхой каске грозно размахивал шпагой, Дидерих, идя в строю, печатал шаг, в радостной уверенности, что все дальнейшее свершится под команду, автоматически, что нужно лишь печатать шаг и идти строем, и тогда под мерной поступью власти от Бука останется мокрое место!.. На другом конце улицы к ферейну воинов примкнула новая колонна под своим знаменем; ее встретили гордым «ура» и громом оркестра. Объединенная колонна, хвост которой терялся в необозримой дали — так велико было действие верноподданнической агитации, — достигла, наконец, пивной Клапша. Здесь она разбилась на отряды, и Кюнхен скомандовал:
— К урнам!
Члены избирательного комитета в полном составе, с пастором Циллихом во главе, все в праздничных костюмах, встречали избирателей уже в коридоре. Кюнхен испустил боевой клич: «Вперед, камрады, на выборы! Голосуем за Фишера!» — и под оглушительный рев оркестра отделился от правого фланга и направился в зал, где происходили выборы. За ферейном воинов последовала вся колонна. Клапш, не рассчитывавший на такой энтузиазм, быстро исчерпал весь свой запас пива. К концу, когда из дела национализма было выжато все, что возможно, явился бургомистр доктор Шеффельвейс, встреченный криками «ура». Он совершенно открыто взял красный листок, и, опустив его, радостно взволнованный отошел от урны.
— Наконец-то! — сказал он и пожал Дидериху руку. — Сегодня мы повергли в прах дракона.
— Вы, господин бургомистр? — беспощадно возразил Дидерих. — Да вы еще наполовину торчите в его пасти. Смотрите, как бы он, издыхая, не увлек вас за собой!..
Доктор Шеффельвейс побледнел, а тем временем грянуло новое «ура». Вулков!..
Пять тысяч с лишним голосов за Фишера! Гейтейфель, едва собравший три тысячи голосов, был сметен с дороги национализма, и в рейхстаг прошел социал-демократ. «Нетцигский листок» констатировал победу «партии кайзера», ибо ей Нетциг обязан тем, что оплот свободомыслящих пал; этим заявлением Нотгрошен, однако, не вызвал ни особого ликования, ни каких-либо возражений. Исход выборов никого не удивил, все как-то сразу утратили к ним интерес. После шумихи предвыборной кампании надо было подумать о барышах. Памятник кайзеру Вильгельму, вокруг которого еще совсем недавно кипела гражданская война, никого больше не волновал. Старик Кюлеман завещал городу на общественные нужды шестьсот тысяч марок. Что ж, весьма благородно. Памятник кайзеру Вильгельму или приют для грудных младенцев — не все ли равно! Это никого не интересовало, как не интересовало Готлиба Горнунга, пришел ли покупатель за губкой или зубной щеткой. На решающем заседании гласных выяснилось, что социал-демократы стоят за памятник — ну и прекрасно. Кто-то предложил, не откладывая, образовать комитет с регирунгспрезидентом фон Вулковым в качестве почетного председателя. Тут поднялся Гейтейфель, вероятно, раздосадованный понесенным поражением, и выразил сомнение в том, найдет ли господин президент удобным для себя решать вопрос о земельном участке под памятник: ведь фон Вулков имеет некоторое касательство к известной земельной сделке. Присутствовавшие на заседании начали перемигиваться и пересмеиваться; у Дидериха засосало под ложечкой, он ждал скандала. Он ждал молча, не без тайного злорадства: каково-то власти, когда под нее подкапываются? Он и сам не знал, чего ему хочется. Но, так как ничего не последовало, он встал и, строго выпрямившись, без особой горячности выразил протест против подобного предположения, которое он однажды уже имел честь публично опровергнуть… Противная же сторона, наоборот, до сих пор ничем не доказала, что не совершила злоупотреблений, в которых ее обвиняют.
— Могу вас утешить, — ответил Гейтейфель, — вы скоро получите доказательства. Иск уже вчинен.
Его слова вызвали движение среди присутствующих. Эффект, правда, несколько ослабел, когда Гейтейфелю пришлось признаться, что его друг Бук привлек к суду не доктора Геслинга, а только «Глас народа».
«Геслинг слишком много знает», — твердили все, и Дидерих, наряду с почетным председателем фон Вулковым, был избран председателем комитета по сооружению памятника кайзеру Вильгельму. В магистрате все эти решения нашли горячего защитника в лице бургомистра доктора Шеффельвейса и были одобрены. Старик Бук на этом заседании блистал своим отсутствием. Ну, что ж, значит, он сам считает, что дело его не многого стоит. Гейтейфель сказал:
— Очень ему нужно быть свидетелем всех этих безобразий, которые он все равно предотвратить не может.
Но тем самым Гейтейфель только повредил себе. Ведь старик Бук за короткое время потерпел одно за другим два поражения, и можно было наперед сказать, что процесс, затеянный им против «Гласа народа», будет третьим. Показания, которые придется, быть может, давать на суде, каждый уже заранее приноравливал к сложившейся обстановке. Геслинг, говорили те, в ком еще сохранился здравый смысл, зашел, разумеется, слишком далеко. Старик Бук, — все его издавна знают, — не вор и не мошенник. Неосторожный шаг он еще, пожалуй, мог совершить, с него станет, в особенности теперь, когда он платит по долгам брата и сам уже в долгу как в шелку. Не побывал ли он и вправду вместе с Коном у Клюзинга по поводу земельного участка? Выгодное было бы дельце, не выплыви оно на свет божий. И надо же было Кюлеману скончаться в ту самую минуту, когда он мог присягнуть в невиновности друга! Такое невезенье неспроста. Господин Тиц, коммерческий директор «Нетцигского листка», свой человек в Гаузенфельде, недвусмысленно заметил, что вступаться за людей, которые явно сходят со сцены, значит совершать преступление по отношению к самим себе. Он подчеркивал далее, что старик Клюзинг, который мог бы одним словом все разрешить, предпочитает отмалчиваться. Он болел, и только из-за него суд был отложен на неопределенный срок.
Но болезнь не помешала ему продать фабрику. Это была последняя новость, на нее-то и намекал «Нетцигский листок», сообщая о «решающих переменах на крупном, наиболее значительном для хозяйственной жизни Нетцига предприятии». Клюзинг вел переговоры с одной берлинской фирмой. На вопрос, почему Дидерих отстранился от этого дела, он показывал письмо Клюзинга, в котором тот предлагал ему первому купить фабрику.
— И главное, на исключительно выгодных условиях, — прибавил он. — К сожалению, я тесно связан с шурином в Эшвейлере. Возможно, мне придется даже уехать из Нетцига.
Но когда Нотгрошен, опубликовавший его ответ, обратился к нему, как знатоку, за подробностями, Дидерих заявил, что проспект далеко не полностью отражает действительность. Гаузенфельд — золотое дно: он может лишь горячо рекомендовать акции, допущенные к обращению на бирже, и они в самом деле пользовались в Нетциге большим спросом. Насколько суждение Дидериха было объективным и не диктовалось личной заинтересованностью, выяснилось при совершенно особых обстоятельствах, а именно — когда старику Буку понадобились деньги. Да, он докатился до этого! Семья и приверженность к общественным интересам благополучно довели его до такого положения, что даже друзья от него отступились. Тогда на сцену выступил Дидерих. Он дал старику деньги под вторую закладную на его дом на Флейшхауэргрубе.
— Ему, видно, до зарезу нужны были деньги, — неизменно повторял Дидерих, рассказывая об этом. — Уж если он пошел на то, чтобы взять деньги у меня, у своего заклятого политического противника! Кто бы подумал, что он на это способен!
И Дидерих погружался в размышления над переменчивостью судьбы… Он прибавлял, что в случае если дом перейдет к нему, он дорого ему станет. Правда, из своего дома ему вскоре придется выехать. Все это тоже показательно; видно, Дидерих действительно на Гаузенфельд не рассчитывает.
— Но, — пояснял Дидерих, — не под счастливой звездой родился старик, кто знает, чем кончится процесс… И именно потому, что мы с ним политические противники, я хочу показать… Ну, вы сами понимаете.
Его понимали, его поздравляли, восхищаясь его более чем корректным образом действий. Дидерих отмахивался.
— Он обвинил меня в недостатке идеализма, не могу же я снести такой упрек.
От мужественного волнения у него дрожал голос.
У каждого своя судьба; когда видишь, что у некоторых путь усеян терниями, тебе особенно радостно сознавать, что перед тобой-то расстилается гладкая дорожка. Дидерих ясно ощутил это в тот день, когда Наполеон Фишер уезжал в Берлин, чтобы отклонить военный законопроект. «Глас народа» оповестил о массовой демонстрации: вокзал, как передавали, был оцеплен полицией. Долг националиста повелевал отправиться туда. По дороге Дидерих встретил Ядассона. Раскланялись церемонно, соответственно охлаждению, наступившему в их дружбе.
— Вам тоже захотелось взглянуть на этот тарарам? — спросил Дидерих.
— Я решил провести отпуск в Париже. — На Ядассоне и в самом деле был туристский костюм. — Хотя бы уже затем, чтобы не лицезреть всех политических глупостей, которые здесь творятся.
Дидерих счел за благо пропустить мимо ушей раздражительные тирады человека, которому не повезло.
— Носятся слухи, будто вы решились на серьезный шаг.
— Я? О чем это вы?
— Фрейлейн Циллих, правда, уехала к тетке.
— Хороша тетка! — Ядассон ухмыльнулся. — Вздор! И вы этому поверили?
— Мое дело сторона. — Дидерих изобразил на своем лице полное понимание. — Но что значит «хороша тетка»? Куда же девалась Кетхен?
— Сбежала, — сказал Ядассон.
Тут Дидерих все же не мог не остановиться, он громко засопел. Кетхен Циллих сбежала! Как бы он влип!.. Ядассон продолжал тоном светского человека:
— Сбежала, представьте! В Берлин. Доверчивые родители еще ничего не знают. Я на нее не в обиде, ведь должна же когда-нибудь наступить развязка.
— Такая или иная, — сказал Дидерих, овладев собой.
— Лучше такая, чем иная, — уточнил Ядассон, и Дидерих, доверительно понизив голос, продолжал:
— Теперь я могу вам признаться: я всегда думал, что надолго вы эту девушку не удержите.
Но Ядассон запротестовал, его самолюбие было уязвлено:
— Да что вы? Я сам дал ей рекомендацию. Вот увидите, она сделает блестящую карьеру в Берлине.
— Не сомневаюсь. — Дидерих подмигнул. — Мне известны ее достоинства. Вы, конечно, считали меня простачком. — От возражений Ядассона он отмахнулся. — Да, вы считали меня простачком. А я тем временем всласть поохотился в ваших владениях. Теперь я вам могу признаться. — И он поведал Ядассону, который слушал его со все возраставшим беспокойством, о своем приключении с Кетхен в «Приюте любви»… поведал с такими подробностями, каких на самом деле не было. С улыбкой удовлетворенной мести смотрел он на Ядассона, который явно колебался, стоит ли вступаться за свою честь. Он удовольствовался тем, что похлопал Дидериха по плечу, и оба сделали выводы, которые напрашивались сами собой.
— Все, разумеется, только между нами… Такую девушку было бы несправедливо слишком строго судить, откуда же, скажите на милость, черпать пополнение изысканному миру веселья и радости?.. Адрес? Только вам. Теперь по крайней мере как приедешь в Берлин, сразу будешь знать, куда податься.
— В этом была бы даже особая прелесть, — молвил Дидерих, как бы отвечая собственным мыслям; тут Ядассон увидел свой багаж, и они стали прощаться.
— Политика нас разлучила, но на почве чисто человеческого находишь, слава богу, общий язык. Желаю хорошо повеселиться в Париже.
— Какое там веселье… — Ядассон отвернулся, на его лице промелькнуло странное выражение, словно он собирался сыграть с кем-то коварную шутку. Увидев беспокойство в глазах у Дидериха, он сказал удивительно серьезно и спокойно — Через месяц вы сами все увидите. Быть может, правильнее было бы уже теперь подготовить общественность.
Дидерих, помимо воли встревоженный, спросил:
— Что вы затеваете?
И Ядассон с улыбкой человека, решившегося на жертву, ответил:
— Я намерен привести свой внешний облик в соответствие со своими националистическими убеждениями…
Когда Дидерих расшифровал смысл этих слов, он только и мог что отвесить почтительный поклон, но Ядассона уже не было. В отдалении, на перроне, еще раз — в последний раз — вспыхнули его уши, как церковные витражи в лучах заката.
К вокзалу приближалась группа мужчин со знаменем. Несколько полицейских неторопливо сошли с лестницы и выстроились, преграждая им путь. Группа тотчас запела «Интернационал». Но все же ее натиск был с успехом отражен представителями власти. Несколько рабочих, правда, прорвались и окружили своего депутата; длиннорукий Наполеон Фишер чуть ли не по земле волочил свою вышитую дорожную сумку. В буфете подкрепились после всех треволнений, пережитых под июльским солнцем во имя идеи мятежа. Наполеон Фишер, пользуясь тем, что поезд запаздывал, попытался произнести на перроне речь; но полицейский запретил это депутату парламента. Наполеон опустил вышитую сумку на землю и оскалил зубы. Дидерих знал по опыту: он собирается оказать сопротивление власти. Но тут, к счастью, подошел поезд. И только теперь Дидерих обратил внимание на приземистого господина, который отворачивался всякий раз, как кто-либо проходил мимо. Держа в руках большой букет цветов, он вглядывался в приближающийся поезд. Кто же это? Дидериху так знакомы эти плечи… Что за наваждение! Из окна купе выглядывает Юдифь Лауэр, муж помогает ей сойти со ступенек, он протягивает ей букет, и она, со своей задумчивой улыбкой, принимает его. Когда супруги направились к выходу, Дидерих, громко засопев, быстро отошел в сторону. Никакого наваждения нет, попросту срок заключения Лауэра кончился, и он снова на свободе. Опасаться каких-либо неприятностей нет оснований, но, видимо, надо привыкнуть к мысли, что Лауэр уже не за решеткой… И он встречает жену букетом цветов! Разве он ничего не знает? Мог бы и поразмыслить на досуге! А она! Вернулась, как только он отсидел свой срок! Нет, бывают ситуации, которые порядочному человеку и во сне не снятся. Впрочем, вся эта передряга его касается отнюдь не больше, чем любого другого: он лишь выполнил свой долг. «У всякого, вероятно, было бы такое же неприятное ощущение, как у меня. Надо думать, Лауэру, где бы он ни появился, дадут понять, что ему лучше всего отсиживаться дома… Что посеешь, то и пожнешь. Кетхен Циллих помнила это и сделала правильный вывод. Такой же вывод следовало бы сделать и другим, не только Лауэру».
А он, Дидерих, шествует по городу, встречаемый почтительными приветствиями, он самым естественным образом занял место, уготованное его собственными заслугами. В суровые времена он сумел пробиться на такую вершину, что теперь оставалось только пожинать плоды. Люди начали верить в него, да и он сам уже не знал никаких сомнений… Не так давно о Гаузенфельде пошли разные слухи, и акции упали. Откуда стало известно, что округ передал Геслингу заказы, которые прежде выполняла гаузенфельдская фабрика? Дидерих не проронил ни слова, но слух облетел весь город еще до того, как начались увольнения рабочих, о которых так сокрушался «Нетцигский листок». Старику Буку, как председателю наблюдательного совета, пришлось, к сожалению, самому поднять вопрос об увольнениях, что очень и очень ему повредило. Возможно, что округ только из-за Бука так круто обошелся с Гаузенфельдом. Было ошибкой выбирать старика председателем. И вообще лучше бы он долги уплатил из тех денег, которыми Геслинг его так благородно ссудил, а не акции покупал. Дидерих сам, где только мог, высказывал такое мнение.
— Кто бы поверил, что он на это способен! — неизменно прибавлял он в таких случаях и погружался в глубокомысленные размышления о переменчивости судьбы. — Вот наглядный пример, до чего может дойти человек, потерявший почву под ногами.
При этом у каждого держателя гаузенфельдских акций создавалось гнетущее впечатление, что старик Бук увлечет за собой в пропасть и его. Ибо акции падали. Увольнения создали угрозу забастовки — и акции падали все ниже… На сцене вдруг появился человеколюбивый Кинаст, приехавший, как он говорил, отдохнуть в Нетциге. Ни у кого не было охоты признаваться, что он попался на удочку и накупил гаузенфельдских акций. Кинаст всем и каждому сообщал, что многие из его знакомых уже продали свои акции. Да и пора уже, пора. В кафе появился маклер, — он, впрочем, не был знаком с Кинастом, — скупавший акции. Спустя несколько месяцев в газете изо дня в день стало печататься объявление Банкирского дома Занфт и К0. У кого еще есть на руках гаузенфельдские акции, тот может без хлопот сбыть их. К началу осени решительно ни у кого не осталось этих дутых акций. И вдруг распространился слух, будто геслинговское предприятие сливается с гаузенфельдским. Дидерих прикидывался удивленным.
— А что же старик Бук? — спрашивал он. — Как председатель наблюдательного совета, он ведь тоже еще захочет сказать свое слово. Или сам он уже продал свой пакет акций?
— Ему не до того, — отвечали Дидериху, имея в виду предстоящий процесс по иску старика Бука к «Гласу народа», и добавляли: — Он несомненно останется на бобах.
А Дидерих на это чрезвычайно деловито замечал: — Жаль его. Значит, отзаседался старик. В наблюдательные советы ему теперь ходу не будет.
В таком настроении все пришли на слушание дела. Свидетели ничего не могли вспомнить. Клюзинг-де давно говорил о своем намерении продать фабрику. Говорил ли он особо о продаже того самого участка? Упоминал ли старика Бука в качестве посредника? Все это осталось неясным. В кругах городских гласных было известно, что названный участок намечается под приют для грудных младенцев. А Бук был согласен? Во всяком случае, он не возражал. Многим бросалось в глаза, как живо он интересовался этим участком. Сам Клюзинг, который до сих пор все еще хворал, показал на допросе, что его друг Бук до недавнего времени запросто бывал у него, может он и предлагал в случае продажи закрепить за ним данный участок, но Клюзинг в этом никаких низких побуждений отнюдь не усматривал… Истец Бук требовал установить тот факт, что переговоры о продаже земли вел сам покойный Кюлеман: именно Кюлеман — жертвователь денег. Но установить этот факт не удалось; показания Клюзинга и тут не отличались четкостью. То, что Кон подтвердил факт переговоров между Кюлеманом и Клюзингом, не было принято во внимание, ведь Кон заинтересован в том, чтобы представить свой разговор с Клюзингом в самом невинном свете. Таким образом наиболее надежным свидетелем оказался Дидерих; ему Клюзинг писал и вслед за тем имел с ним беседу. Было ли в упомянутой беседе названо чье-либо имя? Дидерих показал:
— Я не старался узнать имена. Это не имело для меня значения. Заявляю, что никогда я не называл публично имени господина Бука, и это подтвердят все свидетели. Я думал лишь о защите интересов города от поползновений отдельных лиц. Политику надо делать чистыми руками, я далек от всякой личной вражды и буду сожалеть, если господин истец не сможет доказать судьям свою полную безупречность.
Слова его были встречены одобрительным гулом. Один Бук отнесся к ним иначе. Он покраснел и вскочил… Дидериху предложили вопрос, что он сам думает об этом деле. Он заговорил, но тут Бук вышел вперед, прямой, точно натянутая струна, в глазах его вспыхнули огоньки, как на том, так трагически окончившемся предвыборном собрании.
— Пусть господин свидетель не затрудняет себя снисходительной оценкой моей личности и моей жизни. Не таким людям, как он, меня судить. Его успехи достигнуты с помощью иных средств, нежели мои, и цель их иная. Мой дом был всегда открыт для всех, в том числе и для свидетеля. Более полувека жизнь моя принадлежит не мне, она отдана служению идее, в мое время владевшей умами, идее справедливости и всеобщего блага. Я обладал состоянием, вступая на арену общественной жизни, а схожу с нее бедняком. И в защите не нуждаюсь.
Он замолчал, лицо его еще долго вздрагивало, но Дидерих только плечами пожал. О каких это успехах толкует старик? Никаких успехов у него давно уже нет, пустые слова, под которые никто не дал бы закладной. Он играет в благородство, уже лежа под колесами, Можно ли настолько не понимать свое положение? «Если уж из нас двоих кому-то смотреть свысока на другого…» И Дидерих сверкнул очами. Он испепелил своим взглядом старика, который напрасно негодовал, — испепелил на этот раз окончательно, вместе со справедливостью и всеобщим благом. Прежде всего — собственное благо, а справедливость на стороне победителя… Дидерих чувствовал, что так думают все. Как видно, почувствовал это и старик, он опустился на скамью, весь сжался, и на лице его появилось выражение стыда. Обращаясь к судьям, он сказал:
— Я не требую для себя никаких исключений, я подчиняюсь приговору моих сограждан.
Вслед за тем Дидерих как ни в чем не бывало продолжал давать показания. Они действительно были весьма деликатны и произвели самое лучшее впечатление. Все нашли, что со времени процесса Лауэра Дидерих заметно изменился к лучшему: в нем появилось спокойствие, порождаемое сознанием собственного превосходства, в чем, разумеется, нет ничего удивительного: ведь он теперь человек обеспеченный, ему везде почет и уважение.
Только что пробило полдень, и по залу прокатился приглушенный гул: из уст в уста передавалась новость, сообщенная «Нетцигским листком»: Геслинг, крупный акционер гаузенфельдского предприятия, в самом деле назначен его директором-распорядителем… Любопытные взоры скользили по Дидериху, останавливались на сидевшем напротив старике Буке, на несчастье которого Геслинг построил свое благополучие. Двадцать тысяч марок, напоследок одолженных Буку, вернулись к Геслингу вдвойне, да он же еще ходит в благодетелях. То, что старик купил на эти деньги именно гаузенфельдские акции, всем показалось презанятной шуткой со стороны Геслинга. Она утешила даже тех, кто сам прогорел на гаузенфельдских. Когда Дидерих выходил из зала, на пути его смолкали все разговоры. Ему кланялись с почтительностью, граничившей с подобострастием. Обманутые отдавали дань успеху.
Со стариком Буком обошлись не так приветливо. Когда председательствующий объявил приговор, публика захлопала… Редактор «Гласа народа» отделался всего лишь пятьюдесятью марками штрафа! Обвинение осталось недоказанным, было признано отсутствие злого умысла у обвиняемого. Истец потерпел полное поражение, говорили юристы, и когда Бук покидал здание суда, даже друзья избегали встречи с ним. Мелкота, потерявшая на гаузенфельдских свои последние сбережения, грозила ему вслед кулаками. После приговора все поняли, что они давно уже составили себе мнение насчет старика Бука. Такое дело, как махинация с участком под приют, и то у него не выгорело! Так выразился Геслинг и был совершенно прав. Но в том-то и суть, что у старика Бука за всю жизнь ни одно дело не выгорело. Подумаешь, чудо: отец города и глава партии сходит со сцены в долгу как в шелку. Незадачливыми дельцами хоть пруд пруди. Но если хромают дела, то хромает и нравственность! Это подтверждается еще и поныне неясной историей обручения его сына, того самого, который теперь подвизается на театральных подмостках. А политическая деятельность Бука! Интернационализм — как знамя, постоянные призывы к жертвам во имя демагогических целей, а с властями — как кошка с собакой, и это опять-таки не могло не отразиться на его делах. Это политика человека, которому нечего терять, который недостаточно обеспечен, чтобы оставаться добропорядочным бюргером. Негодование охватывало людей при мысли, что они доверили свое благополучие авантюристу. Обезвредить его — вот чего все страстно желали. Придется, видно, помочь ему сделать выводы из позорного для него приговора суда, раз сам он их не сделал. Не может быть, чтобы в положении о городских гласных не было статьи, требующей от них достойного поведения как при исполнении служебных обязанностей, так и в личной жизни. Не нарушает ли старик Бук эту статью? Поставить такой вопрос — значит ответить на него утвердительно, заявлял «Нетцигский листок», не называя, разумеется, имен. Дело дошло до того, что этот вопрос был выдвинут советом гласных. И, наконец, за день до начала прений упрямый старик внял голосу благоразумия и сложил с себя звание городского гласного. Теперь и политические единомышленники не могли оставить его во главе партии, не рискуя потерять последних сторонников. Но на этот счет со стариком, видно, не легко было сговориться: единомышленникам пришлось не раз побывать у Бука и в деликатной форме, но все же оказать на него давление, и только тогда в газете появилось его письмо. Интересы демократии для него превыше личных, писал он. Если имя его в силу нынешней и, как ему хочется думать, преходящей игры страстей может нанести вред демократии, он удаляется. «Во имя общего дела я готов нести клеймо, наложенное на меня обманутой народной волей, веря в вечную справедливость народа, который когда-нибудь снимет его с меня».
Слова эти были расценены как ханжество и высокомерие; доброжелатели оправдывали их старческим чудачеством. Впрочем, что он написал и чего не написал — какое значение это могло иметь? Кто он теперь такой? Люди, обязанные ему положением или материальным благополучием, глядя ему прямо в лицо, проходили мимо не поклонившись. Иные смеялись и отпускали вслух замечания на его счет: то были люди, никогда не зависевшие от него, но всячески выражавшие ему свою преданность, пока он был в силе. Вместо старых друзей, которых он теперь никогда не встречал, выходя на свою ежедневную прогулку, у него появились новые, очень странные друзья. Они попадались ему на пути уже в сумерках, когда он возвращался домой: какой-нибудь мелкий коммерсант с глазами загнанного животного, человек, над которым нависла угроза банкротства, или горький пьяница, или одна из неведомых теней, скользящих вечерами вдоль стен домов. Замедляя шаги, эти люди заглядывали ему в лицо то с робкой, то с наглой фамильярностью. Они нерешительно прикасались к шляпе, и тогда старик Бук кивал им в ответ и пожимал протянутую руку, все равно, кто бы ее ни протягивал.
Со временем даже ненависть перестала замечать его. Те, кто раньше умышленно отворачивался, теперь безразлично проходили мимо, а иной раз по старой привычке кивали. Порою отец, гуляющий с юным сыном, задумчиво глядел на старика, а разминувшись с ним, назидательно говорил мальчику:
— Видел этого старого господина? Заметил, как он одиноко бредет и ни на кого не смотрит? Так вот, запомни на всю жизнь, что может сделать с человеком позор.
И отныне мальчик при встрече со стариком Буком ощущал таинственный ужас, точно так же, как представители старшего поколения в свое время при виде Бука испытывали необъяснимую гордость. Среди молодых людей были, правда, и такие, которые не разделяли взглядов большинства. Случалось, что старик выходил из дому в час, когда кончались занятия в школе. Орды подростков заполняли улицу, они почтительно расступались, давая дорогу учителям, и Кюнхен, теперь отчаянный националист, или пастор Циллих, особенно строгий блюститель нравственности со времени несчастья с Кетхен, торопливо удалялись, ни единым взглядом не удостоив падшего. И тогда на улице оставалось несколько юношей, — они как будто не сговаривались друг с другом, и каждый поступал так по собственному побуждению. Лбы у них не были такими плоскими, как у большинства; и в глазах этих юношей загорался свет мысли, едва они поворачивались спиной к Кюнхену и Циллиху и обнажали головы перед старым Буком. Старик невольно замедлял шаг и заглядывал в лица носителям будущего, еще раз исполняясь надеждой, с которой он всю жизнь всматривался в человеческие лица.
У Дидериха не было времени уделять внимание побочным явлениям, сопровождавшим его головокружительную карьеру. «Нетцигский листок», теперь в любой момент готовый услужить ему, сообщал, будто господин Бук, раньше чем сложить с себя обязанности председателя наблюдательного совета, сам высказался за назначение господина доктора Геслинга на пост главного директора. Многим тут почудилось что-то странное. Но газета просила читателей учесть, что Геслинг имеет немалые, совершенно бесспорные заслуги перед обществом. Без господина Геслинга, который, не поднимая шума, приобрел больше половины гаузенфельдских акций, они продолжали бы падать. И не одна семья в Нетциге обязана доктору Геслингу своим спасением от ждавшей ее катастрофы. Энергичными действиями нового директора забастовку удалось предупредить. Его националистический и монархический образ мыслей — залог того, что солнце монаршей милости, взошедшее над Гаузенфельдом, никогда не закатится. Короче говоря, для хозяйственной жизни Нетцига, и для бумажной промышленности в особенности, открывается блестящая пора расцвета. Об этом свидетельствует тот факт, что слухи о слиянии геслингского предприятия с гаузенфельдским, как стало известно из достоверных источников, соответствуют действительности. Нотгрошен точно знал, что доктор Геслинг только при этом условии согласился взять на себя руководство гаузенфельдским предприятием.
В самом деле, Дидерих прежде всего поспешил увеличить акционерный капитал. На этот новый капитал была приобретена геслингская фабрика. Дидерих блестяще провел дело. Первая операция нового директора увенчалась успехом, наблюдательный совет состоял из покорных ему людей, он был хозяином положения и мог приступить к организации внутреннего распорядка на новом предприятии, диктуя свою суверенную волю. В один из первых же дней он собрал всех рабочих и служащих:
— Некоторые из вас знают меня по геслингской фабрике. Ну, а остальные познакомятся со мной теперь! Кто хочет помогать мне, добро пожаловать, крамолы же я у себя не потерплю! Каких-нибудь два года назад я сказал это горсточке рабочих, а теперь смотрите, сколько вашего брата у меня под началом! Можете гордиться таким хозяином! Будьте покойны, уж я позабочусь о том, чтобы пробудить в вас националистические чувства и превратить всех вас в стойких приверженцев существующего строя.
И он обещал им квартиры, пособия по болезни, дешевые продукты питания.
— Но никаких социалистических происков я не потерплю!.. Отныне всякий, кто вздумает голосовать не за того кандидата, за которого буду голосовать я, немедленно вылетит вон.
Безбожию, сказал Дидерих, он объявляет столь же беспощадную войну: он будет каждое воскресенье проверять, кто был в церкви, кто нет.
— Пока мир коснеет в первородном грехе, неизбежны войны и ненависть, зависть и распря. А поэтому: единая воля господина священна.
Чтобы внедрить в жизнь сей высший принцип, на стенах всех помещений фабрики были выведены надписи: «Вход воспрещается», «Пользоваться противопожарными ведрами воспрещается», «Проносить бутылки с пивом воспрещается» — последнее правило соблюдалось особенно строго потому, что Дидерих не преминул заключить с одним пивоваренным заводом договор, обеспечивавший ему известный процент с потребления пива его рабочими и служащими… Есть, спать, курить, приводить детей, «лапаться, балагурить, заводить шашни, вообще всякий разврат строго воспрещается!» В домах для рабочих, еще до того как их построили, существовал запрет брать на воспитание приемышей. Чету, ухитрившуюся при Клюзинге десять лет скрывать незаконное сожительство, Дидерих торжественно уволил. Этот случай послужил ему предлогом применить новое средство для поднятия нравственности в народе. Он распорядился снабдить известные места изготовленной в самом Гаузенфельде бумагой, употребляя которую, нельзя было не ознакомиться с напечатанными на ней моральными или политическими сентенциями. Иногда он слышал, как рабочие повторяют в разговоре между собой принадлежащее августейшей особе изречение, усвоенное ими таким путем, или запевают патриотические песни, слова которых им запомнились при тех же обстоятельствах. Окрыленный успехом, Дидерих пустил свое изобретение в торговый оборот. Оно появилось на рынке под маркой «Мировая держава» и, как гласила широковещательная реклама, победно распространяло во всем мире немецкий дух, опирающийся на немецкую технику.
Но устранить все поводы для столкновений между хозяевами и рабочими не могли даже эти назидательные бумажки. Однажды Дидерих вынужден был заявить, что из страховых сумм он оплачивает лишь лечение зубов, но не протезирование полости рта. Один рабочий заказал себе целую челюсть! Так как Дидерих ссылался на свой приказ, изданный, правда, задним числом, рабочий подал в суд и, как ни фантастично, выиграл процесс. Это подорвало его веру в существующий строй, он стал смутьяном, нравственно опустился и при других обстоятельствах обязательно был бы уволен. Но Дидерих не мог решиться бросить на ветер челюсть, которая так дорого ему обошлась, и оставил у себя рабочего… Вся эта история не могла не подействовать на рабочих разлагающе, и Дидерих не закрывал на это глаза. А тут еще подоспели опасные политические события, усугубившие тлетворные влияния. После того как во вновь открытом рейхстаге во время провозглашения «ура» кайзеру многие социал-демократические депутаты остались сидеть, уже не приходилось сомневаться в необходимости законопроекта против крамолы. Дидерих обрабатывал в его пользу общественное мнение; рабочим он разъяснил своевременность законопроекта в речи, выслушанной ими в сумрачном молчании. Большинство рейхстага не постыдилось отвергнуть законопроект, и результаты не замедлили сказаться: какой-то предприниматель был убит!.. Убит! Предприниматель! Убийца утверждал, что он не социал-демократ, но чего стоят подобные уверения, Дидерих знал по собственным рабочим; убитый, по слухам, хорошо относился к рабочим, но цену этим слухам Дидерих знал по себе. Отныне он по нескольку дней, а то и месяцев не мог открыть без страха ни одной двери, за каждой ему чудился нацеленный на него нож. В конторе он завел самострелы и каждый вечер вместе с Густой ползал по спальне, заглядывая во все углы. Его телеграммы кайзеру, посылались ли они от имени совета гласных или президиума «партии кайзера», от имени союза предпринимателей или ферейна воинов, — словом, все телеграммы, которыми Дидерих засыпал высочайшую особу, были сплошным воплем, мольбой о защите от раздуваемого социалистами пожара революции, поглотившего еще одну жертву; об освобождении от этой чумы, о срочном издании чрезвычайных законов, о защите авторитета и охране собственности военной силой, о тюремном заключении для забастовщиков, мешающих штрейкбрехерам работать… «Нетцигский листок», воспроизводя все это слово в слово на своих страницах, никогда не забывал напомнить о необычайных заслугах главного директора доктора Геслинга в деле сохранения гражданского мира и обеспечения рабочих. Каждый вновь отстроенный дом для рабочих немедленно фотографировался, и Нотгрошен помещал снимок в газете в сильно приукрашенном виде, вместе с восторженной статьей. Пусть другие работодатели, о влиянии которых в Нетциге теперь, слава богу, не приходится говорить, разжигают мятежные настроения среди, своих рабочих, привлекая их к участию в прибылях! Принципы, провозглашаемые главным директором доктором Геслингом, способствуют установлению между работодателями и рабочими наилучших отношений из всех мыслимых, какие его величество кайзер желал бы видеть повсеместно в немецкой промышленности. Энергичный отпор несправедливым требованиям рабочих, а также объединение работодателей входят, как известно, в социальную программу кайзера, и к чести главного директора Геслинга надо сказать, что он принадлежит к числу тех, кто эту программу выполняет. Засим следовал портрет Дидериха.
Такое признание поощряло к еще более ревностному развертыванию своей деятельности, несмотря на разрушительное действие греха, в котором закоснел мир, не только в деловой сфере, но и в семейном кругу. Здесь, к сожалению, семена зависти и раздора сеял Кинаст. Он утверждал, будто без него и без его тайного посредничества при скупке акций Дидерих вовсе не достиг бы такого блестящего положения; Дидерих отвечал, что он вознагражден за это пакетом акций, в соответствии с его капиталом. Шурин не соглашался, больше того, он нагло утверждал, что его бесстыжие претензии законны. Разве он, как супруг Магды, не совладелец старой геслингской фабрики в восьмой доле ее стоимости? Фабрика продана, Дидерих получил за нее наличными и гаузенфельдскими акциями. Кинаст требовал восьмую долю с процентов на капитал и с ежегодного дивиденда привилегированных акций. На подобную неслыханную дерзость Дидерих в самой категорической форме заявил, что ни шурину, ни сестре своей он ничего больше не должен.
— Я обязался выплачивать вам лишь вашу долю с ежегодных доходов моей фабрики. Она продана. Гаузенфельдская фабрика принадлежит не мне, а акционерному обществу. Что же касается капитала, то это мое личное состояние. У вас нет никаких оснований что-либо требовать от меня.
Кинаст назвал это неприкрытым разбоем. Дидерих, вполне убежденный собственными доводами, бросил слово «шантаж». В результате начался судебный процесс.
Тяжба тянулась три года. Она велась с все возрастающим ожесточением, в особенности со стороны Кинаста. Для того чтобы всецело посвятить себя ей, он отказался от службы в Эшвейлере и вместе с Магдой переехал в Нетциг. Главным свидетелем против Дидериха он выставил старика Зетбира, обуреваемого жаждой мести. Тот обещал доказать, что Дидерих и раньше не отдавал своим родственникам причитающиеся им деньги. Кинасту пришло на ум осветить некоторые моменты из прошлого Дидериха с помощью депутата рейхстага Наполеона Фишера, но он так и не добился в этом полного успеха. Правда, Дидерих не раз вынужден был вносить изрядные суммы в партийную кассу социал-демократов. И он был искренен, говоря, что его не так огорчают личные убытки, как урон, нанесенный всем этим делу национализма… Густа, не обладавшая столь широким взглядом на вещи, подливала масла в огонь, руководствуясь чисто женскими мотивами. Она не могла простить Магде, что та родила мальчика, а ее первенцем была девочка. Магда, вначале не проявлявшая особого интереса к денежным делам, руководила военными действиями с того дня, как Эмми выписали из Берлина сногсшибательную шляпу. Магда пришла к заключению, что Дидерих самым возмутительным образом отдает теперь предпочтение Эмми. Эмми имела в Гаузенфельде собственные апартаменты и давала вечера. Выделенные ей Дидерихом суммы на туалеты показывали, как бессовестно он относится к замужней сестре. Она убедилась, что преимущество, которое давало ей замужество, обратилось в свою противоположность, — и обвинила Дидериха в том, что он коварно отделался от нее перед самым своим взлетом. Если Эмми даже теперь не нашла себе мужа, то на это, по-видимому, есть свои особые причины, и о них в Нетциге немало шепчутся. Магда не видела оснований, почему бы ей громко не заговорить о них. Через Ингу Тиц об этом стало известно в Гаузенфельде. Но та же Инга принесла и оружие против клеветницы: она, видите ли, встретила у Кинастов акушерку, а между тем первому ребенку еще не исполнилось и шести месяцев. Последовал ужасающий взрыв страстей, взаимные оскорбления по телефону, угрозы судебной расправой, для которой обе женщины собирали материал, подкупая друг у друга горничных.
Дидерих и Кинаст, руководствуясь мужской рассудительностью, на этот раз предотвратили публичный семейный скандал, но он все же некоторое время спустя разразился. Густа и Дидерих начали получать анонимные письма такого непристойного содержания, что их приходилось скрывать не только от третьих лиц, но даже друг от друга. Помимо всего прочего они были разукрашены рисунками, далеко выходившими за все дозволенные рамки даже реалистического искусства. Регулярно из утра в утро на столе, накрытом к завтраку, лежали безобидные на вид серые конверты, и каждый из супругов быстро прятал адресованное ему письмо, прикидываясь, что не замечает письма, полученного другим. Как и следовало ожидать, пришел день, когда игра в прятки кончилась: у Магды хватило дерзости явиться в Гаузенфельд с пачкой точно таких же писем, якобы полученных ею самой. Это показалось Густе верхом наглости.
— Кому-кому, а тебе, я полагаю, хорошо известно, кто их пишет! — произнесла она, задыхаясь и багровея.
Магда сказала, что она, конечно, вполне представляет себе, кто может писать их, оттого-то она и пришла.
— Если тебе приходится писать самой себе такие письма, чтобы распалить свое воображение, — прошипела в ответ Густа, — так хоть не посылай их тем, кто в этом не нуждается.
Магда, позеленев от возмущения, раскричалась, в свою очередь обвиняя невестку во всех смертных грехах. Но Густа уже бросилась к телефону, позвонила в контору и вызвала Дидериха домой; затем исчезла и вернулась с пачкой писем в руках. В других дверях показался Дидерих со своими. Все три пачки пикантных писем были эффектно разложены на столе, а трое родственников молча смотрели друг на друга остановившимися глазами. Опомнившись, они все разом стали бросать друг другу в лицо одни и те же обвинения. В доказательство своей правоты Магда сослалась на свидетельство мужа, который-де тоже получает такие письма. Густа утверждала, что она и у Эмми видела нечто подобное. Послали за Эмми, и та, в свойственной ей небрежной манере, беспечно призналась, что, действительно, почта и ей доставляет такую же мерзость. Большую часть писем она уничтожила. Не пощадили даже старую фрау Геслинг. Она, правда, плакала и отпиралась, но ее изобличили… Все это вместе взятое только распалило страсти, а ясности в дело не внесло, и родственники расстались, осыпая друг друга угрозами, по существу пустыми, но все же устрашающими. Обе стороны старались укрепить свои позиции и в поисках союзников первым делом выяснили, что Инга Тиц тоже находится в числе получателей этой недостойной стряпни. Все самые худшие предположения подтвердились. Зловредный сочинитель писем повсюду вторгался в частную жизнь, он не обошел даже пастора Циллиха, больше того, — самого бургомистра и его домашних. Судя по всему, он создал вокруг семьи Геслингов и всех дружественных им семей атмосферу самой бесстыдной похабщины. Неделями Густа не отваживалась выйти из дому. Содрогаясь от ужаса, супруги видели виновника зла то в одном, то в другом. Во всем Нетциге брат не доверял сестре, жена — мужу. Настал день и час, когда в лоне семьи Геслингов подозрительность превысила всякую меру. Документ как нельзя более точный дрожал в руках у Густы; в нем были запечатлены моменты настолько интимные, что о них могли знать только она и ее супруг. Третий не мог даже подозревать о них, иначе это просто безумие!.. Густа бросила через стол пристальный взгляд на Дидериха: в его руках дрожал точно такой же листок, и во взгляде, устремленном на нее, был тот же вопрос.
Предатель был вездесущ. Там, где, казалось, никого не могло быть, он был вторым «я». Он самым невероятным образом поколебал веру в бюргерскую добропорядочность. Всякое чувство собственной нравственной безупречности и взаимного уважения было бы обречено на гибель, если бы не контрмеры, принятые как бы со всеобщего согласия к их восстановлению. Тысячегранные страхи, втихомолку искавшие выхода, стекались со всех сторон и силой одного общего страха прорыли канал, вышли на поверхность и излились, наконец, темным потоком на голову одного человека. Готлиб Горнунг сам не знал, откуда такое свалилось на него. Встретившись однажды с Дидерихом, он, по обыкновению, стал важничать и похвастался известными письмами, которые он якобы пишет. На суровые упреки Дидериха он лишь возразил, что кто же теперь не пишет таких писем, это модно, это светская игра — за что Дидерих немедленно его отчитал. Из беседы со старым приятелем и собутыльником Готлибом Горнунгом он вынес впечатление, что этот человек, уже не раз оказавший ему полезные услуги, может оказать услугу и в данном случае, хотя бы и не вполне по доброй воле, и вот Дидерих, как предписывал ему долг, подал на Горнунга в суд. И стоило только громко назвать его имя, как обнаружилось, что его давно уже все подозревают. Во время выборов он часто бывал во многих семьях; родился и вырос он в Нетциге, но родственников не имел, что, по-видимому, и позволяло ему вести эту неблаговидную игру. А тут еще его упорная борьба за право не продавать зубные щетки и губки, — она все больше и больше ожесточала его, толкала на неосторожные и едкие замечания, что-де некоторые господа нуждаются в губке не только для наружной гигиены, а почистив щеткой зубы, еще далеко не становятся чистыми.
Представ перед судом, он во многих случаях прямо признался в своем авторстве. Мнение такого свидетеля, как Гейтейфель, будто писание анонимных писем превратилось в эпидемию и будто одному человеку не под силу нагромоздить такую кучу мерзости, встретило дружный отпор со стороны остальных свидетелей, со стороны общественной воли.
С наибольшим блеском ее выразил Ядассон, который вернулся из Парижа с укороченными ушами и был произведен в прокуроры. Успех и сознание того, что теперь его нечем попрекнуть, сделали его даже более умеренным. Он признал, что во имя общего блага следует прислушаться к голосам тех, кто склонен считать Горнунга человеком с повышенной нервозностью. Настойчивее всех об этом твердил Дидерих, который на все лады защищал друга своей юности. Горнунг отделался пребыванием в санатории для нервнобольных, и когда вышел оттуда, Дидерих, поставив условием, что друг покинет Нетциг, снабдил его средствами, которые на некоторое время освобождали Горнунга от необходимости продавать губки и зубные щетки. В итоге, конечно, губки и щетки его доконают, и вряд ли Готлибу Горнунгу можно предсказать, что он хорошо кончит.
Разумеется, поток подметных писем прекратился, как только Готлиба надежно упрятали в психиатрическую лечебницу. Во всяком случае, если кто и получал письмо — он и виду не подавал. С этой напастью было покончено.
Дидерих с полным правом опять мог сказать: «Мой дом — моя крепость». Его семейный очаг, огражденный от грязных поползновений извне, вновь засиял чистейшей благодатью. За Гретхен, родившейся в 1894 году, в 1895 году последовал Горст, а в 1896 — Крафт. Дидерих, справедливый отец, открывал счет на каждого ребенка еще до того, как тот появлялся на свет, и прежде всего вносил в банк сумму на детское приданое и оплату акушерки. Его взгляды на брак отличались чрезвычайной строгостью. Появление Горста на свет прошло не без осложнений. Когда все было уже позади, Дидерих заявил супруге, что, если бы его поставили перед выбором, он, не задумываясь, дал бы ей умереть.
— Как ни прискорбно мне было бы, — прибавил он. — Однако продолжение расы прежде всего, а за своих сыновей я отвечаю перед кайзером.
Предназначение женщины — рожать детей, фривольности и непристойности, по мнению Дидериха, им не к лицу, но на отдых и возвышенные духовные радости они имеют право.
— Держись трех великих основ: «бог, кофе и дети».
На красной клетчатой скатерти, с орлом и кайзерской короной в каждой клетке, рядом с кофейником лежала библия, и Густе вменялось в обязанность по утрам читать библейские тексты. В воскресенье ходили в церковь всей семьей.
— Так угодно высшим сферам, — серьезно говорил Дидерих, когда Густа сопротивлялась. Точно так же, как Дидерих жил в страхе перед своим повелителем, Густе полагалось трепетать перед своим. Она твердо знала, что, входя в дом, надо пропускать супруга вперед. Детям в свою очередь надлежит оказывать почет ей, а такса Менне обязана повиноваться всем. Во время трапезы собаке и детям полагалось сидеть молча; Густа должна была по складкам на лбу супруга распознавать, желает ли он, чтобы его не беспокоили, или же надо болтовней отвлечь его от забот. Некоторые блюда подавались только главе семьи, в хорошие дни он бросал лакомый кусок через стол и от души хохотал, гадая, кто его перехватит — Гретхен, Густа или Менне. Послеобеденный сон Дидериха нередко отягчался несварением желудка; долг Густы повелевал ей класть супругу на живот теплые компрессы. Дидерих, охая и изнывая от страха, грозился составить завещание и назначить опекуна. Густа ни гроша не получит на руки.
— Я трудился для своих сыновей, а не для того, чтобы ты развлекалась после моей смерти.
Густа напоминала, что фундаментом, на котором все выросло, послужило ее собственное состояние, но лучше бы она не заикалась об этом… Разумеется, когда Густа схватывала насморк, нечего было и думать, что Дидерих в свою очередь будет ухаживать за ней. В таких случаях ей рекомендовалось держаться подальше, ибо Дидерих решительно не желал допускать в свой организм никаких бацилл. Приходя на фабрику, он всегда сосал дезинфицирующие таблетки. А однажды ночью Дидерих расшумелся из-за того, что кухарка захворала инфлюэнцей и температура у нее подскочила до сорока.
— Пусть сейчас же убирается со всей этой гадостью! — приказал Дидерих. И, после того как кухарка ушла, он еще долго носился по дому, опрыскивая все кругом смертоносными для бацилл жидкостями.
Вечерами, когда супруги читали «Локаль-анцейгер», Дидерих не уставал толковать Густе, что Германии жизнь не в жизнь без владычества на морях, и Густа очень хорошо понимала это уже потому, что она недолюбливала императрицу Фридрих{27}, как известно, предавшую нас Англии, не говоря уже о семейном скандале в замке Фридрихскрон, который Густа горячо осуждает. Против Англии нам необходимо выставить сильный флот: надо разбить ее наголову, ведь это злейший враг кайзера. Почему? В Нетциге это знали точно: лишь потому, что его величество как-то в веселом настроении дружески шлепнул принца Уэльского{28} по тому месту, откуда ноги растут. Кроме того, Англия поставляет нам известные высокие сорта бумаги, и только победоносной войной можно решительно пресечь их ввоз. Глядя поверх газеты, Дидерих говорил Густе:
— Разве только еще Фридриху Великому я уступлю в своей ненависти к этому народу воров и торгашей. Так называл англичан его величество, и я обеими руками подписываюсь под его словами.
Он подписывался под каждым словом каждой речи кайзера, и именно в первом, наиболее сильном варианте, а не в смягченном, в каком они печатались на следующий день. Все эти крылатые, современные, чисто немецкие словечки… Дидерих упивался ими, они были точно излучением его собственного «я», память сохраняла их, как будто он первый их произнес. Иной раз это действительно было так. Нередко он перемежал их в своих выступлениях с собственными изречениями, но ни сам он, ни кто другой не могли бы сказать, где кончается его творчество и где начинается сказанное кайзером…
— Прелестно!.. — восклицала Густа, читавшая «Смесь».
— Трезубцем должны владеть мы! — возглашал, словно не слыша ее, Дидерих, между тем как Густа рассказывала о случае с кайзершей, глубоко ее растрогавшем. В Губертусштоке ее величеству угодно было одеваться просто, как одевается любая фрау. На шоссе она повстречала почтальона, которому назвала себя, но он не поверил и высмеял ее. Немного погодя он, совершенно уничтоженный, пал перед ней на колени и был одарен серебряной маркой. Дидериха это тоже восхитило. Но особенно растрогал его рассказ о том, как его величество в сочельник вышел на улицу и раздал пятьдесят семь марок новой чеканки, чтобы бедняки Берлина весело справили праздник, а прочитав, что его величество стал почетным членом Мальтийского ордена, Дидерих так взволновался, что у него мурашки по спине поползли. Никогда не грезившиеся миры открывались на страницах «Локаль-анцейгера», и тут же рядом приводились эпизоды, делавшие высочайших особ по-человечески понятными и близкими. Начинало казаться, что стоящие в нише бронзовые, почти в человеческий рост фигуры их величеств, улыбаясь, придвигаются к столу, а сопровождающий их зекингенский трубач наигрывает на трубе чувствительный напев.
— Божественно, должно быть, у кайзеров, когда стирка! — восхищалась Густа. — Целых сто слуг стирают!
А Дидерих умилялся до глубины души, читая о таксах кайзера, которым разрешалось вольно обращаться со шлейфами придворных дам. У него созревала идея на ближайшем же вечере предоставить своей Менне полную свободу действий. Правда, телеграмма в следующем столбце очень встревожила его, потому что все еще было неясно, встретится ли кайзер с русским царем.
— Если эта встреча не произойдет в ближайшее время, мы должны быть готовы ко всему, — сказал он внушительно. — Мировая история шуток не любит.
Он подолгу задерживался на грозящих катастрофах: душа немца сурова, почти трагична, изрекал он.
Но Густа уже ничем не интересовалась. Она все чаще зевала. Строгий взгляд супруга, казалось, напомнил ей о некоем долге. Она вызывающе прищурилась и даже стала теснить его коленями. Он собирался было высказать еще какую-то националистическую мысль, но Густа вдруг необыкновенно строго сказала:
— Вздор!
Дидерих, однако, не только не одернул ее за такую выходку, а наоборот, взглянул на нее, моргая, словно ожидал продолжения… Как только он сделал попытку обхватить ее снизу, она окончательно согнала с себя сонливость и закатила ему здоровенную пощечину. Ничего не ответив, он встал и, громко сопя, спрятался за портьеру, а когда опять вышел на свет, оказалось, что он отнюдь не сверкает очами, больше того, очи эти полны страха и темного желания… Это, видно, рассеяло последние колебания Густы. Она встала; разнузданно вихляя бедрами, она сама засверкала очами и, повелительно тыча пальцем-сосиской в пол, прошипела:
— На колени, жалкий раб!
И Дидерих подчинился ее требованию! В неслыханном, фантастическом ниспровержении всех законов Густе дозволялось приказывать:
— Преклонись перед моей божественной особой!
И он, лежа на спине, покорно сносил ее пинки в живот. Правда, в разгаре своей деятельности она вдруг остановилась и спросила, просто и деловито, без жестокого пафоса:
— Хватит с тебя?
Дидерих не шевелился. Тогда она мгновенно опять превратилась в повелительницу.
— Я государыня, а ты верноподданный, — выразительно заговорила она. — Встать! Марш! — И, подталкивая Дидериха своими пухлыми, в ямочках кулачками, она погнала его перед собой в супружескую спальню.
— Это еще только цветочки! — пообещала она, но Дидериху удалось вывернуться и погасить свет. В темноте он с замиранием сердца слышал, как Густа где-то у него за спиной обзывает его не очень пристойными именами. Немного позже — она, наверно, уже спала — он, все еще ожидая эксцессов, на четвереньках вполз в нишу и спрятался за бронзового кайзера…
Наутро после таких ночных фантазий Дидерих неизменно требовал книгу домашних расходов, и горе Густе, если счета не сходились. Грозным разносом в присутствии всей прислуги он решительно рассеивал в ней какие бы то ни было иллюзии насчет ее кратковременной власти, если воспоминания о ней еще теплились в ее душе. Авторитет и традиции вновь торжествовали. Пускались в ход и другие средства, чтобы перевес в супружеских отношениях не был на стороне Густы. Не реже трех-четырех раз в неделю, а то и чаще, Дидерих проводил вечера вне дома — отправлялся в погребок, как говорил он, что не всегда соответствовало действительности… В погребке постоянный столик Дидериха находился под готической аркой, украшенной надписью: «Чем винцо вкусней, тем жена лютей, чем жена лютей, тем винцо вкусней». Сочные старинные изречения, красовавшиеся и на другах арках, были для мужей сладостной местью за те уступки женам, которые природа порой у них исторгает. «Кто вина не пьет и песен не поет, тот весь век с одной женою проживет». Или: «Храни нас боже от недуга, от злых собак и злой супруги». Но зато, если кто садился между Гейтейфелем и Ядассоном, он, подняв глаза к потолку, читал: «Мир и уют, очаг родной, а на стене — меч боевой. Старинный немецкий обычай храни, в вине все печали свои утопи». И только это и делалось здесь за всеми столами без различия вероисповеданий и партий. Ибо со временем сюда вернулись и Кон и Гейтейфель со своими ближайшими друзьями и единомышленниками; вернулись незаметно, ибо до каких же пор закрывать глаза на успех, окрылявший национальную идею и все выше ее возносивший. Разногласия между Гейтейфелем и его шурином пастором Циллихом по-прежнему отражались на их отношениях. Между их мировоззрениями зияла непроходимая пропасть: «Немец никому не позволит вмешиваться в свои религиозные убеждения и наставлять себя», — заявляла и та и другая сторона. Зато в политике всякая идеология от лукавого. В свое время во франкфуртском парламенте заседали многие деятели крупного масштаба, но это еще не были реальные политики, и поэтому, как полагал Дидерих, все, что они делали, было глупо. Впрочем, допускал он, снисходительно настроенный своими успехами, в свое время Германия поэтов и мыслителей, быть может, тоже имела право на существование.
— Но ведь это была только первая ступень, нынче наши духовные богатства создаются в области промышленности и техники. Мерило — успех.
Гейтейфель вынужден был согласиться. Теперь он куда осторожнее отзывался о кайзере, о влиянии и значении его величества. Каждое новое выступление августейшего оратора ставило его в тупик, — он пытался критиковать, но в конце концов все же давал понять, что не прочь подписаться под всем сказанным. Решительный либерализм — постепенно это стало почти общепризнанной точкой зрения — только выиграет, если зарядится энергией националистической идеи, встанет на путь конструктивного сотрудничества и, устремляясь к твердо намеченной цели и высоко держа знамя свободомыслящих, заявит свое непримиримое quos ego [4] врагам, которые отказывают нам в месте под солнцем. Ибо не только наш исконный враг Франция то и дело поднимает голову, но и с бессовестными англичанами пора, наконец, свести счеты! Флот, за постройку которого неустанно ведет гениальную пропаганду наш гениальный кайзер, нам действительно нужен до зарезу, наше будущее зиждется на морях… Эта истина все с большей силой овладевала умами. В погребке за столиком, где восседал Дидерих, идея мощного флота крепла, она возгоралась ярким пламенем, питаемая добрым немецким вином, и прославляла своего творца. Флот, эти суда, эти поразительные машины — плод буржуазной мысли! Пущенные в ход, они сделают Германию мировой державой, точно так же, как известные машины в Гаузенфельде делают известный сорт бумаги под названием «Мировая держава». Флот был особенно мил сердцу Дидериха, да и Кона с Гейтейфелем идея национализма подкупала прежде всего требованием флота. Десант в Англии — это была греза, парившая в туманной дымке под готическими сводами погребка. Глаза собеседников разгорались, все обсуждали подробности обстрела Лондона. Обстрел Парижа подразумевался сам собой и завершал планы господа бога на наш счет. «Ибо, — как говаривал пастор Циллих, — христианские пушки служат праведному делу». Один лишь майор Кунце был настроен скептически, его мрачным предсказаниям конца не было. С тех пор как социалист Фишер победил его на выборах, говорил он, никакое поражение его не удивит. Но это был единственный маловер. А больше всех ликовал Кюнхен. Подвиги, совершенные в великой войне этим лютым старичком, теперь, спустя четверть века, нашли, наконец, свое истинное утверждение в образе мыслей нынешних немцев. «Семена, — говорил он, — которые мы посеяли во время оно, всходят ныне. Какое счастье, что моим старым глазам дано это увидеть!» — и, допив третью бутылку, он тут же засыпал.
Благоприятно сложились в общем и отношения Дидериха с Ядассоном. В прошлом соперники, они, войдя в зрелый возраст и поднявшись в сферу сытого существования, не наступали больше друг другу на мозоли ни в политике, ни за столом в погребке, ни в таинственной вилле, которую Дидерих посещал в тот вечер недели, когда, без ведома Густы, его место за столиком в ресторане пустовало. Вилла эта находилась у Саксонских ворот и некогда принадлежала фон Бриценам. Нынче в ней обитала одна-единственная дама, она редко показывалась на улицах города, да и то лишь в карете. Иной раз она появлялась в «Валгалле» в ложе авансцены, разодетая в пух и прах, на нее нацеливались все бинокли, но никто с ней не здоровался. Держалась она королевой, хранящей инкогнито. Разумеется, несмотря на пышность ее туалетов, решительно все знали, что это Кетхен Циллих, что она, пройдя в Берлине хорошую школу, с успехом занимается своей профессией на бывшей вилле фон Бриценов. Всем было также известно, что такие обстоятельства не очень-то способствуют повышению авторитета пастора Циллиха. Весь приход чувствовал себя глубоко оскорбленным, а тут еще подливали масла в огонь насмешники, которые были в восторге от этой истории. Во избежание катастрофы пастор потребовал, чтобы полиция искоренила зло, но натолкнулся на сопротивление. Оставалось предположить, что существует некая связь между виллой Бриденов и высшими властями города. Поколебленный в своей вере в земную справедливость не меньше, чем в божественную, отец поклялся, что сам выступит в роли судьи, и действительно как-то под вечер явился к погибшей дочери, которая еще нежилась в постели, и подверг ее телесному наказанию. Только матери, которая обо всем догадалась и побежала за мужем, обязана была Кетхен своим спасением, как утверждали прихожане. Матери приписывали позорную слабость к дочери, блиставшей во всем великолепии греха. А пастор Циллих объявил с амвона, что Кетхен умерла и истлела, и этим спасся от вмешательства консистории. Впоследствии испытание, постигшее пастора, пошло ему на пользу… Из числа лиц, вносивших свою долю на содержание Кетхен, Дидерих был знаком лишь с Ядассоном, хотя Ядассон давал меньше всех, а может быть, и вовсе ничего не давал, как имел основания думать Дидерих. Отношения Ядассона и Кетхен с давних пор походили на закладную, обременяющую предприятие. Поэтому Дидерих без всяких стеснений поверял Ядассону заботы, которые это предприятие ему причиняло. Из понятного чувства такта по отношению к пастору Циллиху, рассуждавшему неподалеку о христианских пушках, они придвинулись друг к другу за столиком в нише, украшенной надписью: «Чтоб жене муженька ублажить, надо сладко его накормить», — и принялись толковать о делах бриценской виллы. Дидерих жаловался, что Кетхен ненасытна в своих посягательствах на его кошелек: вот если бы Ядассон оказал на нее благотворное воздействие! Но Ядассон лишь спросил:
— Зачем же вы сохраняете эту связь? Она, разумеется, стоит денег и денег!
И он был прав. Испытав кратковременное удовлетворение оттого, что он все же добился Кетхен, хотя бы таким путем, Дидерих вскоре стал рассматривать ее только как статью расхода, и очень солидную, под рубрикой «реклама».
— Мое положение, — говорил он Ядассону, — требует представительства в самом широком масштабе. Иначе я, откровенно говоря, давно бросил бы всю эту волынку: между нами, Кетхен не так уж пикантна.
Ядассон выразительно улыбнулся, но ничего не сказал.
— Вообще же, — продолжал Дидерих, — она в том же жанре, что и моя жена, а моя жена, — он приложил руку к сердцу, — намного изобретательнее. Видите ли, со своей совестью ничего не поделаешь, после каждой вылазки на бриценскую виллу мне все чудится, что я в долгу перед женой. Это может показаться смешным, но в таких случаях я всегда ей что-нибудь дарю. Боюсь только, как бы она в конце концов чего не заподозрила!
Ядассон рассмеялся, и для этого у него было больше оснований, чем думал Дидерих, — он давно уже счел своим нравственным долгом просветить на этот счет супругу главного директора Геслинга.
В сфере политической у Дидериха с Ядассоном установилось такое же плодотворное сотрудничество, как и на вилле Кетхен: рука об руку они старались очистить город от неблагонамеренных, особенно от тех, кто сеял заразу оскорблений величества. Дидерих, с его разносторонними связями, вылавливал подобные элементы, а Ядассон предавал их суду и расправе. После появления «Гимна Эгиру» деятельность друзей стала особенно успешной. В доме у самого Дидериха учительница музыки, которая давала уроки Густе, назвала «Гимн Эгиру{29}»… С тем самым, что она назвала, ее и смешали. Даже Вольфганг Бук, с недавнего времени вновь поселившийся в Нетциге, даже он заявил, что приговор отнюдь не суров, ибо он удовлетворяет оскорбленные монархические чувства.
— Оправдательного приговора народ не понял бы, — сказал он за столиком Дидериха в погребке. — Среди политических режимов монархия то же, что в любви строгие и энергичные дамы. Кто питает склонность к такого рода любви, тот требует наступательных действий, мягкость его не удовлетворяет.
Дидерих покраснел… Жаль только, что Бук выражал такие взгляды лишь в трезвом состоянии. Позднее он своей уже всем приевшейся манерой втаптывать в грязь священнейшие блага давал достаточно поводов исключить его из приличного общества. И что же? Не кто другой, как Дидерих, уберег его от подобной участи. Он защищал своего приятеля.
— Надо же, господа, считаться с его тяжелой наследственностью, ведь в этой семье мы находим симптомы прогрессирующего вырождения. С другой стороны, мы знаем, что сцена все же не удовлетворила его и он вернулся к профессии адвоката, а это доказывает, что натура у него здоровая.
Ему возражали: весьма подозрительно, почему Бук ни слова не говорит о своей трехлетней деятельности на сцене. Быть может, он уже опустился до того предела, когда человек чести его и на дуэль не вызовет? На это Дидерих ничего не мог сказать; вопреки всякой логике, его неодолимо влекло к сыну старика Бука. То и дело он завязывал с ним жаркие споры, неизменно кончавшиеся взаимными резкостями, так как вскрывались острейшие противоречия в их взглядах. Дидерих даже ввел Бука в свой дом, но результат получился совершенно неожиданный. Если сначала Бук приходил, вероятно, только ради превосходного коньяка, которым его угощали, то потом его явно заинтересовала Эмми. Через голову Дидериха оба отлично спелись, и притом самым поразительным для Дидериха образом. Они вели острые рискованные разговоры, далекие, очевидно, от всякой задушевности или иных чувств, которые в нормальных случаях пробуждает общение представителей разного пола. А когда они понижали голоса и переходили на интимный тон, Дидериху делалось прямо-таки не по себе. Оставался выбор: либо вмешаться и восстановить корректный тон, либо удалиться из комнаты. К собственному удивлению, он избирал последнее. «Оба они претерпели удары судьбы, и вполне заслуженные», — думал он с подобающей ему рассудительностью, почти не замечая бессознательного чувства гордости за Эмми; ему было лестно, что Эмми, его родная сестра, оказалась достаточно умной, незаурядной и даже, пожалуй, достаточно непутевой, чтобы подружиться с Вольфгангом Буком. «Кто знает… — начинал он, колеблясь, а затем решительно доканчивал: — А почему бы и нет! Точно так же поступил Бисмарк с Австрией. Сначала растоптал, а потом заключил союз!»
Из этих пока еще расплывчатых соображений Дидерих вновь стал проявлять определенный интерес к отцу Вольфганга. Старик, страдавший болезнью сердца, редко показывался в городе, а если и выходил, то большей частью стоял перед витриной какого-нибудь магазина, делая вид, что углублен в ее созерцание, а на самом деле беспокоясь лишь об одном — как бы скрыть, что ему не хватает воздуха. О чем он размышлял? Что думал о новом деловом расцвете Нетцига, о подъеме национализма, о нынешних властях предержащих? Переменил ли он свои убеждения? Чувствовал ли себя внутренне побежденным? Случалось, что главный директор доктор Геслинг, могущественнейший представитель нетцигской буржуазии, хоронился где-нибудь в подворотне, чтобы затем незаметно следовать по пятам за потерявшим всякое влияние, уже наполовину забытым стариком: хотя Дидерих и пребывал на вершине, но этот умирающий почему-то смущал его душевный покой… Так как старик платил теперь проценты по своим закладным с запозданием, Дидерих предложил молодому Буку продать дом. Само собой, он предоставит старику право пожизненно пользоваться им. Вместе с домом он купит и обстановку, немедленно уплатив за нее. Вольфганг уговорил отца принять предложение.
Тем временем миновало 22 марта. Исполнилась столетняя годовщина со дня рождения Вильгельма Великого, а памятник ему в городском парке все еще не был сооружен. В собрание городских гласных без конца поступали запросы, неоднократно после упорной борьбы одобрялись дополнительные кредиты, но требовались все новые и новые на покрытие перерасхода. Тяжелый удар постиг город, когда его величество отверг проект монумента, где его августейший дед был изображен пешим; приказано было соорудить конную статую. Дидерих, подгоняемый нетерпением, вечерами часто отправлялся на Мейзештрассе, чтобы лично убедиться, насколько продвинулись работы. Был май, стояла жара, и даже после захода солнца было еще душно, но на пустынной территории парка с его молодыми насаждениями дул ветерок. Дидерих, уже в который раз, с раздражением думал о том блестящем деле, которое сварганил помещик господин фон Квицин. Ему это далось без особого труда! Не штука производить сделки с земельными участками, когда регирунгспрезидент твой кузен. Городу волей-неволей пришлось купить весь участок под памятник кайзеру Вильгельму и заплатить столько, сколько фон Квицин потребовал… Неожиданно показались две фигуры; Дидерих вовремя разглядел, кто это, и укрылся за кустами.
— Здесь хоть можно дышать, — сказал старик Бук.
— Если бы этот вид не отравлял все, — ответил сын. — Они задолжали полтора миллиона, чтобы навалить эту груду мусора. — И он показал на недоделанный постамент — нагромождение цоколей, орлов, львов, тумб и человеческих фигур. Одни орлы, распластав крылья, вцепились когтями в пустой цоколь, другие устроились на тумбах, симметрично расставленных на ступенях цоколя; там же расположились и львы, готовые выскочить вперед, где и без того было столпотворение: развевались флаги, метались и неистово жестикулировали люди. Заднюю стенку цоколя украшал Наполеон Третий. Мало того, что он, согнувшись в три погибели, в позе побежденного следовал за триумфальной колесницей, но жизни его еще постоянно угрожал лев, грозно изогнувший спину позади него на лестнице постамента… А Бисмарк и другие паладины чувствовали себя в этом зверинце как дома, протягивали руки с подножья цоколя вверх, чтобы приобщиться к подвигам еще отсутствовавшего властелина.
— Кто вознесется на этот цоколь? — спросил Вольфганг Бук. — Этот старик был лишь предтечей. В конце концов весь этот мистико-героический спектакль загородят цепями, нам останется только глазеть: что и является конечной целью всего. Комедия, и притом бездарная.
Через некоторое время, — уже спустились сумерки, — отец сказал:
— А ты, сын мой? Ведь и тебе когда-то игра казалась конечной целью.
— Как всему моему поколению. Ничего другого мы не умеем. Нынче нам следовало бы, в ожидании будущего, держаться тише воды ниже травы. Это самое безопасное. И я не отрицаю, что мой уход со сцены — не больше чем тщеславие. Смешно, отец, но я покинул сцену потому, что однажды, когда я играл, начальник полиции заплакал. Подумай только, можно ли это стерпеть. Тончайшие нюансы душевных эмоций, жизнь сердца, высокая мораль, современные чаяния ума и души — все это я воспроизвожу перед людьми, как будто равными мне, потому что они растроганно кивают, и я вижу их взволнованные лица. А потом эти люди преследуют революционеров и стреляюг в бастующих. Мой начальник полиции, разумеется, собирательное лицо, таковы все они. — Бук повернулся прямо к тому кусту, за которым спрятался Дидерих. — Искусство остается для вас искусством, и борение духа неведомо вам. Если б настал день, когда мастера вашей культуры поняли бы это, как я, они, подобно мне, оставили бы вас одних с вашими дикими зверями.
Он показал на львов и орлов. Старик тоже посмотрел на памятник и молвил:
— Они стали могущественны, но с их властью мир не обогатился ни духовными сокровищами, ни любовью. Значит, все было напрасно. И наша жизнь тоже, по-видимому, была напрасна. — Он посмотрел на сына. — А все-таки вы не должны уйти и оставить им поле битвы.
Вольфганг тяжело вздохнул:
— На что надеяться, отец? Они остерегаются перегибать палку, не в пример привилегированному классу накануне революции сорок восьмого. Уроки истории, к сожалению, научили их умеренности. Их социальное законодательство носит охранительный и развращающий характер. Оно насыщает народ ровно настолько, чтобы не стоило вести серьезную борьбу за хлеб, не говоря уже о свободе. Кто теперь свидетельствует против них?
Тут старик выпрямился.
— Дух человечества, — сказал он вдруг полным, звучным голосом и, глядя на сына, опустившего голову, продолжал: — Ты должен веровать в него, сын мой. Когда катастрофа, которую они надеются избегнуть, разразится и станет достоянием прошлого, не сомневайся, что человечество назовет нынешние нравы еще более позорными и безрассудными, чем нравы, существовавшие до первой революции. — И вдруг голос его прозвучал тихо, словно издалека: — Жить только настоящим значит не жить совсем.
Он, видимо, зашатался. Сын быстро подхватил его, и старик, опираясь на руку Вольфганга, согбенный, едва передвигая ноги, исчез во мраке. Дидерих же поспешил удалиться другой дорогой: ему казалось, что он очнулся от дурного, непонятного сна, в котором — и это совершенно ясно — потрясались устои. И хотя все, что он услышал, было отмечено печатью несбыточности, ему казалось, что никогда еще столь знакомая ему крамола не потрясала эти устои так глубоко и сильно. Дни одного были сочтены, у другого тоже не было особенных перспектив, но Дидерих чувствовал, что лучше бы они подняли в стране здоровую бучу, чем шептаться здесь, в темноте, об одних лишь духовных ценностях и о будущем.
В реальной действительности, разумеется, были куда более ощутимые дела. Вместе с автором памятника Дидерих набросал программу художественного оформления празднества в честь открытия монумента. При этом скульптор оказался гораздо предупредительнее, чем можно было ожидать. И вообще он пока обнаруживал лишь то лучшее, что свойственно людям его профессии, — талант и возвышенный образ мыслей, а в остальном отличался корректностью и деловитостью. Этот молодой человек, племянник бургомистра Шеффельвейса, являл собою пример того, что, вопреки изжившим себя предрассудкам, порядочность можно встретить повсюду, и что нет никаких оснований отчаиваться, если молодой человек по лености не желает обучаться хлебной профессии и становится художником. Когда он в первый раз вернулся из Берлина в Нетциг, на нем еще была бархатная куртка и семье он причинял одни неприятности, но во второй свой приезд он уже носил цилиндр, а некоторое время спустя на него обратил внимание монарх и ему дозволено было изваять для аллеи Победы{30} очень удачный скульптурный портрет маркграфа Гатона Могучего{31} и такие же портреты двух его современников — монаха Тассило, знаменитого тем, что он мог выпить в день сто литров пива, — и рыцаря Клиценцица, который учил берлинцев работать до седьмого пота, хотя они его позднее и повесили. На заслуги рыцаря Клиценцица его величество соизволил обратить особое внимание обер-бургомистра, а это в свою очередь благоприятно отразилось на карьере молодого скульптора. Ясно, что молодому человеку, на которого пал луч монаршей милости, выказывали беспредельное радушие; Дидерих предоставил в его распоряжение весь дом, взял для него напрокат верховую лошадь, необходимую художнику, чтобы дать волю играющим молодым силам. А какие надежды засияли, когда именитый гость назвал многообещающими первые, сделанные еще неуверенной рукой рисунки маленького Горста. Дидерих недолго думая решил, что Горст посвятит жизнь искусству — этому столь современному поприщу.
Вулков, ничего не смысливший в искусстве и не сумевший стать с фаворитом его величества на дружескую ногу, получил от комитета по сооружению памятника 2000 марок в виде почетного дара, на который имел право, как почетный председатель, но выступить с торжественной речью на открытии комитет поручил фактическому председателю, духовному творцу памятника и основоположнику националистического движения, детищем которого памятник и является, — господину городскому гласному главному директору доктору Геслингу. Браво! Дидерих, растроганный и ликующий, видел себя у подножья новых вершин. Ждали самого обер-президента{32}. Дидериху предстояло держать речь в высоком присутствии его сиятельства — какие возможности перед ним открывались! Вулков, правда, пытался ставить ему палки в колеса: раздраженный тем, что его оттерли, он отказался допустить Густу на трибуну «официальных» дам. По этому поводу у Дидериха произошла с ним горячая стычка, но без положительного результата. Пыхтя, как паровоз, Дидерих вернулся домой к Густе.
— Не вышло. Затвердил, что ты, дескать, не «официальная». Но мы еще посмотрим, кто официальнее, ты или он. Он еще просить тебя будет! Я, слава богу, больше в нем не нуждаюсь, уж скорее он во мне.
И верно: когда вышел очередной номер «Недели{33}», как вы думаете, что было в нем, кроме обычных фотографий кайзера? Два снимка: на одном автор памятника кайзеру Вильгельму в Нетциге, запечатленный в момент, когда он в последний раз прикасается резцом к своему творению; на другом — председатель комитета и его супруга, Дидерих с Густой. И ни слова о Вулкове. Это было всеми замечено и истолковано как признак того, что его положение пошатнулось. Он, видно, и сам это почувствовал, так как предпринял шаги, чтобы тоже попасть в «Неделю». Он побывал у Дидериха, но Дидерих велел сказать, что его нет дома. Скульптор тоже под каким-то предлогом не вышел к посетителю. Тогда Вулков, как Дидерих и предсказывал, в самом деле подошел на улице к Густе. История с местом на трибуне для официальных дам, мол, недоразумение…
— Стоял на задних лапках, как наша Менне, — рассказывала Густа.
— Поздно спохватился! — решительно сказал Дидерих и не побоялся растрезвонить о случае с Густой по всему городу.
— Стоит ли церемониться, — сказал он Вольфгангу Буку, — если это конченный человек? Полковник фон Гафке и тот уже махнул на него рукой. — И смело прибавил: — Теперь он увидел, что на нем свет клином не сошелся. На свою беду, он не сумел вовремя приноровиться к современному требованию — широкой гласности, — которое накладывает свой отпечаток на нынешний курс.
— Абсолютизм, ищущий популярности в народе, — сформулировал Бук.
Теперь, когда положение Вулкова действительно пошатнулось, Дидерих с каждым часом находил все более зазорной ту сделку с земельным участком, когда его так бессовестно обошли. Его негодование приняло такие размеры, что приезд в Нетциг депутата Парламента Фишера, который как раз в эти дни решил посетить свой родной город, явился для Дидериха поистине благодетельной разрядкой. Парламентаризм и депутатская неприкосновенность имеют все-таки свои хорошие стороны! Ибо Наполеон Фишер немедленно выступил в рейхстаге с разоблачениями! Он разоблачил, ничем не рискуя, спекуляции регирунгспрезидента фон Вулкова в Нетциге, рассказал об огромных барышах, полученных им от продажи участка, который, по словам Фишера, фон Вулков вымогательским образом получил от города, упомянул о почетном даре в 5000 марок, назвав его «взяткой». Судя по газете, среди представителей народа поднялась буря возмущения. Правда, причиной тому был не столько Вулков, сколько сам разоблачитель. Депутаты с пеной у рта требовали доказательств и свидетелей; у Дидериха душа в пятки ушла: а вдруг в следующей же строчке выплывет его имя? К счастью, этого не случилось, Наполеон Фишер остался верен долгу народного представителя. Вместо этого выступил министр и сказал, что он предоставляет собранию самому судить о неслыханных, сделанных, к сожалению, под защитой депутатской неприкосновенности нападках на отсутствующее лицо, которое не имеет возможности защищаться. И собрание выразило свое суждение: оно ответило господину министру одобрительными аплодисментами. Что касается парламента, инцидент был исчерпан, оставалось только, чтобы и пресса выразила свое негодование. За ней дело не стало, причем не вполне благонадежные газеты лишь слегка перемигнулись. Не одному редактору социал-демократического листка, пренебрегшего осторожностью, пришлось предстать перед судом, в том числе и редактору нетцигского «Гласа народа». Дидерих воспользовался этим предлогом и начисто порвал со всеми, кто когда-либо сомневался в честности господина регирунгспрезидента. Вместе с Густой он нанес визит Вулковым.
— Я знаю из первых рук, — говорил он после этого, — что фон Вулкову обеспечено великое будущее. Он недавно ездил на охоту с его величеством и отпустил блестящую остроту.
Несколькими днями позже в «Неделе» появился портрет во весь разворот: лысина и борода на одной странице, брюхо на другой, и подпись: «Регирунгспрезидент фон Вулков, духовный отец памятника кайзеру Вильгельму в Нетциге, недавно подвергшийся в рейхстаге возмутительным нападкам. В ближайшем будущем ожидается его назначение на пост обер-президента»… Портреты главного директора Геслинга и его супруги заняли всего четверть страницы. Дидерих убедился, что подобающая дистанция восстановлена. Как во все времена, так и в наши дни, с их требованием широкой гласности, власть остается властью — она недосягаема. Вопреки всему такой вывод доставил Дидериху глубокое удовлетворение. Этот инцидент как нельзя лучше помог ему внутренне подготовиться к его торжественной речи.
Она рождалась в честолюбивых видениях бессонных ночей и в оживленном обмене мнениями с Вольфгангом Буком, а особенно с Кетхен Циллих, проявившей необыкновенную чуткость и правильно оценившей великое значение предстоящего события. В исторический день, когда Дидерих, чувствуя, как стучит его сердце о тетрадку с речью, в половине одиннадцатого подъехал с супругой к месту торжества, там еще почти никого не было, но зато какой порядок чувствовался во всем! Главное — военное оцепление было уже выставлено! А стоило, предъявив пропуск, оказаться по ту сторону, как душу охватывало праздничное чувство, чувство превосходства над толпой непривилегированных людишек, которые стоят за цепью солдат на самом солнцепеке у высокой черной стены и вытягивают потные шеи, пытаясь что-нибудь разглядеть. Трибуны по правую и левую сторону от длинных белых полотнищ, под которыми, как не трудно было догадаться, скрывался Вильгельм Великий, были затенены тентами и множеством флагов. Дидерих заметил, что на левой трибуне господа офицеры, у которых дисциплина вошла в плоть и кровь, размещались со своими дамами сами, без посторонней помощи; вся строгость полицейской бдительности устремилась направо, где дрались за места штатские. Густа, как и все, тоже была недовольна своим местом, ее мог удовлетворить только тент для официальных лиц, расположенный напротив памятника. Она ведь «официальная» дама, и Вулков это признал. Если Дидерих не трус, он поведет ее туда… Но его храбрая атака, как он и предчувствовал, получила энергичный отпор. Престижа ради и ради того, чтобы Густа не усомнилась в нем, он запротестовал против тона, каким с ним говорил полицейский офицер, и его чуть было не арестовали. Его орден Короны четвертой степени, его черно-бело-красная лента через плечо и набросок речи, предъявленный им, только-только избавили его от ареста, но ни в глазах мира, ни в его собственных не могли сравниться с военным мундиром. Этой единственно подлинной чести, чести мундира, ему не хватало, и он — уже в который раз — отметил про себя, что без мундира человек, будь он хоть семи пядей во лбу, проходит по жизни с неспокойной совестью.
Совершенно подавленные, супруги Геслинг на виду у всех начали отступление — Густа иссиня-багровая и надутая под своими страусовыми перьями, кружевами и бриллиантами, Дидерих — сопя и изо всех сил выпячивая живот с черно-бело-красной лентой, точно желая прикрыть национальным флагом свое поражение. Так пришлось им пройти позади офицерской трибуны, где с одной стороны выстроился ферейн воинов, в цилиндрах, с венками из дубовых листьев вокруг тульи, под предводительством Кюнхена, на котором был мундир лейтенанта ополчения, а с другой — отряд почетных дев в белых одеяниях, подпоясанных черно-бело-красными шарфами, во главе которого стоял Циллих в пасторском облачении. Наконец супруги подошли к своей трибуне. И кто же, как вы думаете, сидел на стуле Густы в позе королевы?! Потрясающе: Кетхен Циллих! Уж тут-то Дидерих счел себя обязанным не хуже других прочих сказать свое властное слово.
— Эта дама ошиблась, она заняла не свое место, — заявил он, обращаясь отнюдь не к Кетхен, — очевидно, он с ней не знаком и считает ее подозрительной личностью, — нет, он обратился к билетеру. И если бы даже сочувственный ропот голосов не подтвердил его правоты, он все равно стоял бы здесь на страже безмолвных сил порядка, морали и закона; трибуна рухнет, прежде чем он допустит, чтобы на ней оставалась Кетхен Циллих… Однако произошло нечто непостижимое: билетер под ироническим взглядом Кетхен лишь пожал плечами, и даже полицейский, которого подозвал Дидерих, буркнул что-то невнятное: он явно поощрял дерзкую вылазку порока. Дидерих, уже совсем ничего не понимая в этом мире, незыблемые законы которого, казалось, рушатся, позволил оттеснить Густу в самые верхние ряды. Она обменялась с Кетхен несколькими репликами, подчеркнувшими пропасть между обеими дамами. Неизвестно, чем бы все это кончилось, — в обмене мнениями уже начали принимать участие третьи лица, — если бы не грянул «Марш гостей в Вартбурге». И действительно, гости заняли места под тентом для официальных лиц: впереди шел Вулков, его легко можно было узнать, несмотря на красный гусарский мундир, рядом с ним некто во фраке и с орденской звездой на груди — какой-то важный генерал. Возможно ли? Еще два высокопоставленных генерала! И адъютанты, мундиры всех цветов, сверканье орденских звезд. А как статны!
— Кто этот желтый, высокий? — вся загоревшись, вопрошала Густа. — Вот красавец так красавец!
— Не извольте наступать мне на ногу! — крикнул Дидерих, так как сосед его тоже вскочил. Все вертели головой, рискуя свернуть себе шею, всех лихорадило, все таяли от восторга.
— Погляди на них, Густа! Эмми дура, что не пошла с нами. Неповторимое, грандиозное зрелище, величественнее и представить себе нельзя!
— А этот, с желтыми отворотами! — мечтательно говорила Густа. — Как строен! Уж наверняка аристократ, сразу видно.
Дидерих сладострастно хохотнул.
— Здесь все без исключения аристократы. Тут уж не ошибешься. Достаточно сказать, что здесь присутствует флигель-адъютант его величества!
— Желтый!
— Собственной персоной!
Понемногу начали осваиваться.
— Вот тот — флигель-адъютант! — Целых два дивизионных генерала, черт возьми!
Как четко они отдают честь! Сколько шика! Очаровательно! Оказана честь даже бургомистру доктору Шеффельвейсу, которого вытащили из задних рядов, где он в своем мундире обозного лейтенанта запаса держался как можно более неприметно: он стал во фронт перед высоким начальством. Господин фон Квицин, одетый уланом, разглядывал в монокль участок, который некогда принадлежал ему. Вулков же, красный гусар, только теперь, козыряя и поворачивая к публике профиль своего мощного, обрамленного шнурами зада, по-настоящему давал почувствовать вес своего регирунгспрезидентства.
— Вот столпы нашей власти! — восклицал Дидерих под бравурные аккорды марша. — Пока у нас такие правители, мы всегда будем грозой мира! — И в неодолимом порыве, полагая, что его час настал, он устремился вниз, к ораторской трибуне. Но полицейский, охранявший трибуну, преградил ему путь.
— Нельзя, нельзя, еще не время, — сказал он.
Внезапно остановленный в своем стремительном разбеге, Дидерих столкнулся с догонявшим его билетером, тем самым, с которым у него вышла заминка. Это был один из служителей городского управления. Ему хорошо известно, заверил он Дидериха, что дама с желтыми волосами сидит на месте господина гласного, «но оно предоставлено ей по приказу свыше». Последовавшее затем разъяснение сказано было уже замирающим шепотом, и Дидерих отпустил билетера жестом, как бы означавшим: «Ну, тогда все в порядке!» Флигель-адъютант его величества! Тогда все в порядке! Дидерих заколебался: не следует ли вернуться и публично отвесить Кетхен Циллих почтительный поклон?
Но он не успел. Полковник фон Гафке скомандовал знаменной роте «вольно!», Кюнхен в свою очередь повторил его команду; за тентом полковой оркестр заиграл: «На молитву». Этому приглашению последовали белые девы пастора Циллиха и весь состав ферейна воинов. Кюнхен, в своем историческом мундире офицера ополчения, украшенном не только Железным крестом, но и доблестной заплатой — в этом месте французская пуля пробила его, — встретился в центре площади с облаченным в пасторское одеяние Циллихом, а когда подоспел ферейн воинов, Циллих начал церемонию, и старому союзнику на небесах были вознесены молитвы. На штатской трибуне публику подняли билетеры; господа офицеры поднялись без напоминания. Хор дев запел: «Твердь и оплот{34}». Пастор Циллих, по-видимому, еще что-то имел в виду, но желтолицый обер-президент, явно полагая, что со старого союзника хватит и этого, опустился в кресло: то же сделали стоявший справа цветущий флигель-адъютант, и слева — два дивизионных генерала. Когда все общество под тентом для «официальных» разместилось согласно своим внутренним законам, все увидели, как Регирунгспрезидент фон Вулков сделал знак, и один из полицейских тронулся с места. Он направился к своему коллеге, который охранял ораторскую трибуну, а тот обратился к Дидериху:
— Ну, теперь пожалуйте.
Дидерих, всходя на трибуну, изо всех сил старался не споткнуться — ноги у него вдруг обмякли, а перед глазами все поплыло. Немного отдышавшись, он приметил на полукруге голой площади деревце, без единого листочка, зато густо увешанное бумажными черно-бело-красными цветами. При виде этого деревца к нему вернулись память и силы. Он начал:
— Ваши сиятельства! Ваши превосходительства! Милостивые государи! Сто лет прошло с тех пор как нам и нашему фатерланду ниспослан был наш великий кайзер, памятник которому сейчас откроет представитель его величества; в то же время — и это делает настоящую минуту особенно знаменательной — вот уже почти десять лет, как его великий внук вступил на престол! Как же нам прежде всего не оглянуться с чувством гордости и признательности на то великое время, в которое нам дано жить?
И Дидерих оглянулся. Он воздавал хвалу поочередно беспримерному расцвету хозяйственной жизни и взлету националистической мысли. Он долго распространялся об океане.
— Без океана нет величия Германии. Океан говорит нам, что без Германии и без германского кайзера ни на нем самом, ни по ту сторону его не может быть принято ни одно решение, ибо мировая торговля теперь самое главное.
Но Германия переживает не только беспримерный деловой расцвет, она переживает такой же расцвет в области духовной и нравственной. Что было раньше? Дидерих набросал далеко не лестную для старшего поколения картину: сбитое с пути односторонним гуманитарным образованием, воспитавшим в нем безнравственные взгляды, оно было чуждо идее национализма. Если подобное положение сейчас в корне изменилось, если мы, справедливо сознавая себя самым дельным народом в Европе и на всем земном шаре, объединились, за исключением смутьянов и отщепенцев, в единой националистической партии, то кому мы этим обязаны? Только его величеству, отвечал Дидерих.
— Он пробудил граждан от спячки, его высокий пример сделал нас тем, что мы есть!.. — Дидерих стукнул себя кулаком в грудь. — Сила его личности, неповторимой, несравненной, так велика, что позволяет всем нам увиться вокруг него плющом, поднимаясь все выше и выше! — воскликнул он экспромтом; в наброске его речи это не значилось. — Во всем, что его величество предпринимает на благо германского народа, все мы, имущий и бедняк, с восторгом придем ему на помощь. Мы приветствуем и простого мастерового! — опять неожиданно для себя прибавил он, вдохновленный запахами потеющей толпы, которая теснилась за военным оцеплением — их донес поднявшийся ветер.
— Изумляя мир своей деловитостью, исполненные высокой нравственной силы, направленной на созидательную деятельность, и обладая отточенным оружием, мы являемся грозой врагов, завистливо обступивших нас, мы — избранная нация, мы знаменосцы вознесенной на небывалую высоту германской культуры господ, которую никто и никогда не превзойдет!
Тут все увидели, что обер-президент кивнул, а флигель-адъютант беззвучно похлопал ладонью о ладонь — и на трибунах разразилась буря аплодисментов. На штатской развевались носовые платочки. Махала по ветру платочком Густа, махала, несмотря на недавнюю обиду, и Кетхен Циллих. Дидерих, с легким, как развевающиеся платочки, сердцем, вновь вознесся на вершины красноречия:
— Но такого небывалого расцвета нация господ не достигает в вялой, гнилой атмосфере мира; нет, наш старый союзник на небесах счел необходимым в огне закалить немецкое золото. Нам пришлось пройти сквозь горнило Иены и Тильзита{35}, но в конечном счете наши победоносные знамена водружены повсюду, и на поле брани выкована германская корона.
И Дидерих напомнил о богатой испытаниями жизни Вильгельма Великого, показывающей нам, что создатель не отвращает лик свой от избранного им народа, который он сделал своим орудием. Великий кайзер никогда не впадал в сомнения на этот счет, что неопровержимо доказывает исторический момент, когда он, монарх божьей милостью, со скипетром в одной руке и мечом империи в другой лишь господу честь воздал и от него принял корону. Верный высокому чувству долга, он не пожелал воздать честь народу и от народа принять корону и не побоялся страшной ответственности перед одним господом богом, от которой его не мог освободить никакой министр и никакой парламент! Голос Дидериха растроганно задрожал.
— Это признает теперь и народ, он положительно обожествляет личность почившего кайзера. Ведь кайзер имел успех! А где успех — там и бог! В средние века Вильгельм великий был бы причислен к лику святых. Ныне же мы воздвигаем ему первоклассный памятник!
Обер-президент опять кивнул, и за кивком опять последовала буря аплодисментов. Солнце скрылось, подул свежий ветер; и, словно под влиянием нахмурившегося неба, Дидерих трагически воскликнул:
— Кто стал на его пути к поставленной им высокой цели? Кто был врагом великого кайзера и преданного ему народа? Разбитый им Наполеон! Наполеон получил корону от народа, а не от бога, отсюда и все его беды! Это придает приговору истории вечный, потрясающий смысл!
Тут Дидерих дал себе труд нарисовать картину растленного демократией, а потому забытого богом царства Наполеона Третьего. Скрытый под личиной лжерелигиозности, распоясавшийся материализм прививал страсть к безудержной наживе, а пренебрежение духовными благами шло, естественно, рука об руку с низменной жаждой наслаждений. Общественной жизнью тогдашней Франции двигало стремление к показному, помпезному, неизменно переходившее во всеобщее гонительство. Опираясь во внешней политике только на престиж, во внутренней — на полицию, ни во что, кроме насилия, не веря, Франция Наполеона Третьего стремилась лишь к театральным эффектам, трескуче бахвалилась своим героическим прошлым, и единственно, в чем она действительно достигла вершины, это шовинизм…
— Все это нам неприсуще! — возопил Дидерих и взметнул вверх руку, призывая небо в свидетели. — Поэтому нас никогда не постигнет грозный рок, уготованный империи нашего исконного врага!
На этом месте речи блеснула молния; между цепью солдат и глухой стеной дома, где невидимый стоял народ, черную тучу прорезала яркая вспышка, за ней последовал удар грома, — это было уже слишком. Господа под тентом для «официальных» недовольно поморщились, а обер-президент вздрогнул. На офицерской трибуне все, разумеется, сохраняли безукоризненную выдержку, на штатской можно было заметить некоторое беспокойство. Взвизгивания стихли, когда Дидерих, соперничая с громовыми раскатами, прогремел:
— Господа, наш старый союзник подтверждает это! Мы — совсем другое дело. Мы суровы, верны и правдивы! Быть немцем — значит ратовать за дело во имя дела! Кто из нас когда-либо торговал своими убеждениями? Где найдешь у нас продажного чиновника? Мужская честность и женская чистота сливаются у нас воедино, женственное возвышает нас, мы не видим в нем орудия низменных наслаждений. Сияющий образ истинно немецкой натуры вырос на почве христианства, и это единственно надежная почва, ибо всякая языческая культура, как бы прекрасна и чудесна она ни была, погибает от первой же катастрофы; а душа германской культуры — это почитание власти, традиционной власти, против которой все бессильно. Поэтому мы и впредь должны видеть наш высочайший долг в защите фатерланда, нашу высочайшую честь — в королевском мундире, и наш высочайший труд — в ремесле воина.
Гром грохотал, правда, уже потише, словно присмирев под оглушительными раскатами дидериховского голоса; зато упали первые капли дождя, такие тяжелые, что слышно было, как они ударяются о землю.
— Из страны нашего исконного врага, — кричал Дидерих, — устремляется к нам мутный поток демократии, но немецкая стойкость, немецкий идеализм преградой встают на его пути. Французы — это враги божественного миропорядка, это люди без роду и племени, которые хотят подточить наш государственный строй, их надо истребить всех до единого, так чтобы в час, когда нас призовут к небесному сбору, каждый мог с чистой совестью предстать пред своим небесным судьей и своим старым кайзером, и на вопрос, от всего ли сердца ты действовал на благо империи, ответить, ударив себя в грудь: да!
И Дидерих опять с такой силой хлопнул себя в грудь кулаком, что у него сперло дыхание. Этой вынужденной паузой воспользовалась публика на штатской трибуне, там беспокойно задвигались, давая понять, что считают речь Дидериха оконченной; гроза нависла теперь прямо над головами торжественного собрания, и в желтом, как сера, свете медленно, точно предостерегая, непрерывно стучали о землю капли дождя с яйцо величиной… Дидерих отдышался.
— Когда через несколько мгновении спадут покровы, — начал он с новым пылом, — когда в знак приветствия мы склоним штандарты, опустим шпаги и, салютуя, сверкнут штыки…
Тут в небесах грохнуло так неистово, что Дидерих втянул голову в плечи и не успел опомниться, как очутился на корточках под трибуной. К счастью, он вылез прежде, чем его исчезновение было замечено, потому что остальные тоже попрятались кто куда. Вряд ли кто-нибудь уже слышал, как Дидерих, обратившись к его сиятельству господину обер-президенту, почтительнейше попросил отдать команду: «Сбросить покровы»… Так или иначе, но обер-президент вышел из-под тента для «официальных». Он был желтее обычного, мерцание его орденской звезды погасло, и он произнес слабым голосом:
— Именем его величества приказываю: да спадут покровы!
И они упали. Оркестр заиграл «Стражу на Рейне{36}». Зрелище Вильгельма Великого, скачущего верхом по воздуху с видом отца семейства, но окруженного грозными атрибутами власти, укрепило дух верноподданных, подавленных разбушевавшимся небом. Ура кайзеру, возглашенное обер-президентом, было с воодушевлением подхвачено. Звуки гимна «Славься в венке побед{37}» возвестили, что их сиятельству надлежит направиться к подножью памятника, осмотреть его и почтить краткой речью скульптора. Все понимали высокопоставленного мужа, который в нерешительности поднял взор к небу. Но, как и следовало ожидать, чувство долга победило, и победило тем блистательнее, что он единственный был во фраке среди множества собравшихся здесь храбрых воинов. Он отважно выступил из-под навеса и под дождем, падавшим крупными редкими каплями, направился к памятнику, а за ним — уланы, кирасиры, гусары и обоз… Вот уже все увидели надпись «Вильгельм Великий», вот уже скульптор выслушал обращенное к нему слово обер-президента, получил свои орден, и уже очередь дошла до духовного отца памятника, Геслинга, которого надлежало представить и украсить орденом, как вдруг небо разверзлось. Оно разверзлось от горизонта до горизонта и с такой яростью, что все это походило на долго сдерживаемый взрыв. Не прошло и минуты, как все стояли по щиколотку в воде. У его сиятельства из рукавов и штанин хлестала вода. Трибуны исчезли за каскадами ливня, тенты, точно окруженные бушующим морем, осели под тяжестью воды, справа и слева в их мокрых объятьях бились и кричали люди. Господа офицеры бросились на разбушевавшуюся стихию с обнаженными шпагами; вспарывая парусину, они прокладывали себе путь на волю. Штатские спустились с трибун огромной серой змеей, которая бешено извивалась в воде, захлестывавшей площадь. При таких обстоятельствах обер-президент счел за благо отменить дальнейшие номера праздничной программы. Озаренный молниями, взметая фонтаны брызг, он начал поспешное отступление, а по его пятам бежали флигель-адъютант, оба дивизионных генерала, драгуны, гусары, уланы и обоз.
По дороге его сиятельство вспомнил об ордене, все еще висевшем у него на пальце и предназначенном для духовного отца памятника, и, до конца верный долгу, однако не желая ни минуты задерживаться, он на бегу, взметая брызги, передал орден фон Вулкову. Тот, повстречав полицейского, еще не спасовавшего перед натиском событий, в свою очередь доверил ему вручение высочайшего отличия, и полицейский, невзирая на светопреставление, творившееся вокруг, пустился на поиски Дидериха. Он нашел его под ораторской трибуной сидящим на корточках в луже воды.
— Вот орден, держите, — сказал полицейский и бросился что есть духу бежать: блеснула молния, да так близко, точно она хотела помешать вручению ордена. Дидерих только вздохнул.
Когда он решился, наконец, выглянуть одним глазком из своего убежища, он увидел, что мятеж все разрастается. Большой черный брандмауер напротив треснул, казалось, он вот-вот рухнет вместе с домом позади него. Лошади, запряженные в парадные кареты, вздымались на дыбы над клубком человеческих существ, озаряемых призрачными бледно-желтыми и голубоватыми вспышками, и пускались вскачь.
Счастливо унесла ноги публика попроще, стоявшая за цепью полицейских, а имущие и просвещенные попали в такой переплет, что им уже мерещились носящиеся над их головами обломки ниспровергнутого строя вместе с огнем небесным. Ничего удивительного, что их поведение соответствовало обстоятельствам, и иные дамы, далеко не по-рыцарски оттесненные от выхода, летели кувырком друг через друга. Уповая лишь на собственную доблесть, господа офицеры пускали в ход оружие против всякого, кто вставал у них на пути, а черно-бело-красные флаги, сорванные бурей с трибун, и тент для «официальных» носились в воздухе и хлопали сражающихся по головам. Вдобавок ко всему среди этого безнадежного хаоса полковой оркестр без конца играл «Славься в венке побед», играл даже после того, как было смято военное оцепление, а вместе с ним и весь миропорядок, играл, как на тонущем корабле, возвещая смертный страх и всеобщую погибель. Новый порыв урагана разбросал, наконец, и музыкантов, и Дидерих, шатаясь от головокружения, зажмурив глаза и ожидая конца света, снова нырнул в прохладную глубину своей кафедры, за которую он цеплялся, как за последнее, что осталось на земле. Прощаясь с жизнью, он увидел совершенно сверхъестественную картину: забор вокруг парка, увитый черно-бело-красными полотнищами, рухнул под тяжестью наседавших на него беглецов, люди перекатывались друг через друга, карабкались на гору сбившихся тел и сползали с нее, кувыркались, сцеплялись, стояли чуть ли не на головах и садились на чьи-то головы, а сверху хлестало, все сдувая и все выметая под непрерывные вспышки небесного огня, как после пьяного маскарада, выметая всех, господина и холопа, изысканнейшего офицера и пробудившегося от спячки бюргера, столпы общества, богом ниспосланных мужей, идеальные ценности, гусаров, улан, драгун и обоз!
Но всадники апокалипсиса промчались дальше; Дидерих понял, что это только репетиция судного дня, настоящий судный день еще впереди. Он рискнул покинуть свое убежище и увидел, что дождь все еще льет, что кайзер Вильгельм все еще высится на своем месте, со всеми атрибутами власти. Дидериху все время казалось, что памятник вдребезги разбит и унесен бурным потоком. От празднично украшенной площади осталось только страшное воспоминание, ни единая человеческая фигура не оживляла картины опустошения. Впрочем, нет, там, позади, кто-то двигался, да еще в форме улана: господин фон Квицин; он осматривал рухнувший дом. Пораженное молнией здание еще дымилось за остатками большой черной капитальной стены. Из всего блестящего общества только господин фон Квицин не поддался панике; его поддерживала некая идея. Дидерих читал его мысли. «Жаль, — думал фон Квицин, — что не удалось сбыть этому сброду дом. Ничего нельзя было поделать, уж я ли не старался. Но страховку-то я получу. Есть еще бог на свете».
И он пошел навстречу пожарной команде, которая, к счастью, уже мало что могла спасти.
Поощренный его примером, Дидерих отважился пуститься в путь. Шляпу свою он потерял, в башмаках хлюпала вода, в отвисшей складке брюк назади у него образовалось целое озеро. На извозчичий экипаж нечего было рассчитывать, и он решил пойти через центр. В закоулках старых улиц ветру негде было разгуляться, и Дидериху стало теплее. «От насморка я застрахован. Но компресс на живот Густа мне положит. Только бы она, чего доброго, не занесла в дом инфлюэнцы!» Эту мысль вытеснило воспоминание об ордене. «Орден Вильгельма, учрежденный его величеством, дается только за выдающиеся заслуги в борьбе за процветание и облагораживание народа»…
— Орден у нас в кармане! — сказал Дидерих на всю улицу, где никого не было. — Хотя бы с неба падал динамит! Бунт против власти со стороны стихийных сил был попыткой с негодными средствами. — Дидерих показал небу свой орден Вильгельма, крикнул: — Чья взяла? — и прикрепил его рядом с орденом Короны четвертой степени.
На Флейшхауэргрубе, перед домом старого Бука, стояло несколько экипажей, в том числе и сельская двуколка. Уж не..? Дидерих заглянул в дом; стеклянная входная дверь была, к его изумлению, распахнута настежь, точно ожидался редкий гость. В просторной прихожей стояла торжественная тишина, и только из кухни, мимо которой проскользнул Дидерих, донесся тихий плач: плакала старая служанка, опустив голову на скрещенные руки. «Значит, уже…» И Дидериху стало вдруг не по себе, он остановился, подумывая об отступлении. «Мне здесь теперь нечего делать… Ну, нет! У меня здесь есть дело, ведь все здесь до последнего гвоздя мое, я обязан позаботиться, чтобы они ничего не унесли». Но не только это влекло его вперед; от предчувствия чего-то очень тяжелого и серьезного у него спирало дыхание и начинались колики. Сдерживая шаг, поднялся он по старым плоским ступенькам и подумал: «Почет и уважение мужественному врагу, павшему на поле чести! Господь вершит свой суд, да, да, никто не знает, не окажется ли и он в один прекрасный день… Но, послушайте, есть же разница, дело может быть правое или неправое. А во славу правого дела ничего нельзя упускать; старый кайзер тоже, вероятно, должен был взять себя в руки, когда он отправился в замок Вильгельмсгеэ{38}, где ждал его разбитый наголову Наполеон».
Дидерих был уже в бельэтаже, осторожно ступил он в длинный коридор, дверь в конце коридора стояла настежь — да, и здесь стояла настежь. Прижаться к стене, заглянуть внутрь. Кровать, стоящая изголовьем к окну, а в ней на высоко взбитых подушках старый Бук, уже без сознания. Ни звука; неужели он один? Крадучись, Дидерих шагнул к другой стороне двери. Отсюда видны занавешенные окна, против них полукругом расположилась вся семья: ближе всех к кровати в застывшей позе сидит Юдифь Лауэр, рядом Вольфганг; никто бы не поверил, что у него может быть такое лицо. Между окнами — сгрудившейся стайкой пятеро дочерей вместе со своим банкротом отцом, теперь даже не элегантным. Дальше — недоучка сын и его жена, она тупо смотрит перед собой. Последний в ряду — Лауэр, тот, что отведал тюрьмы. Не напрасно эти люди держатся так тихо; в этот час они теряют последнюю возможность еще когда-либо играть ведущую роль в обществе. Пока старик был в силе, они принадлежали к высшему кругу и не знали нужды. Он пал, и они пали вместе с ним, он исчезнет, и они вместе с ним. Он всегда стоял на зыбкой почве, ибо не опирался на власть. Никчемны цели, уводящие от власти! Бесплоден дух, ибо ничего, кроме тлена, от него не остается. Самообман — всякое честолюбие, если нет кулака и денег в нем!
Но откуда такое лицо у Вольфганга? В нем нет горя, хотя из жадно устремленных на отца глаз текут слезы; оно выражает зависть, скорбную зависть. А все остальные? Юдифь Лауэр сдвинула темные брови, ее муж часто вздыхает, а жена старшего сына даже закрыла лицо своими натруженными руками. Дидерих в решительной позе стал в дверях. В коридоре темно, из комнаты его не видно, а если б его и увидели, что из того? Но старик? Его лицо повернуто к двери, и чувствуется, что там, куда устремлен его взор, есть нечто большее, чем реальные предметы, — видения, которые ничто не может заслонить от него. Отблеск их светится в его изумленных глазах, он медленно, как для объятья, раскидывает на подушках руки, пытается поднять их, поднимает, шевелит ими, словно машет кому-то, приветствуя… Приветствуя? Так долго? Кого? Вероятно, целый народ, но что это за народ, почему при его появлении таким нездешним счастьем просияли черты старого Бука?
Вдруг он испугался, словно увидел кого-то чужого, страшного, испугался, и у него перехватило дыхание. Дидерих, в дверях, выпрямился еще грознее, выставил живот с черно-бело-красной лентой, выкатил грудь со звездами орденов и на всякий случай сверкнул очами. Голова старика внезапно упала, низко, как подкошенная. Родные вскрикнули. Сдавленным от ужаса голосом жена старшего сына крикнула:
— Он что-то увидел! Он увидел дьявола!
Юдифь Лауэр медленно поднялась и притворила дверь. Дидерих уже успел скрыться.
БЕДНЫЕ{39}{40}
I Ненавидящие, любящие

И это было еще далеко не все, что вынужден был терпеть учитель Клинкорум. Когда он возвращался из города, то подчас, уже у самой виллы, его нагоняла директорская машина и, как ни спешил он войти в дом, успевала обдать пылью или грязью. Главный директор и тайный коммерции советник доктор Геслинг, облаченный в пыльник, сидел в своей машине, устремив вперед непреклонный взор, а учитель Клинкорум, прижатый к собственному забору, задыхался и в бессильной ярости смотрел ему вслед, пока зловонное облако, окутав учителя с ног до головы, не принуждало его зажмуриться. И тогда Клинкорум мысленно произносил свою вторую речь, но уже против собственности, — речь против тех, кто, владея собственностью, знать не хотят никаких границ в своем чванстве и высокомерии. А ведь главное в человеке — просвещенность, она всегда стояла и должна стоять на первом месте.
С этими мыслями он поднимался в свой кабинет. Отсюда он мог обозревать весь Гаузенфельд, а также пустырь позади рабочих казарм, тянувшийся до самого леса, до самой фабрики. Наступала ночь. Поблизости, над оградой кладбища, загорался фонарь, а вдалеке сияли прямые ряды фабричных огней.
Оттуда возвращались в поселок рабочие. Уже издали слышался дружный топот множества людей, он доносился до старика учителя, сидевшего в своем кабинете; и теперь Клинкорум уже не без уважения думал о повелителе всей этой людской массы, о Геслинге, хозяине Гаузенфельда, владевшем огромным богатством и удостоенном многих почетных званий. А как достиг такого успеха этот химик и бумажный фабрикант? Да ловкими коммерческими махинациями и политическими интригами, — разговоры о них не утихли в городе и поныне, шестнадцать лет спустя! И нельзя не уважать человека, собственными силами пробившегося в жизни. Но пусть и он уважает еще более высокие права! Долго копил деньги Клинкорум, и вот, наконец, на далекой окраине, у проезжей дороги, ему удалось приобрести этот уединенный дом, отраду его старости. Подобно обители муз, стоял он под сенью деревьев, любовно лелеемый, укрытый от взоров непосвященных. Только крестьянские телеги, запряженные широколобыми, тяжело переступавшими волами, медленно тащились мимо; а Гаузенфельд, единственное крупное предприятие во всей округе, местный центр бумажной промышленности, лежал по ту сторону поля — за лесом; отсюда его не было видно, и сюда не доходили ни его шум, ни его зловоние. И что же? Новый владелец Гаузенфельда вздумал расширить свое предприятие. Он вырубил лес, скрывавший неприглядные постройки, и теперь рабочий поселок все разрастался к западу, домишки подступали все ближе к усадьбе Клинкорума. Дошло до того, что этот народ вздумал тут же, за его забором, хоронить своих покойников. А после кладбища с Клинкорумом сыграли еще одну штуку — началась стройка казарм для пролетариев. Чудовищные громады домов покрыли своей тенью и самого Клинкорума и его скромное жилище, душили его своими запахами, засыпали сажей его дом и сад, с каждым днем все больше расширяя вокруг него зону варварской непросвещенности, с ее грубым топотом, бранью, криками, смертоубийством.
Но вот огни на фабрике погасли; они зажглись в казармах и в закусочной, помещавшейся во флигеле. Там уже начинался шум и крик.
Рабочий Карл Бальрих молча стоял у окна в своей комнате 101, корпус С, видел перед собой ту же картину, что и владелец виллы Клинкорум, и, так же как тот, размышлял о мире, в котором он жил. Правда, множество звуков, наполнявших дом и доносившихся справа, слева, сверху и снизу, заглушали его мысли, мешая ему сосредоточиться на чем-либо более отвлеченном. В воскресные дни, когда он отдыхал, и по вечерам, перед тем как уснуть, Бальрих слышал, как люди вокруг него ссорятся, целуются, шлепают детей, говорят о деньгах и о еде. В этом гулком вздрагивающем доме он слышал все, что происходило вокруг, что было жизнью этих людей и что уже не было жизнью: предсмертные стоны, последние хрипы умирающих. Но чаще, чем отголоски смерти, до него доносились голоса новорожденных, и тогда, смотря по настроению, он говорил себе: «Вот еще один труженик для рабочих батальонов» или: «Геслинг может смеяться, одним глупцом больше стало». Ибо рабочий Бальрих понимал, что при данном положении вещей главный директор Геслинг является как бы центром жизни всего поселка, ее высшей целью, ради него — все эти усилия, волнения, страдания. И не только фабрика — весь город работает на богача и существует только по его милости. Все в стране вращается вокруг него и ему подобных. Ради него существует и войско, и, говоря по правде, даже король только шут при нем. Он, Геслинг, содержит этого шута, а сам все богатеет. «Да, все решают деньги», — сказал себе Бальрих.
«Если бы все решали деньги, — размышлял между тем, стоя у своего окна, учитель Клинкорум, — то этот Геслинг по праву столкнул бы меня на ту последнюю ступеньку общественной лестницы, где влачат жалкое существование его наемные рабы, в то время как сам он…»
Сам он поселился за лесом. На зеленом холме, над застроенной им долиной, над ее нищетой и грязью, но огражденный от этого зрелища и зловония густой чащей деревьев. Там, на залитой солнцем и утопающей в ярких цветах роскошной вилле «Вершина», в кругу спесивой семьи, беспечно обитает великий собственник и виновник всей этой социальной гнусности — эксплуататор! Эксплуататор! Обличающее слово было произнесено. В кабинет Клинкорума вошли два друга — доктор Гейтейфель и консисторский советник{41} Циллих, и оба они повторили это слово. Да, чем человек образованнее, рассуждали они, тем сильнее развито в нем социальное сознание и чувствительность к обидам, которые наносит капитал с его вызывающей и разнузданной роскошью; ибо эта роскошь или существует рядом с удручающей нищетой, или, подобно гоночным автомобилям, безучастно проносится под рев клаксонов мимо обездоленных и их нищих лачуг.
Сестра рабочего Бальриха, жившая над ним, получила такую пощечину от своего мужа Динкля, что Бальрих услышал ее звук в своей комнате; Малли тут же отшлепала детей. Когда все вдоволь наорались, а соседи всласть нахохотались по случаю скандала, Малли, все еще продолжая всхлипывать, забормотала вечернюю молитву. Карл Бальрих снова вернулся к своим мыслям: «Все решают деньги». Но вот внизу Гербесдерфер заиграл на гармони, и Бальрих понял, что думать он не в силах. Трудно разобраться в том, что происходит в мире, постичь связь его явлений и управляющие им законы. Ораторы на собраниях говорят как-то уж слишком туманно. Чтобы понять их по-настоящему, а не одним только чувством нашей ненависти, нам надо самим пробиться к тем знаниям, к которым большинство из них приобщилось чуть не с колыбели. А как и где теперь набраться такой учености?
Гости, сидевшие в кабинете Клинкорума, брюзжали: это он не позволил подвести к Гаузенфельду электрическую железную дорогу. Он боится общения внешнего мира с его долиной скорби, не желает, чтобы посторонние заглядывали в нее. Своим рабочим он запрещает частые отлучки в город, не хочет, чтобы они посещали товарищей и собрания. А по воскресеньям пусть сидят в его кабаке. Пусть размножаются, как в гетто, чтобы ни одна крупица их уменья и труда не досталась никому, кроме него. А последствия можете себе представить!
— Что касается меня, — сказал учитель, — то мне доподлинно известно, что число физических увечий в Гаузенфельде на много процентов превышает обычные нормы. И не удивляйтесь, друзья, если в одно прекрасное утро меня, Клинкорума, найдут в луже крови! Не будь я столь убежденным сторонником тишины и порядка, я бы уже давно нашел способ вызвать негодование общественности.
За новой бутылкой вина ученые мужи подняли даже вопрос о том, действительно ли счастье человека со средним достатком, но стоящего на определенном духовном уровне, так уж зависит от прочности и нерушимости существующего порядка вещей… А когда бутылка опустела, собеседники начали предрекать уже самое страшное — катастрофу и даже светопреставление.
— Я вижу! — вдохновенно воскликнул Клинкорум. — Я вижу, как восстает некто, кто отомстит за меня! — И при этом уселся поудобнее в уголке дивана.
А в это время на той стороне улицы, в комнате, обращенной окном во двор, рабочий Бальрих пожелал спокойной ночи двум своим младшим братьям; он еще постоял у окна, прежде чем закрыть его, ветер бил ему в лицо, на широком лбу резко чернели сросшиеся брови. Сжав кулаки, вздернув плечи, словно поднимая непосильный груз, он продолжал мучительно думать, и казалось, он ворочает какие-то глыбы, пытается нащупать в темноте очертания своей судьбы: какая же она, куда она приведет его, сплетенная с судьбами других людей? Будущее представлялось ему печальным и сумрачным, как это унылое поле, которое расстилается перед ним, завершаясь кладбищем. Между собой и кладбищем он не видел ничего, кроме несправедливости и ненависти.
Когда ученые мужи в кабинете Клинкорума начали прощаться, разговор вдруг принял неожиданный оборот. Конечно, богачам нельзя отказать в том, что они приносят обществу неизмеримую пользу. Они поддерживают престиж нашей страны за рубежом, обеспечивают нашу боевую мощь, способствуют расширению наших границ. Да ведь и не все капиталисты такие, как Геслинг! А сам Геслинг? Разве можно не отдать должное его деловым способностям? Напротив, весь Нетциг из них извлекает пользу. Те немногие гаузенфельдские акции, которые он оставил в чужих руках, при блестяще проведенной им операции, сделавшей его главным директором предприятия, — теперь эти акции редчайшая ценность, они переходят по наследству от отца к сыну. У каждого из трех собеседников было основание заподозрить остальных в том, что у них есть по нескольку этих акций, но так как ни один не заикнулся об этом, то не выдал себя и Клинкорум. И, только прощаясь, каждый будто бы мимоходом спросил:
— Кстати, а как они стоят сейчас?
Ненависть! Она переполняла сердце Бальриха. С нею ложишься и с нею встаешь. В шестом часу, подняв воротник, бежишь на фабрику, по серому, словно озябшему шоссе, и сотни людей молча спешат вместе с тобой. Топот спереди, топот сзади, топот в тебе самом, однообразный, точно стук машин. Все обречены терпеть несправедливость, всех душит ненависть, неотступная, привычная, как спертый воздух, как грохот в цеху. И кто же в конце концов наш злейший враг? Геслинг, для которого, надрываясь, гнешь спину, или Симон Яунер, такой же наемный раб, как ты? Ведь с сегодняшнего утра это он, Яунер, стоит у бумагорезательной машины, на том месте, где вчера еще работал Бальрих, — внизу, куда поступают готовые листы бумаги и где есть рядом дверь, открыв которую, можно хоть глотнуть свежего воздуха. Отдать самое лучшее место — и кому? Яунеру, который путался с женой механика Польстера! Да она еще приходится родной сестрой его зятю Динклю! Все утро Бальрих обливался потом, больше от ярости, чем от жары. А когда мимо прошел инспектор и спросил у Бальриха, почему это они поменялись местами, тот только молча стиснул зубы. «Это наше дело почему, а вам, господа, нечего во все совать свой нос!» Инспектор, разумеется, отлично знал всю подоплеку этой истории. Он сам сейчас крутил любовь с женой механика Польстера. Вот почему он велел доложить о себе господину старшему инспектору, а когда раздался гудок на обед, оба даже отправились к главному директору Геслингу. Затем в кабинет директора был вызван механик Польстер, и тотчас же этот толстяк рогоносец вылетел оттуда весь красный, побагровела даже плешь. А Бальриху вернули его старое место у машины, оказалось, что Геслинг справедлив.
Об этом только и было разговору по пути в столовую. А когда мимо проходил служащий дирекции, многие нарочно старались заявить как можно громче, что вот, дескать, Геслинг поступил по справедливости. И даже Яунер это признал, уж такой он был человек. А Бальрих, к которому сегодня без конца приставали с расспросами, весь день раздумывал об этом случае: ведь Геслинг оказался справедливым, это ни с чем не вязалось; и только вечером, стоя у окна, он понял: наверно, до Геслинга дошли слухи о любовных шашнях Польстерши, а для него, конечно, ради его собственной выгоды важно, чтобы на фабрике был прежде всего порядок. Тем хуже, значит, он может быть справедливым, когда ему выгодно, и богачи, выходит, наживаются на собственной добродетели… Бальрих вернулся к этой мысли на другое же утро. Так вот оно что…
Было воскресенье. Наверху опять началось плаксивое бормотанье его сестры Малли, читавшей утреннюю молитву, и едва она умолкла, как поднялся невообразимый шум.
На этот раз Бальрих услышал и голос Лени, своей младшей сестры, поэтому он тут же бросился наверх, чтобы узнать, в чем дело. А там на него точно выплеснули ушат помоев. Малли якобы застала Динкля за дощатой перегородкой у Лени и, невзирая на свою беременность и на троих детей, вцепившихся в ее огромный живот, кричала мужу, что пусть не воображает, он не один дружок у Лени; в ответ на это Лени разревелась, а Динкль от смущения стал, как обычно, строить гримасы.
— Неужели тебе не совестно, — сказал Бальрих замужней сестре, — я же вижу, что все это опять твои выдумки… — И он привлек к себе Лени, обхватив ее за плечи. Хотя он не знал настоящей правды, но не мог поверить, что она способна на такую гадость. Он любил Лени; он любил ее настолько сильнее, чем старшую сестру Малли, что даже упрекнул себя за это — и больше не сказал ни слова. Лени еще могла позволить себе быть красивой, стройной и опрятной, но бедняга Малли уже никогда не станет такой. «И я, когда женюсь, наверное, стану таким же, как этот Динкль». Раньше Малли никогда не врала. Теперь, встав с постели и помолившись, она какой-нибудь очередной сплетней поднимала на ноги всех соседей. Обитатели этого дома были хорошие люди, но бедность заставляла их казаться дурными, а богатые, будучи дурными, могли казаться даже справедливыми.
Но вот Польстерша заявила, будто Динкли украли у нее молоко. Опять скандал, опять слезы, и от волнения у Малли начались родовые схватки. Польстерша тут же, как родная сестра, бросилась помогать ей, раздела, уложила в постель, пообещала Динклю накормить его, а всех троих ребят увела к себе: у нее самой не было детей, поэтому Польстеры могли позволить себе роскошь — жить в двух хороших комнатах. В одной стояла плюшевая мебель, комнатные растения и фонограф, — вещи, видимо, приобретенные не без участия друзей хозяйки. Но стоит ли быть таким уж щепетильным?
Динкль особенно радовался, что семейное событие пришлось как раз на воскресенье, и Малли, по всей вероятности, потеряет не больше двух рабочих дней. После обеда, когда Бальрих зашел еще раз проведать сестру, Динкли удостоились почетного визита: их посетила супруга главного директора Геслинга и ее золовка Эмми Бук. В дверях они остановились и начали так гримасничать, словно их душили: верно, на них подействовал спертый воздух, к которому они не привыкли. Все же им стало неловко, и они тут же начали утешать Малли и сюсюкать перед нею, точно перед больной канарейкой. Затем пошептались с акушеркой, время от времени изумленно поднимая брови. Бальрих так долго и пристально разглядывал Эмми Бук, что супруга директора, заметив это, вполголоса предостерегающе окликнула ее и схватила за руку. При этом Эмми Бук уронила сумку, а Бальрих бросился вперед и мигом поднял ее. Когда он протянул Эмми сумку, та сначала отдернула руку и только под строгим взглядом невестки, наконец, взяла. Бальрих между тем вдыхал аромат, исходивший от Эмми, — аромат фиалок.
«Она еще красива и стройна, — наши девушки бывают такими только до двадцати лет. У Лени тоже золотисто-пепельные волосы, но у Эмми Бук они не пропылены». Взяв у него сумку, Эмми подняла на него глаза и даже улыбнулась застенчиво и как бы примирительно; но, когда она увидела его сросшиеся брови, улыбка тут же исчезла, и Бальрих ушел за дощатую перегородку к Лени.
Динкль последовал за ним, игриво ткнул его в бок и шепотом спросил, чего это он вздумал прятаться. Ведь одна гостья что-то заглядывается на него, и теперь Бальриху, наверное, удастся получить на фабрике тепленькое местечко. Динкль острил, как обычно — ведь все это его не касалось. Бальриха же слишком касалось, и у него было такое же чувство, как в тот раз, когда его уволили с работы. Эта Бук обошлась с ним, точно он дикий зверь: его боятся и все-таки к нему не относятся серьезно; для нее Бальрих не мужчина.
Наконец дамы ушли. Динкль, лебезя перед ними, проводил их до площадки лестницы; но тут-то и стряслась беда. Не успел Динкль выпрямить спину после почтительнейшего поклона, как произошла неожиданная катастрофа: обе дамы мгновенно растянулись на ступеньках лестницы, с головы Геслингши слетела шляпа вместе с половиной ее седых волос. А наверху, перегнувшись через перила, хохотали до упаду Динклевы дети. Тут только отец смекнул, кто виновники происшествия. Стиснув кулаки, он кинулся на детей, разогнал их и поспешил на помощь дамам. К счастью, снизу подоспел Гербесдерфер, и с его помощью дам удалось поднять…
— Боже мой, как это случилось? — с напускным удивлением воскликнули они в один голос. — Кажется, на ступеньках мыло?
Динкль пытался отрицать столь невероятное предположение, — это просто необъяснимая история, а Гербесдерфер только промычал своим хриплым голосом: «Осторожнее!» — и на всякий случай распростер свои сильные руки. Дамы же попросили обоих рабочих посмотреть, не испачкались ли они сзади, и, когда Динкль, при всем своем усердии, не нашел на них никаких следов мыла, они все же обнаружили его.
— Как же быть? Нам ведь надо в город пить чай к знакомым! неужели ехать домой переодеваться?
Динкль посоветовал им так и сделать, но дамы запротестовали.
— Да на это уйдет полчаса, а что скажет генеральша!
Затем они обратились к Гербесдерферу, чтобы узнать и его мнение, однако безуспешно, он лишь насупился. Тут вдруг появилась Польстерша и, всплеснув руками, вызвалась отмыть все следы с одежды пострадавших, по поводу чего сейчас же состоялось техническое совещание. Но оно ни к чему не привело. Динкль настойчиво советовал дамам вернуться домой, ссылаясь при этом на исключительную быстроходность директорской машины.
— Вероятно, вы правы, — согласилась супруга главного директора. — Ведь это американский «шаррон».
Динкль подчеркнул преимущества германской промышленности, пусть даже она несколько и отстает. Это утверждение не вызвало серьезных разногласий, и благодаря любезности обеих сторон беседа не прерывалась до тех пор, пока гостьи вместе с провожающими не вышли на улицу. Однако, увидев своего шофера, дамы мгновенно преобразились, а усевшись в машину, отвечали на поклоны рабочих только легким движением век, даже не поворачивая головы.
Динкль был очень доволен и, когда машина уже отошла, все еще продолжал хохотать так, что все его тело тряслось от смеха. Детям, которые прокрались следом за ним, он надавал шлепков, но сам смеялся при этом, и все смеялись вместе с ним, и Польстерша, и соседки.
Когда вся орава провожавших снова устремилась наверх, они чуть не сбили с ног Бальриха. Он стоял на площадке лестницы и, казалось, был погружен в созерцание мыльного пятна на ступеньке… Он посторонился без улыбки, а наоборот, хмуря брови. Динкль хлопнул его по плечу и потащил с собой в закусочную, заявив, что Малли сегодня не до них.
В закусочной было полным-полно народу. Вошедших засыпали вопросами по поводу несчастья с высокими гостьями. Эта история занимала всех. Слово «мыло» склонялось на все лады, оно служило темой для острот, мало отличавшихся одна от другой, но неизменно вызывавших неистовый хохот.
К Бальриху, Динклю и Гербесдерферу подсел старик маляр, поселившийся с недавнего времени в подвале у Клинкорума. Неугомонный бродяга и лодырь, кое-как перебиваясь, всю жизнь шатался он по свету, покуда старые кости не запросились домой, в Гаузенфельд, где у него еще была родня. Маляр и Бальрих сидели молча, пока Гербесдерфер не обратился к ним с вопросом. Он говорил нескладно, как дикарь, и с таким усилием, будто день ото дня терял дар речи. Он спросил, почему это богатым дамочкам вдруг вздумалось заявиться незваными к работнице и глазеть на ее родовые муки? Что она, корова? Динкль тихонько толкнул его под столом, показал монету в двадцать марок, которую дали гостьи, и громко сказал:
— Должно быть, со скуки заехали. Видно, у генеральши еще чай не готов.
Бальрих разволновался. Он готов был встать и заявить здесь, перед всеми, что и у богатых бывает доброе сердце! Он все еще видел перед собой застенчивую улыбку Эмми Бук, и среди дыма и чада ему чудился запах фиалок. Но старик маляр пристально поглядел на него, ухмыляясь в свою козью бородку, и, опередив его, заявил:
— Знаю я, зачем они приходили к Малли, я тоже видел раз, как одна богатая стерва примчалась поглазеть, когда работнице прихватило руку машиной. Она заранее приказала, чтоб ей дали знать, если случится какая беда.
— Ты видел это своими глазами, дядя Геллерт? — угрожающе спросил Бальрих; в эту минуту ему вспомнились девчушки, которых заманивал к себе старик.
— Да, своими глазами. А работница та стала потом моей женой, это твоя двоюродная бабушка.
— Ну, тогда конечно… — пробормотал Бальрих, задумчиво уставившись на стол. — Надо держаться подальше от тех, у кого есть деньги, — это лучше всего. — И мысленно попросил прощенья у своей сестры Лени, что предпочел ей богачку и провел почти целый час в ее обществе.
К его столу неслышно подошел Симон Яунер. Он подслушал последние слова Бальриха, хотя они были сказаны шепотом. Яунер стукнул по столу, как бы в порыве гнева.
— Подальше от денег, говоришь ты? А что толку? Надо вот так! — И его кривые пальцы хищно заскребли по столу, будто собирая что-то. Бальрих, отлично знавший, кто такой Яунер, возразил:
— Лучше я буду есть собственный хлеб, который честно заработал, — и отрезал ломтик от своего хлеба.
Яунер опустился на скамью рядом с Бальрихом. Так как ему не удалось занять место Бальриха у машины, он решил, что теперь выгоднее сблизиться с ним. Он даже дружески схватил Бальриха за руку и настойчиво заговорил:
— Твой собственный хлеб, который ты честно заработал? Геслингов хлеб, хочешь ты сказать! Ведь на его фабрике ты зарабатываешь ровно столько, чтобы жить в его казарме и есть в его кабаке. А что сверх того, то от лукавого, — заключил он язвительно и оскалил желтые зубы; его желтые глаза сверкнули.
Рабочие отлично знали, что каждое их слово станет известно инспектору. Ведь именно инспектор только что насолил Яунеру, так перед кем же, как не перед ним, теперь заискивать? И все-таки им было трудно сдерживать себя.
Ведь это правда, что закусочная и казарма с лихвой возвращают Геслингу то, что он платит рабочим. Бесконечным и неудержимым потоком течет золото в один и тот же карман, рабочие же со своими натруженными руками, их отцы, жены, их дети стоят подле и жадно смотрят на него… Для Геслинга производят они на свет детей, так же как производят для него товары, пьют и едят для него.
— За здоровье Гад-слинга! — воскликнул Динкль, и за всеми столами подхватили этот тост. Как сладко было излить душу в одном этом слове, хоть раз назвать по имени эту ненависть и всю ее горечь испить в стакане вина. Ведь с ней засыпаешь и с нею встаешь! Только в плоть не облеклась она, и нет у нее кулаков, но каждая минута, пережитая нами, живет в нашей памяти. Мы помним все: несправедливую власть, в руки которой мы отданы, обиды и издевательства — каждую минуту, на каждом шагу, жестокую корысть, ради которой из нас выжимают соки, обман и презрение. Вы воображаете, что мы забыли? Вы, может быть, думаете, что мы уже не замечаем смрада в каморках битком набитых казарм, которые вы строите для нас? Напрасно консисторский советник Циллих при освящении казарм «С» и «Т» морочил нас баснями, будто это означает «смиряйся и трудись». Нет, не смирение и труд, эти казармы — просто сортир. Их зловоние по-прежнему бьет нам в нос, и мы ничего не забываем, ничего! Вполне понятно, заметил Бальрих, что дам Геслинг и Бук чуть не стошнило от нашей вони. Смешно только, что сами они почему-то сконфузились.
— Будь они в нашей власти, как мы в ихней, мы не стали бы церемониться с ними! — Динкль и Яунер самым наглядным образом показали, что они сделали бы сегодня же с этими богатыми бабами, несмотря на седины одной из них. У Гербесдерфера вырвалось даже какое-то рычание, предвещавшее кое-что похуже. Нос картошкой особенно резко белел на его багровом лице, из распахнутого ворота выступала белая кургузая шея. Глаза за круглыми очками смотрели в одну точку, словно перед ним вставали призраки.
Динкль вдруг оказался на середине комнаты и, заложив большие пальцы в проймы своего пиджачка в коричневую клетку, стал представлять рабочего, который вышел прогуляться, а навстречу ему — богатый фат. Богатого фата изображал Яунер; он снял с гвоздя котелок, расправил на нем все вмятины и надел его на голову. Поравнявшись с Яунером, Динкль вдруг поднес кулак почти к самому его подбородку, причем Яунер изобразил страшный испуг, а Динкль сделал вид, будто хотел только сунуть в рот папиросу. Все шумно выразили свое одобрение. Вот это здорово! Стоит только погрозить пальцем — и богач готов хлопнуться в обморок, ведь они живут будто во сне. Ходят по улицам и не замечают, как они одиноки среди нас, рабочих, и как их меховые шубы теряются среди тысяч залатанных, ветром подбитых курток. Только и есть у них союзников что полиция… Они ничего не замечают, они спят. Никогда ничего не изменится, думают они. Ведь они привыкли к тому, что есть, им легче было привыкнуть к своей жизни, чем нам к своей.
Тут в разговор вступил Гербесдерфер, которому давно уже не терпелось высказать все, что в нем накипело. Он выпростал свои непомерно огромные кулаки, — один палец был перевязан, — разжал их и сжал с такой яростью, что хрустнули суставы, и, словно ему было трудно говорить от избытка сил, заявил:
— Скоро все будет по-другому!
Бальрих, сидевший напротив, почтительно слушал его и почти не почувствовал легкого толчка в бок — старик Геллерт хотел привлечь его внимание и что-то сообщить. Видимо, он уже давно носил это в себе, и общий подъем, наконец, развязал ему язык.
— Давно уже все могло бы стать по-другому, — зашептал он, — и стало бы как раз наоборот. Ведь это я помог Геслингу начать дело. Ведь я бы мог нынче сидеть на его месте…
Бальрих изумленно уставился на него; но старик уже поджал губы и пришипился, будто ничего и не сказал. Бальрих в первую минуту даже оторопел, но после минутного раздумья только раздраженно пожал плечами. Старческая пустая болтовня, не стоящая внимания!
Разговор перешел на партийные дела. Партия отнюдь не безупречна. И в ней есть элементы, которые больше думают о себе, чем о рабочем классе. Яунер, громче всех выражавший свое недовольство, стал бранить товарища Наполеона Фишера, рабочего депутата: он хоть и провертывает немало всяких дел, но больше ради себя, чем ради нас. Он заодно с Геслингом и с правительством в полном ладу, ни в чем им не перечит. А чего он добился тем, что голосовал за непомерное увеличение армии? То страховку дадут, то лишнюю пенсию, только и всего. А ведь был таким же рабочим, как и мы, да еще у Геслинга. Чего же ждать от других, от белоручек?
Да, все это верно. Именно эти слова Яунера были встречены куда более сдержанно, чем разыгранная им и Динклем сценка, в которой они высмеивали имущий класс и работодателей. Но тут уж не до шуток, думали рабочие, надо быть начеку, ибо нашептыванья Яунера партийному чиновнику Наполеону Фишеру могут обойтись подороже, чем его донос старшему инспектору, правой руке Геслинга. Все же одно можно сказать наверное: страховка и пенсии имеют две хорошие стороны — и рабочим польза и богачам спокойнее спится. Динкль, самый неосторожный из всех, пошел дальше. Он заявил напрямик: важнее всего даже второе, то есть спокойный сон господ, а что касается рабочих, то не родился еще тот старик, который смог бы прожить на эту подачку, на так называемую пенсию.
— Мой родной отец, — взволнованно продолжал Динкль, — как бы я его ни срамил, в обед всех соседок обойдет со своей миской, пока мы на фабрике.
Старику Динклю только и оставалось, что просить милостыню: дети отбирали у него пенсию, а кормили впроголодь. Это было всем известно. Но кто упрекнет товарища, на чьих руках жена и четверо детей? Уж лучше пусть голодает старик.
Гербесдерфер, гнев которого давно остыл, сидел, морщась от страха, и ныл хриплым голосом. Он жаловался на врача страховой кассы, который выписал его на работу, хотя у него после несчастного случая все еще болит коленка. На улице, при ходьбе, ничего; а как придет на фабрику, коленка у него опять заноет и от страха, что он упадет между колесами машины и будет размолот вместе с древесиной, голова начинает кружиться.
— Мы знаем, как оно бывает… — отзывались люди за другим столом.
Да, слишком хорошо был всем знаком этот страх.
— Руки да ноги — это ведь все, что у тебя есть. Ими только и живут твои жена и дети. А все эти врачи делают вид, будто у нас могут вырасти новые.
— Нет уж, ему не вырасти, — задыхаясь от злобы, сказал кто-то за дальним столом и поднес к лампочке руку, на которой недоставало пальца. Вслед за ним и Гербесдерфер, хрипло скуля, тоже поднял забинтованный палец. И вот через два стола, потом рядом, потом над всеми столами к свету потянулись пальцы в плотных белых бинтах и руки, иссеченные темными неизгладимыми шрамами труда… И когда все эти забинтованные руки замелькали в воздухе, по комнате вдруг разнесся резкий запах, которым всегда пахло от рабочих, по который обычно заглушали испарения человеческих тел и табачный дым — запах карболки.
И Карл Бальрих, насупившись, стал ощупывать под столом больной палец, обмотанный холщовой тряпицей. На лицах всех этих людей лежала тень глубокого раздумья — они размышляли о своей жизни. Вдруг среди наступившего безмолвия раздался голос Бальриха:
— Пробьет час, и справедливость победит!
— Верно! — послышалось кругом, приглушенные возгласы одобрения и веры слились в тихий гул. — Да, мы на пути к справедливости. И пусть видишь с каждым днем все яснее, как он долог, этот путь, все равно — дни богатых уже сочтены. Дорого обходятся нам богачи, но придет время, и нашим станет все, что сегодня мы отдаем им. В просторных залах мы все вместе будем есть вкусную пищу, машины тоже станут нашими, они будут работать на нас. А тем придет конец. Кабы не эта вера, нам оставалось бы только спиться и грабить их дома.
Мы не делаем этого, потому что мы разумнее их. И нам дышится легко, да, легко, даже в этом удушающем смраде, потому что на нашей стороне разум и будущее. А вы там ослеплены стяжанием и даже не знаете, какие сокровища у вас в руках. Кто из вас ценит знание и ум, как их ценим мы? Вы забыли про них, вы заплыли жиром. А мы — мы знаем, что разум завоюет весь мир и что разум — его высшая цель. Каждая библиотека, которую нам удается сколотить или вырвать из ваших жадных рук, — это новая веха на пути к нашему возвышению и к вашей гибели.
Динкль, вдруг сорвавшись с места, воскликнул:
— А больше всего меня радует, что он выложил сто тысяч марок на нашу библиотеку!
И все возликовали, вспоминая это поражение главного директора. Правда, немало пришлось сражаться и с руководством библиотеки: по уставу, при закупке книг слово имели и служащие фабрики, а они всячески препятствовали пополнению библиотеки партийной литературой. Гербесдерфер ухмылялся, втайне торжествуя победу. Со вчерашнего дня в его комнате хранился под запором «Капитал».
Бальрих испытующе посмотрел на него: большие очки, замкнутое, как будто невыразительное, огрубевшее лицо, на котором написаны постоянная тревога и страх, как бы оно вдруг не выдало таившуюся в этом человеке смелую и стойкую душу.
«Вот мы какие, — думал Бальрих. — Мы слишком слабы, хотя и кажемся сильными. Книги, которые учат нас, как сбросить с себя цепи эксплуатации и нищеты, лежат у нас под спудом, а мы сидим здесь, изнуренные рабским трудом целой недели, и даже не знаем, как воспользоваться этим оружием. И если одному из нас все же и удается постичь то, что говорит наука, то своим детям он не в силах облегчить жизнь! Мы все равно стоим на том же месте и стараемся взять от жизни только те радости, какие нам позволяет наша бедность».
Тут Бальрих вспомнил, что его ждет девушка, она могла бы стать его девушкой, если бы он захотел. Но хочет ли он? И она ли именно та девушка? Не торопясь, поднялся он с места, подошел к соседнему столу, чуть не подсел к товарищам, — а когда, наконец, выбрался из закусочной, то увидел, что возле кладбищенской ограды девушка уже ждет его. Она стояла в наброшенном на плечи коричневом платке, слегка наклонившись вперед, видимо уже давно всматриваясь в темноту, и заметила его, только когда он подошел совсем близко.
— Тильда! — ободряюще крикнул он.
Она молча подняла голову. Лицо ее было полно глубокой скорби. А он шел к ней — такой статный и широкоплечий, такой сильный и решительный; и темный вихор так задорно торчал из-под кепки, что Тильда не могла не улыбнуться ему.
— Ты уже была там? — спросил он вполголоса, указывая на калитку кладбища.
Она кивнула:
— Теперь у моей крошки есть все, что ей надо. Хорошо бы и нам отправиться туда же.
— Не говори так, — решительно возразил он и уже мягче добавил — Зайдем еще раз?
Но Тильда покачала головой, и он не настаивал. Зачем? Это только расстроит ее. И разве их будущее не светлее того, что осталось позади?
— Уйдем отсюда! — твердо сказал он и, взяв ее под руку, ускорил шаг. В тени ограды, осененной кустами, она прижалась к нему, и он ощутил прикосновение ее бедер. У нее были широкие бедра, высокая грудь и усталое осунувшееся лицо, а ее глаза смотрели на него с тревогой. Когда ограда кончилась, вокруг них засвистел ветер. Бальрих плотнее закутал Тильду в ее платок. Ведь только март. В наступавших сумерках перед ним смутно темнело поле; они шли, перешагивая через дождевые лужи. Направо, меж чахлых деревьев, виднелись домики, так называемые «виллы рабочих», но в них жили преимущественно фабричные служащие. Получить здесь жилье могли лишь те из рабочих, кто был на особо хорошем счету у начальства. «Вот Яунера поселят здесь, а нас нет», — подумал Бальрих.
Они то расходились, чтобы обойти лужи, то снова шагали рядом, обсуждая свои дела. У Бальриха было два младших брата, один еще школьник, другой поступил учеником на фабрику. Дочурка уже перестала быть для Тильды обузой, говорил Бальрих; остается еще ее старуха мать, она слишком слаба, чтобы работать.
— Кабы не твоя мать, — сказал он в порыве нежности, — ты, моя бедняжка, могла бы вовсе не работать, я бы уж заработал на двоих.
Девушка бросила на него горький и недоверчивый взгляд и резко заявила, что ей ничего не нужно, мать ей так же мало в тягость, как была и дочка.
— Тебе хотелось бы, чтобы и она уже лежала на погосте!
Тут Бальриху стало ясно, что Тильда не понимает его. Как же они будут любить друг друга? Надо было настоять на своем и пойти вместе с ней на могилку девочки. Теперь она вообразила, будто он осуждает ее за то, что у нее был ребенок, и, наверное, всегда будет осуждать. «Нет, это не так, — ответил он себе. — В самом деле, не так. И все же ведь у нее до меня была своя жизнь». Она знала другого, даже, кажется, двоих. А теперь она и о нем дурного мнения. Ей двадцать, они ровесники. Он тоже был близок с двумя. Однако для него это прошло бесследно, он мог бы полюбить так, как любят впервые. Но почему он должен любить именно ее? Тильда казалась порой такой далекой, словно она из другой страны. Внезапно, заслонив ее, перед ним предстал образ Лени, его сестры, нетронутой и беззаботной, еще не потерявшей надежды на счастье. Лени была одной крови с ним, родная, близкая, воплощение лучшего будущего. А Тильда — как она надломлена…
Может быть, ей передались его мысли? Она подняла голову, с укором посмотрела на него и, желая как можно больнее задеть, сказала:
— Смотри в оба за своей сестрицей Лени — ей ничуть не труднее заполучить ребенка, чем каждой из нас.
Но Бальрих не дал уязвить себя. Он крепче прижал к себе ее локоть и мягко прошептал:
— Твоя дочка была славная милая девочка.
Она старалась вырваться, но он не отпускал ее, и под конец она сдалась, тихо припала к нему, и из ее сомкнутых глаз полились слезы. Медленно шли они навстречу ветру и в сгущавшихся сумерках добрались до «рабочего» леса, где стояли скамейки; все также обнявшись, сели на влажную холодную скамью под оголенными, темными мощными ветвями. Перед ними была фабрика, а за тремя рядами фабричных зданий садилось солнце, затянутое облаками, похожими на пряди дыма. Глядя на зарево заката, оба думали об одном: как хорошо бы сейчас посидеть где-нибудь в тепле. Позади, за высокой изгородью начинался «господский» лес; в начале запущенный, он по мере приближения к усадьбе становился все чище, переходил в цветущий прелестный сад, защищенный от ветра и злых завистливых взглядов; среди деревьев стояла вилла «Вершина», этот запретный рай.
— Там никто не зябнет, — промолвила девушка. А Бальрих сказал:
— Им там есть чем прокормить тех, кого они любят.
Однако солнце скрылось, ветер стал холоднее, пошел дождь, и они поднялись. Тильда хотела вернуться, но Бальрих увлек ее в сторону фабрики. Он знает место, где можно спрятаться от дождя. И Тильда увидела это убежище: то были вагоны, в которых со станции возили тряпье на фабрику. Один вагон был открыт. Девушка не решалась войти в него.
— Почему? — спросил Бальрих. — Потому что там вонючие тряпки?
— Что мне до этого? — ответила она. — Я всю жизнь работаю в тряпичном цехе.
Он подсадил ее, и она влезла в вагон.
— Здесь хоть сухо, — сказал он.
— И даже тепло, — прошептала она, покоряясь его жадным рукам.
И когда в полутьме вагона она, прижавшись к его груди, стала искать его взгляда, он закрыл глаза, чтобы остаться наедине со своими мыслями. Это лучшее, что есть у нас, а потом становится еще хуже. Любовь существует только для того, чтобы пролетарии размножались. Мы на Геслинга работаем даже здесь, да еще на наших лидеров. И Геслинг и наши лидеры сходятся на том, что нас все еще недостаточно; им нужен человеческий материал.
— Но эти минуты — наши, — прошептала девушка, — и никому их у нас не отнять. Целуй меня, любимый!
Они вдруг отпрянули друг от друга. Кто-то забарабанил в стенку вагона, и чей-то огромный силуэт показался в дверях. Смотритель! Он раскричался, браня на чем свет стоит этот сброд, который на чудном тряпье занимается пакостями. Когда Бальрих наконец вышел, смотритель схватил его за ворот и поднес к его лицу карманный фонарик. Но Бальрих оттолкнул его, вытащил Тильду из вагона, и вот они уже бегут, осыпаемые бранью смотрителя, бегут в одиночку под дождем, не видя друг друга в темноте. И только у кладбища они встретились. Под фонарем он увидел Тильду, она промокла до нитки: при бегстве ее платок остался в руках смотрителя. Бальрих тотчас снял куртку и накинул ее на себя и на девушку. И они пошли, прижавшись друг к другу. Казалось, под одной курткой одно тело и одна душа. Тильда дрожала от холода, а он от гнева.
Закусочная была едва освещена. Изнутри не доносилось ни звука, но у входа они увидели Симона Яунера и рядом с ним, возле стены, две тени — кажется, двое господ.
Неужели это старший инспектор… а другой… о боже! Сам!.. Согнувшись, они прошмыгнули мимо — одна куртка, одна душа. А за спиной кто-то из господ сказал:
— Только эти люди бывают так счастливы.
II Рабочий и барчук
Две недели спустя, в воскресный день, обе семьи, — Динклей и Бальрихов, — возвращались полем из Бейтендорфа, где состоялись крестины новорожденного ребенка Малли. Они направились прямо в закусочную и принялись за вино, а мать кормила младенца грудью. За длинным столом родственники сидели пока одни. Когда стали появляться другие посетители, они уже отобедали и посуда была убрана. Двоюродный дед Геллерт, похожий на скелет в черном сюртуке, усмехаясь в свою козью бородку, притопывая и хлопая в ладоши, пустился в пляс вокруг своей племянницы Лени. Он уверял, что видел точно такой же танец на чужбине.
Правда, потом он, пыхтя и отдуваясь, в изнеможении повалился на скамью. Среди шума, стоявшего в закусочной, Карл Бальрих тревожно следил за стариком; тот покачивался из стороны в сторону, и глаза его по-старчески стекленели. Внезапно, взглянув на него в упор, Бальрих шепотом спросил:
— Дядя, а что это за история была тогда у тебя с Геслингом? Помнишь?
Геллерт бессмысленно уставился на племянника.
— Тогда? — повторил он.
Бальрих уверенно кивнул:
— У тебя… и ты знаешь, с кем.
Бальрих решил непременно выяснить, что крылось за недавней болтовней старика: «Ведь я бы мог нынче сидеть на его месте!» Наверно, просто врал, старый бездельник, — твердил себе Бальрих всякий раз, когда ему приходили на память эти слова. И все же они приходили на память. Теперь он ждал, чтобы старик сам все выложил. Эта минута настала. Геллерт будто очнулся и с дрожью в голосе спросил:
— А разве я насчет чего-нибудь проболтался?
— Ты уже сказал слишком много, — отрезал Бальрих, — валяй до конца.
— Неужели кто-нибудь узнал?
— От меня-то ни один человек не мог узнать. Но если ты со мной не будешь откровенен…
Старик торопливо закивал.
— Уж лучше ты, чем другие. Ты самый толковый. А от твоего дядюшки мало было проку.
— Мне это отлично известно, — резко ответил Бальрих. Он отнюдь не чувствовал расположения к родственникам, которым, подобно его дядюшке, хоть он и прожил на свете семьдесят лет, не только нечего было оставить своим племянникам, но они еще сами сели им на шею. Да и эта пляска вокруг Лени покоробила его.
Старик испуганно заморгал. Из страха перед племянником он решил плюнуть на всякую осторожность.
— Да разве я мог… тогда предвидеть, — начал он. — Представь, что есть у тебя старинный друг, боевой товарищ, с которым ты делишь все: твой матрац — его матрац, твоя вошь — его вошь, и даже наши жалкие пфенниги лежат в одной копилке. Порой в ней бывали, впрочем, и талеры. И вот когда один из друзей надумал обосноваться в одном городке, заняться своим ремеслом и стать мастером, другой, уезжая, до своего возвращения оставляет ему свои талеры.
— И это был ты?
— Видит бог, я.
— Кому ты оставил талеры — старому Геслингу?
— А он их и хапнул. Понял? — шепотом сказал Геллерт.
Бальрих пожал плечами.
— Интересно, целы они были бы у тебя сейчас?
Тут старик, вспылив, ухватился за край стола и завопил фистулою:
— Не талеры были бы у меня нынче, а моя доля доходов, вот что!
Едва эти слова вырвались у Геллерта, как он испуганным взором обвел всех присутствующих. Но среди шума и разговоров никто не слышал его. Бальрих сердито отвернулся. Нужда была допытываться, старик несет явный вздор!
— Выходит, Геслинг на твои три-четыре талера построил фабрику?
— Не четыре, а четыреста минус четыре, — зашипел Геллерт. — Да, да! И все это я получил от жены одного мастера, у которой малярничал… можешь сам догадаться, за что получил… Малярной кистью я бы, конечно, столько не заработал!
— Бесчестные деньги, — сказал Бальрих. А старик заблеял:
— Попробовала бы она их не дать, узнала бы, почем фунт лиха!
— И Геслинг знал об этом?
— А то нет!
— Тоже негодяй!
Геллерт насупился и заметил с укором:
— Он-то тут ни при чем. Старик Геслинг был даже строгого поведения. Он сам обозвал меня тогда негодяем.
— Дал он тебе хоть расписку?
— Я и не требовал.
Бальрих вытянул шею и, приблизив свое лицо к лицу старика, сказал:
— Ну, хватит с меня твоих небылиц.
Геллерт заплакал.
— Да ведь все это так и было, — всхлипывал он, — а ты думаешь, я лгу!
Он стал толкать в бок Динкля и Гербесдерфера, пока те не повернулись к нему.
— Расписки между старыми друзьями, между боевыми товарищами? Вы слышали что-нибудь подобное?
Но так как те не понимали, о чем идет речь, он снова выложил всю историю, клянясь, что этот долг не уплачен ему и поныне. Почему же он до сих пор не потребовал обратно свои деньги? Да очень просто: когда он много лет спустя вернулся домой, от его денег уже не осталось и пфеннига. Вернее, они были вложены в дело.
— Вложены в дело? И ты это можешь доказать?
— Еще бы! Пришел я как-то к старику Геслингу в контору, — это было в Гаузенфельде, — он взял меня за руку и все тогда подробно подсчитал.
Бальрих недоверчиво уставился на дядю.
— Гаузенфельд никогда не принадлежал старику Геслингу. Его бумажная фабрика была на Мейзештрассе.
Геллерт рассвирепел.
— Не знаю — на Мейзештрассе или в Гаузенфельде, но я как сейчас вижу его за конторкой у окна, он почесывает затылок и считает, а потом говорит, чтобы я повременил немного, скоро-де и я начну получать свою долю прибыли.
— Ты видишь его перед собой — допустим! Ну а других доказательств у тебя нет?
— На конторке у него лежало пресс-папье в виде головы лошади.
— И давно это было?
— Ровно сорок лет назад! — воскликнул Геллерт.
— Срок порядочный, — заметил Динкль, — за это время, пожалуй, голова лошади уже научилась говорить и может быть твоим свидетелем.
И Динкль так расхохотался, что и другие обернулись к нему. Динкль уже готов был повторить свою шутку, но Бальрих строгим шепотом приказал ему замолчать.
Старик Геллерт снова замкнулся в себе, и когда он уводил из закусочной, у него была одна забота — как бы кто еще не проведал об этой забытой истории, особенно бабье. Правда, Динкль решил, что она чересчур забавна, ну просто нельзя не разболтать. «Дядя Геллерт — нет! подумать только! — совладелец Гаузенфельда, компаньон Геслинга! Главный директор — дядя Геллерт!» — визгливо выкрикивал он, приплясывая на одной ноге, между тем как старик с налитыми кровью глазами стоял рядом и смотрел на него молящим собачьим взглядом. Но Бальрих решительно потребовал: больше ни слова об этом. Что же — Динкль хочет пустить по миру старика, который малярничеством зарабатывает себе на фабрике хоть жалкий кусок хлеба? Однако Динкль тут же заявил, что если дядюшку Геллерта уволят, то он, Динкль, тоже бросит работу, и тогда пусть все бастуют!
Отныне где бы старик ни попался ему на глаза, Динкль не упускал случая украдкой ткнуть его в бок.
— Ну, скоро мы, наконец, получим свои дивиденды? — спрашивал он, а Геллерт при этом, как вор, озирался по сторонам.
И вот однажды, когда в одном из закоулков огромного фабричного двора маляр перед началом смены приготовлял орудия своего ремесла и сам Бальрих ткнул его в бок и шепотом спросил: «Ты, верно, не торопишься с расчетом?», старик вздрогнул от испуга, нырнул в толпу рабочих, как раз выходивших из ворот фабрики, и затерялся в ней. В эту минуту Бальрих впервые поверил в то, что Геллерт говорит правду, что история с деньгами — не вранье.
Нет, трудно было в это поверить — и все же он каждую ночь думал теперь о старике и его истории. И не в первую ночь у него возникли подозрения, что старик говорил правду, нет, они овладевали им исподволь, все чаще лишая его сна и терзая в часы бессонницы тем сильнее. Теперь, когда Бальрих убедился, что так оно и есть, он, вместо того чтобы ходить следом за своей девушкой, всюду высматривал Геллерта, а тот от него прятался. Только один раз Бальрих встретился с ним у Динклей, и то случайно. Подвыпивший старик на этот раз казался менее испуганным. Неожиданно на пороге появился гость, довольно полный мужчина средних лет, — белое безбородое лицо, мягкая шляпа; на ходу он слегка загребал ногами. Едва он вошел, как Геллерт исчез. Это случилось мгновенно, лишь тень старика скользнула по стене, гость даже не оглянулся.
— Я — адвокат Бук, — сказал он. — Добрый вечер. Я принес вам то, что обычно вам приносит моя супруга. Ей нездоровится сегодня. — И мягким движением руки положил возле Малли, кормившей ребенка, запечатанный конверт.
Динкль ловко загнал всех детей в угол и так усердно освобождал место для адвоката, словно всей комнаты было мало для такой важной персоны. Бук благосклонно опустился на предложенный ему стул, бросил растроганный взгляд на кормящую мать и младенца, восторженный — на Лени, кокетливо выгнувшую стан, и удивленный — на многочисленную детвору; потом вздохнул и мягким, сытым голосом спросил:
— Ну как вам здесь живется? Хорошо?
Никто не ответил. Даже Динкль растерялся. Как же, зять главного директора спрашивает, хорошо ли им здесь живется, вместо того чтобы пренебрежительно уронить, что живется им здесь, вероятно, отлично! В наступившей тишине взгляд адвоката Бука наткнулся на сдвинутые брови Бальриха. Бук отвел было глаза, потом тем настойчивее стал искать взгляд рабочего, чье лицо мало-помалу становилось спокойнее под мягким взором блестящих карих глаз адвоката. Бук кротко сказал:
— Вы, конечно, предпочли бы жить на вилле «Вершина»… — И, будто этого неслыханного заявления все еще было мало, он пожал грузными плечами и смиренно заметил: — Это вполне понятно, но что тут поделаешь!
Эти слова были сказаны таким тоном, точно сам он с женой и сыном занимал не целый флигель виллы «Вершина», а конуру в таком же подвале.
Затем он встал, всем подал руку и, ни на кого не глядя, исчез своей бесшумной походкой, слегка загребая ногами. «Какой-то он жалкий!» — таково было мнение Динкля и Малли. Лени только презрительно фыркнула. Бальрих промолчал и вскоре ушел.
Между дядюшкой Геллертом и этим адвокатом бесспорно есть какая-то связь, и уж наверно это та старая история с деньгами. Бальрих больше не сомневался. Он прихватил в закусочной бутылочку водки, проник через калитку в сад Клинкорума и заявился к маляру. Водка, впрочем, оказалась излишней, ибо Геллерт был уже сильно на взводе и, сидя за бутылкой, что-то мурлыкал себе под нос. При виде Бальриха старик пропел: «Старик Геллерт не дурак! Это все подстроил ты!»
— Что я подстроил? — удивился Бальрих.
— Да встречу с Буком. Это же не случайность, — настаивал Геллерт, — но мне дела нет до Бука. Откуда мне его знать? Когда я как-то был у его отца, молодой Бук еще в платьице бегал.
— Ага! У его отца!
Геллерт, перепугавшись, стал предлагать ему водки.
— Так ведь отец умер, — сказал он, глядя на стакан. — Чего тебе сдался покойник? В те времена, правда, у каждого было дело к нему. Главный воротила в городе был… В те годы я и старик Геслинг были еще молокососами. А потом сын Геслинга, — Геллерт провел рукой по горлу, — без ножа зарезал его. Отобрал деньги, акции, чины, и теперь он куда влиятельнее, чем был старый Бук.
— Но молодой Бук — какой-то жалкий, — в мрачном раздумье повторил Бальрих мнение сестры.
Геллерт захихикал.
— Сперва дал себя зарезать, а потом женить. Самый здоровенный боров и тот не выдержит.
Бальрих пододвинулся к нему.
— Ну, дядя Геллерт, а теперь выкладывай все.
И так как старик вновь съежился, Бальрих схватил его за руку.
— Нет, тебе не отвертеться. Я знаю слишком много. И притом я твой внучатый племянник. Кому больше всего хочется, чтобы ты разбогател, дядя Геллерт? Как ты думаешь? Ну, конечно, тому, кто будет твоим наследником, верно?
Старик, мигая, исподлобья глядел на него.
— Зря надеешься тут чем-нибудь разжиться! Ты понимаешь, какая ты вошь по сравнению с Геслингом?
— Скажи мне, что у тебя было со старым Буком. Может, эта вошь и вырастет!
И Бальрих тряс и тормошил старика до тех пор, покуда тот не заговорил. Да, он пришел тогда к старику Буку на Флейшхауэргрубе, в его старый дом, где ступеньки лестницы были обшмыганы всем населением города. Этот почитаемый всеми человек должен был помочь ему вернуть присвоенные Геслингом деньги. И Бук сделал все, что было в его силах. Он вызвал к себе старого Геслинга, и Геслинг написал…
— Написал? — глухо повторил Бальрих.
— Да. Письменно подтвердил, что в его дело вложены мои деньги и часть доходов должен получать я.
— Где это письмо?
— Копия, которую тогда же сделал Бук, вот тут, у меня. — И Геллерт вытащил копию из комода. — Он выслал ее мне, когда я скитался, и заверил, что все в порядке; но беда в том, что мой компаньон и боевой товарищ Геслинг в настоящее время-де очень стеснен в деньгах и так далее и тому подобное.
Однако Бальрих не слушал: он был погружен в чтение письма. Затем тяжело вздохнул.
— Это копия. Ей никто не поверит. А где само письмо?
Старик осклабился.
— Письмо моего старого боевого товарища? Да, наверно, в бумагах адвоката Бука. Ведь его дом был набит бумагами.
— А куда делись бумаги?
Старик, снова осклабясь, пододвинулся к Бальриху совсем близко.
— До меня дошли слушки…
Вдруг он рванул на себе пуговицы, распахнул куртку, обнажив грудь. Лицо его пошло лиловыми пятнами, и он завыл:
— Все пропало! Молодой Бук сжег все бумаги!
Бальрих оцепенел. Геллерт начал машинально застегиваться.
— Еще стаканчик, — предложил он.
Бальрих выпил.
— Что ж! Я пошел домой.
Дойдя до двери, он наткнулся на косяк и упал, но тут же поднялся.
Но он не пошел домой, а свернул на улицу, которая вела к вилле «Вершина». Липы благоухали, теплый ветерок обвевал лицо. Пышным летом стала недавняя скупая весна, когда он начал жить, надеяться, желать, да, жить. А если всему этому конец, то лучше бы оно и не начиналось. Если все остается по-прежнему, то лучше умереть.
— Нет, так не будет! — крикнул он, словно бросая вызов ночному мраку.
Подавшись вперед, он сжал кулаки и стал топтать липовый цвет. Теперь ты знаешь! Разбойничье логово открыто. Украденные деньги, к тому же добытые нечистоплотным способом, — вот основа Геслингова богатства! Разврат и грабеж — вот на чем строятся миллионные состояния богачей! Таково истинное лицо тех, кого вы, пролетарии, будете экспроприировать!
Экспроприировать! Посадите меня и моих товарищей, честных рабочих, на место этих преступников! Будь в мире хоть искра справедливости, все сбежались бы, чтобы постоять за правду и помочь нам. А вместо этого все только посмеются над бедным рабочим, и если он заявит слишком громко о своих попранных правах, его убили бы, как взбесившегося пса! Нет уж, лучше умереть сейчас же!
Он снял шарф и стал искать на деревьях подходящий сук.
Но когда он уже взобрался на дерево, он вдруг услышал голоса. Со стороны виллы по дороге опускались двое мужчин, должно быть, господа. Кто бы это мог быть? Ну, хорошо же, пусть Геслинг и его зять Бук первыми увидят его болтающимся на суку… Но это доставило бы слишком большое удовольствие благоденствующим преступникам. Может быть, их появление здесь — это знак судьбы, и подсказывает она ему совсем другое?
Поэтому он дал им пройти, слез с дерева и двинулся за ними.
Ночь была непроглядно темна, а он бесшумно крался во мраке. Все же они почуяли его присутствие, и первый — Геслинг, ибо даже светлячок, мерцавший среди зелени, заставлял его тревожно озираться.
«Он боится меня», — говорил себе Бальрих, и это доставляло ему радость. Бальрих чувствовал, что тот, кто готов к смерти, знает и может гораздо больше, чем эти разбогатевшие разбойники. Бальрих как бы жил теперь двойной жизнью, и ему ничего не стоило сыграть с ними злую шутку. Забравшись в кусты, он стремительно рванулся вперед, так что затрещали ветки, и глухо ухнул, словно какое-то фантастическое чудовище.
Геслинг спрятался за стволом дерева, а Бук только остановился и в замешательстве прищелкнул пальцами.
Потом они двинулись дальше, продолжая разговаривать. Но Бальрих тщетно напрягал слух, теплый ветерок большую часть слов относил в сторону. Одно было ясно Бальриху: Геслинг бранил зятя, как последнего поденщика. Он упрекал его за эту ночную прогулку в такую темень; народ избаловался, ходить становится все опаснее; а свои тайны они могли бы обсудить и в другом месте… Какие тайны? Бук говорил о них очень тихо. Но Геслинг тем громче напомнил ему про деньги, которые Бук получает от него за ведение тяжб и судебных процессов.
— Такие дела я вести отказываюсь! — вдруг воскликнул Бук, после чего разговор на некоторое время замолк. Бальрих крался еще тише, чувствуя, что постепенно его мысли проясняются. Как он попал сюда? Что ему здесь надо? Какой знак был ему подан судьбой? У этих господ своя жизнь, ничего мы про них не знаем. Может быть, в том, что я забрал себе в голову, виноваты бредни старика Геллерта? Или все это мне приснилось?
А тем временем Бук и Геслинг продолжали пререкаться, между ними разгоралась ссора. Геслинг назвал зятя фантазером, он-де защищал на суде тех, кто был виновен в оскорблении его императорского величества. Он-де истинный сын и последыш мятежников сорок восьмого года. А за перемену убеждений Геслинг заплатил ему, отдав руку своей сестры. Поэтому Бук уже не имеет права ни на сопротивление, ни на свою легковесную иронию, которая может когда-нибудь поставить под угрозу их дружбу и их совместную жизнь на вилле «Вершина» и лишит его крова. Бук в ответ со страхом заговорил о бессовестных махинациях, интригах и о каком-то ужасном конце; а кто будет расплачиваться за это?
— Только не мы! — воскликнул Геслинг и рассмеялся.
— Нет, все мы! — гневно возразил Бук. Но Геслинг напомнил о его огромных долгах, и Бук притих.
Бальрих, кравшийся за ними, чувствовал себя опутанным сетями этого ночного заговора, — и кто знает, скольких жизней может стоить коварная сделка этих двух буржуа, действовавших заодно и вместе с тем ненавидевших друг друга! Ведь объединяются они только против нас; а в своей среде готовы съесть один другого. И нам надо поступать с ними так же, как поступают с нами они. Мужайся! Ты видишь, как жалки эти люди, как они боятся и себя и нас, когда наступает ночь и их солдаты спят. Нападай! Есть у тебя оружие против них, хоть самое плохое, — не стыдись! И Бальрих опять подумал про Бука: «Он какой-то жалкий…» Но он слабее, вот и берись сначала за него! Запугивания, вымогательство — все средства хороши, когда имеешь дело с бандой преступников.
Уже видны были фонари предместья. Геслинг осмелел.
— Можешь не утруждать себя, я дойду и один, — заявил он зятю, и Бук, приподняв шляпу, повернул обратно.
Бальрих бросился туда, где было потемнее, пригнул ветви деревьев и, заслонившись ими, стал ждать. Томительно долго тянулось время, пока, наконец, не показался адвокат; он шел вперевалку, обмахиваясь шляпой и разговаривая сам с собой. Иногда Бук останавливался и, хотя ветер дул ему в лицо, то и дело вытирал пот.
— Я не могу больше, — говорил он, словно умоляя кого-то, — меня гнетет эта тайна, всю тяжесть несу я один, я предатель, и пусть меня первым покарает бог!
Он поднял голову, кара уже надвигалась. Ветви взметнулись, из мрака выступил какой-то человек. Бук ждал, но, видя, что другой молчит, проговорил:
— Добрый вечер.
«Вот черт, — подумал Бальрих, — промахнулся!» И в нем вспыхнула злоба при мысли о Динкле, этом хвастуне, который уверял, что богачи дремлют на ходу и что их можно свалить одним щелчком. Бук спросил:
— Вы как будто испугались? — И по вкрадчивому тону адвоката было ясно, что он насмешливо улыбнулся в темноте.
— Уж вы соблаговолите… — Бальрих запнулся. Он решил было тут же, сию минуту, под угрозой скандала, потребовать денег.
Наконец Бук сказал:
— Соблаговолю? Да я всю мою жизнь только это и делаю. Итак, что вам угодно?
— Вы все награбили! — крикнул Бальрих. — И вам не место там, где вы живете!
Вдруг адвокат приблизил к его лицу свое.
— Так это все-таки вы? — сказал он. — Сегодня я не раз о вас думал. Вы ведь убеждены, что и ваше место не там, где вы живете…
И после паузы добавил:
— А на вилле «Вершина».
— Я требую то, что мне принадлежит по праву.
— По праву? Ну, разумеется! Пойдемте же. — И на ходу продолжал — Допускаю, что ни у одного из нас нет никаких прав и что все в нашей жизни игра случая. И то, что я не освобождаю своего места, — это трусость, гадкая трусость. Что ж, и вы хотите стать таким трусом? — Он взял Бальриха под руку и оперся на нее. Голос его звучал взволнованно — Вы молодой рабочий, перед вами вся жизнь. Такие, как вы, могут далеко пойти. Я человек конченный. А ведь я мог бы предотвратить немало зла и, как знать, быть может, помешать гибели многих. Но настает минута, когда даже такая тряпка, как я, черствеет. Вы поняли меня? — спросил он, остановившись.
А Бальрих понимал одно, что перед ним стоит человек, потерявший всякую власть над собой, и под покровом темноты высказывает чувства и мысли, касающиеся только его одного. «Да, жалкий тип!» — подумал Бальрих и высвободил свою руку.
— То, чего я хочу, вам ровно ничего не будет стоить, — сказал Бальрих жестко. — Будьте свидетелем и выдайте мне это давнишнее письмо, где сказано, что деньги старого Геслинга принадлежали моему дяде.
Бук колебался только мгновение, затем с обычной флегматичностью ответил:
— Что ж, хорошо. Тогда пойдемте.
Бук зашагал вперед, Бальрих следовал за ним, чувствуя, как бешено колотится сердце в груди; он боялся, что у него не хватит сил дойти. Значит, это правда? И письмо действительно у Бука? И он так просто отдаст его? Что это — безумие? Или ловушка?
Он уже не слышал, что говорит Бук. И только, когда адвокат окликнул его: «Куда вы бежите?» — обернулся. Они были у самой виллы. Перед ними — темная садовая аллея, и он слышит шепот Бука:
— Держитесь за меня. Я не подам знака, чтобы зажгли свет. Так лучше для нас обоих.
Бук обогнул дом, провел его мимо множества неосвещенных окон. И когда свет, наконец, вспыхнул, Бальрих увидел себя в просторном зале, обтянутом золотистым шелком, на стенах висели светлые картины. Бук исчез в соседней комнате; она была красно-золотая и полным-полна книг. Он тотчас же вернулся.
— Вот! Убедитесь! — сказал он и протянул Бальриху письмо.
И пока Бальрих доставал его из конверта, разворачивал и читал, Бук принес коробку сигар и так же спокойно продолжал:
— Если письмо не сгорело вместе с другими документами, не думайте, что это случайность. Я пересмотрел весь архив моего отца и оставил себе именно это письмо. Ваш дядя пропал или погиб. Но ведь вы, его наследник, должны же когда-нибудь явиться, думал я, и потребовать… Что с вами? — спросил он, взглянув на Бальриха, ибо лоб юноши внезапно побагровел, он словно одержимый обводил взором всю эту невиданную роскошь и вдруг расхохотался безумным смехом.
— Все это мое, — сказал он.
Бук медленно опустился в кресло.
— Вы преувеличиваете. Процесс обойдется вам слишком дорого.
Бальрих так сдвинул брови, что глаза под ними стали казаться черной черточкой. Мертвенная бледность разлилась по лицу, он боролся с искушением наброситься на этого человека.
— Главное уже решено, — сказал Бук. — Выпейте, — и налил рюмку ликеру. — И вот вам сигара.
— Не хочу, — сказал рабочий. — Вы мой враг.
Бук покачал головой:
— Очень жаль, если вы так думаете. Это затруднит паше дело. Вы могли заметить хотя бы то, что я и сам не прочь проучить Геслинга. Напрасно я стал бы убеждать вас, что только во имя святой справедливости сохранил это письмо. Лично для себя я жду от него наилучших результатов. Пусть Геслинг поймет хотя бы в теории, что все его благополучие основано на хищении, а его право — на грабеже.
Глаза адвоката блестели, он потянулся в кресле.
— Еще рюмку! — предложил он и выпил сам.
Бальрих подумал: «Совсем как дядя Геллерт. Такое же ничтожество. Нет, надо действовать самому».
— Однако, — опять заговорил Бук, — я не создан для роли мученика, иначе я не сидел бы в этом кресле. — И с презрительной улыбкой добавил: — К сожалению, я не могу прикончить его, не прикончив заодно и себя. Поэтому — все в меру.
— Это только вы так думаете, — отрезал Бальрих.
— Нет. И вы должны это признать. Ваше дело требует крайней осторожности. Мирным путем, иначе говоря — с помощью любой угрозы, не таящей в себе смертельной опасности, можно будет добиться хотя бы уплаты процентов с вложенного капитала, если не тантьем{42}. Это, конечно, не столь грандиозно, но не будем умалять сил противника. Даже если он заплатит, он никогда не признает подлинность письма.
— Но ведь есть суд, — возразил Бальрих.
Бук пожал плечами:
— И вы рискнете передать это дело на решение суда? Вы как рабочий должны знать, что в голове буржуазного судьи никак не умещается даже мысль о том, чтобы бедняк мог предъявить неоспоримый документ, с помощью которого можно было бы выбросить богача из его поместья.
— А если этот подлинный документ все-таки существует? — возразил Бальрих, не скрывая своего раздражения.
— Подлинностью этого документа, — заявил Бук, — заинтересовались бы многие и даже среди моих коллег. Однако никто не возьмется за это дело, не обеспечив себя крупным авансом. Я лично, в моем положении, не взялся бы вести такое дело. Я не создан для роли мученика.
Бальрих слушал, вникал, и чем яснее были слова Бука, тем он становился неувереннее. Трудно было допустить, что этот господин — тот самый человек, который еще так недавно в темноте потерял власть над собой. И вот он сидит в залитом светом зале, он здесь в привычном мире и чувствует себя спокойно и уверенно. А для Бальриха этот мир — дремучий лес, полный засад и ловушек. «Ату его!» — казалось, кричат оттуда.
— А что бы вы сделали на моем месте? — спросил он, упав духом.
Бук окинул его отеческим взглядом.
— Я? Такой, какой я теперь? Человек, уже поживший и не помнящий ни одного случая, когда победило бы правое дело, если защищающая его сторона слаба? Я сделал бы вот что…
Взяв из рук Бальриха письмо своего отца, он поднес к нему горящую сигару. Бальрих, отчаянно вскрикнув, вырвал письмо. Один прыжок, и он уже не в мягком кресле, он твердо стоит перед Буком и рычит:
— Я, слава богу, не вы! И не нуждаюсь ни в вас, ни в ваших коллегах! Своего права добьюсь я сам!
Изменилась и непринужденная поза Бука и его фамильярный тон.
— Для этого вам нужно стать адвокатом, — строго сказал он. — Как вы это сделаете?
— Я знаю как! — выкрикнул Бальрих и, тяжело ступая, направился к двери.
— Стойте! — торопливо остановил его Бук. — Подождите немного. Слышите — машина выезжает за моим шурином. Весь двор сейчас освещен.
Бук подошел к молодому человеку и, положив ему руку на плечо, продолжал:
— Вам ведь не больше двадцати, да? Смелая голова, волевой характер! Сын мой тоже мог бы стать таким. Но по моей вине он иной.
При этом Бук отступил на шаг и сказал, устремив на Бальриха испытующий взгляд:
— Надо попробовать… Я принесу вам сейчас одну вещь из спальни моего сына. Он спит через комнату от нас. Даже удивительно, как он не проснулся от вашего крика. Вы тут не раз повышали голос. Но у него крепкий сон, — заметил отец с нежностью и на цыпочках ушел в глубь дома.
Назад он вернулся с книгой.
— Вот, возьмите. Он не проснулся. И час заговорщиков уже миновал, — заметил он, указывая на часы, которые как раз пробили час. — Спокойной ночи.
Он вышел вместе с Бальрихом. Мрак бледнел. Из дома, который они только что покинули, на дорогу падал свет.
Очутившись за садовой калиткой, на шоссе, Бальрих обернулся; в ту же минуту свет погас. Стоя в темноте, он искал виллу своей мечты. Горящим взглядом он силился разглядеть ее очертания меж выступавших из мрака флигелей, убегавшую в глубь сада главную аллею и террасу главного дома. «Все это будет моим, — подумал он. — Эти слабые, избалованные люди там внутри ни о чем не подозревают. — Он нащупал письмо на своей груди. — А тот, кто был так глуп, что дал его мне, — меньше всех. Они думают: все останется как есть». Но насколько сильнее нападающий! Какая угроза висит над тем, у кого есть собственность! Громко и решительно бросил он в темноту:
— Клянусь, я получу тебя, это так же верно, как то, что я тебя вижу.
В этот миг из облаков выплыла луна, залив своим сияньем дом и сад; она, казалось, дарила их Бальриху, придав им легкость мечты, краски радужных снов и обольстительных сказок, темно-синие тени, серебристые стены. Вилла «Вершина» звала его, она, как женщина, отдавалась ему. Он зашатался…
Машина снова приближалась. Бальрих нырнул в заросли ельника, выбрался из них уже гораздо дальше, вышел на дорогу и зашагал по ней мерным шагом, словно под марш, — все вперед, долго-долго все вперед…
Когда Бальрих вновь оказался возле виллы, ее уже окутывала дымка голубого рассвета. Пели птицы, в саду тянуло сырым благоуханьем, но лунные блики еще лежали на дорожках и в глубине сада, лунный свет, казалось, стекал с террасы. Или нет: чья-то тень медленно скользила со ступеньки на ступеньку, волоча за собой складки серебряной одежды. Он силился разглядеть лицо, но увидел только глаза — и это были глаза его сестры Лени.
— Видишь, — сказал он ей, — это для нас.
«Но почему, однако, я вместо Геслинга? — спрашивал себя Бальрих. — Потому же, почему и Лени здесь».
И он заплакал, забившись в еловую чащу, и когда сердце его, казалось, изошло слезами, он направился к фабрике, полем, напрямик, огибая рабочие лачуги. Не все ли равно, что сторож у ворот увидит на лице его следы этой ночи.
Когда он вечером переодевался после работы, то нащупал в кармане пиджака какой-то посторонний предмет — книжку, которую вынес ему из спальни сына адвокат Бук.
«Тут уж я, наверно, найду, как это надо сделать», — решил он и с надеждой открыл книгу.
Что это? Столбцы иностранных слов, а рядом — немецкие слова и предложения, совсем как в учебнике для детей. Учебник латыни — даже нет, вернее — латинский букварь… Бальрих быстро сунул его в карман и, понуро опустив голову, побрел домой.
Но дома он снова воспрянул духом. Он теперь понял и принял решение. Поужинав хлебом и сыром, он тотчас сел за свои сосновый стол, на котором до сих пор едва ли лежала книга. Теперь на нем лежал учебник. Его надо было одолеть, а потом еще один, и еще, и еще, и все же ты в свои двадцать лет будешь знать только то, что уже известно мальчикам. Ты не знаешь, долго ли, и не знаешь, как, но ты должен учиться! Вся ночь принадлежит тебе. Все ночи принадлежат тебе. Учись!
Он лег, когда уже светало. Три часа спустя он облил себе голову водой из кувшина и в ногу с товарищами пошел на работу.
Так потекла новая жизнь Бальриха, и первый, кто заметил это, была Тильда. Он успокоил ее, пожертвовав еще час, который урывал у сна; но так не могло продолжаться, и он просто-напросто заявил ей, что они будут видеться только по воскресеньям. Он-де работает над усовершенствованием одной машины, это даст ему деньги и положение, все его будущее зависит от этого. Видя, как он оживлен и захвачен работой, она совсем оробела.
— Ты думаешь, я не хочу вырваться отсюда? Но я добьюсь своего и стану богатым.
Тут она заплакала и сказала:
— Тогда ты меня бросишь.
Он стал возражать, но она не верила ему. Однако пообещала хранить его тайну. Затем встала, почти не помня себя, и вышла, согнувшись, закутанная в свой коричневый платок. А Бальриху предстояла ночь без сна.
Две недели спустя в воскресенье — он только что выучил последнюю страницу учебника — раздался стук в его дверь, и, низко кланяясь, вошел мальчик в мягком синем костюмчике, в лакированных башмаках; его лицо было безмятежно, как бывают безмятежны лица только у детей богатых. Он положил свою фуражку на кровать и скромно попросил позволения присесть на свободный стул.
— Мне придется задержаться у вас, — сказал он. — Папа велел мне спросить вас по всему учебнику.
И мальчуган открыл книгу.
— По правде говоря, я все это уже давно перезабыл, — признался он. — Что это вам вздумалось учиться? — спросил он доверчиво. — Удовольствия мало.
— А я и не ищу его, — ответил Бальрих.
— Я знаю, вам хочется иметь много денег. Вы хотите забрать наши деньги. Не удивляйтесь, — наивно добавил подросток, — мы с папой друзья, и он многое мне рассказывает.
Не зная что и думать, ошеломленный рабочий пристально разглядывал улыбавшегося барчонка и должен был признать, что глаза у него ясные и смышленые. Только рот был по-детски открыт и чрезвычайно смешными казались круто изогнутые брови и два крупных белокурых локона, свисавших на лоб.
«Узкий череп и плечи такие слабые, что достаточно щелчка, — подумал Бальрих, — и этот дерзкий маленький негодник свалится со стула…» Но вопреки всему Бальрих, запинаясь, начал отвечать по учебнику. Вдруг мальчик прервал его.
— Минутку! Меня зовут Ганс Бук. Четырнадцать лет одиннадцать месяцев. Не покурить ли нам?
Ошибки Бальриха он исправлял повелительно, но небрежно. После нескольких страниц ему стало скучно.
— Хватит, лучше и я никогда не знал.
— Но я должен знать лучше. Мне это нужнее, — сказал Бальрих.
— Дело ваше, — бросил Ганс Бук. — Для Клинкорума во всяком случае и это достаточно хорошо.
Оказалось, что Бальриха ждет учитель Клинкорум. «Мы и так опоздали», — заторопился Ганс Бук и вытолкнул двадцатилетнего рабочего за дверь. Бок о бок пошли они через луг. Дойдя до середины, где как раз собралась, горланя, целая ватага ребят, Бальрих растянулся: Ганс дал ему подножку. Он корчился от смеха, окруженный оравой мальчишек, хохотавших вместе с ним. И когда Бальрих поднялся, весь побагровев от ярости, Ганс уже улепетывал от него, он летел как на крыльях, и Бальрих ни за что не догнал бы его, если бы несколько молодых рабочих не заступили ему дорогу, хотя он и кричал, что они не имеют права! И вот они сцепились. Бальриху было достаточно тряхнуть его, и мальчик, отчаянно упершийся в землю, тут же свалился бы. Но Бальрих, чувствуя, как слаб его противник, сделал вид, что теряет равновесие, и внезапно отступил.
Они пошли дальше, Ганс Бук — надув губы и потупив взгляд. Но вдруг Бальрих ощутил робкое прикосновение его руки.
Клинкорум, услышав звонок, принял их, стоя у письменного стола; зеленый халат прикрывал пышными складками его выпяченное пузо. Галстук сверкал белизной. Он откинул голову, жесткие жидкие пряди его серой бороды торчали во все стороны, он величественно осклабился, обнажив длинные редкие зубы. Продолжая смеяться, завел речь о смысле жизни, о собственности и просвещении. Последнее, конечно, превыше всего, заявил он, бросив злобный взгляд на подростка с виллы «Вершина». Обратившись же к рабочему, добавил: кто жил доныне в блаженном неведении, тому откроется серьезность познания, ибо оно детище истинной мудрости. Разумеется, при условии, если он чувствует себя призванным к занятию науками.
Бальрих, сначала оробевший от высокопарной речи учителя, вскоре убедился, что это красивые слова, и пожалел о потерянном времени. Но тут вдруг дерзко зазвенел голосок Ганса Бука.
— К делу! — воскликнул он.
И Клинкорум, сбитый с толку, едва не поперхнулся.
Он дал ученикам один и тот же перевод, дабы установить расстояние между умственным уровнем одного и другого, и в результате нашел, что один берет живостью ума, а другой — непосредственностью восприятия.
При этом его неприятно поразили руки Бальриха. Клинкорум не сказал ни слова, но его многозначительные взгляды и красноречивые паузы заставили Бальриха убрать руки со стола. Пятнадцатилетний Ганс, заметив это, сказал:
— Но ведь он по-настоящему работает, — на что Клинкорум менторским тоном ответствовал, что и ему, Гансу, придется потрудиться.
Между тем раздался звонок, и в комнату вошли два господина, видимо уже подготовленные к встрече с рабочим, который стал учащимся; они принялись молча разглядывать его.
Ганс Бук бойко сказал:
— Позвольте вас познакомить, господа, — и представил Бальриху доктора Гейтейфеля и консисторского советника Циллиха.
Гости выказали живейшее участие к занятиям Бальриха, — чисто научный интерес, как заявил Гейтейфель. Причем Клинкорум даже подстрекнул их любопытство, показав ошибки в переводе Бальриха, вызванные, по его мнению, незнанием элементарнейших основ человеческой культуры, а это является признаком безнадежно отсталого класса.
Оба гостя покачали головой и спросили, нет ли какой-нибудь надежды на успех хотя бы в данном отдельном случае.
Тем временем молодой Бук бесцеремонно болтал и в тетради Бальриха довольно удачно нарисовал акулу.
— Похоже? — спросил он, и Бальрих узнал в акуле учителя Клинкорума, но тем усерднее стал вслушиваться в беседу ученых мужей, что стоило ему больших усилий. Фразы казались ему слишком запутанными, а некоторые слова лишенными смысла. «Интересный опыт, — уже несколько раз повторил Клинкорум. — Перед вами примитивный мозг, непосредственно соприкоснувшийся с гуманитарными знаниями…»
— А все-таки дело у него идет, — заметил доктор Гейтейфель, сравнивая обе тетради. — Можно подумать, что это доступно всем.
Но его слова не понравились учителю. Он поспешно задал Бальриху несколько вопросов, которых тот даже не понял, — и все рассмеялись, Ганс тоже. Бальриху стало нестерпимо обидно, и он пребольно ущипнул мальчика.
Ободренный успехом, Клинкорум заявил друзьям, что как ни сильна бывает иногда у таких людей любовь к знаниям, увы, это чаще всего безнадежная любовь. Этот простой рабочий нашел учебник молодого Бука, который тот где-то потерял, и возвратил его только тогда, когда вызубрил от корки до корки.
— Такому почти трогательному усердию я не мог не отдать должное — и решился на этот эксперимент, — сказал Клинкорум, рассмеявшись и показав все свои длинные зубы.
Оба гостя вторили ему.
Бальриху уже было все равно, смеется Ганс вместе с ними или нет. Он угрюмо смотрел перед собой и говорил себе, что этому надо положить конец… Он один будет искать свою дорогу…
Тут Ганс, переглянувшись с этими господами, неожиданно выпалил:
— Ну и рассердится же дядя Геслинг!
И от Бальриха не ускользнули их усмешки, которые они с трудом старались подавить. Тогда взял слово консисторский советник Циллих. Никакой работодатель не может, по его мнению, оставаться равнодушным, если его рабочие, стремясь к образованию, перейдут известную границу. Ведь это резко меняет взаимоотношения работодателя и рабочего, точки зрения, права и, в сущности, уже есть переворот.
Он сказал все это очень серьезным и предостерегающим тоном. Но если его голос ни единой нотой не выдал затаенного злорадства, то собеседники не смогли его скрыть. С изумлением увидел Бальрих, что у главного директора здесь нет друзей. Он насторожился. А доктор Гейтейфель назидательно заявил:
— Властолюбию одного должен быть найден противовес, и этот противовес…
— Просвещение умов, — подсказал Клинкорум. Но Гейтейфель перебил его:
— Просвещение и даже разум — только средства для достижения цели. Надо воспользоваться случаем и еще раз дать понять Геслингу и ему подобным, что такое личная свобода. Тот путь, на который они встали при благосклонном попустительстве властей предержащих, приведет лишь к государственному рабству и даже раньше, чем можно думать.
Последовало торжественное молчание. Рабочий Бальрих вдруг почувствовал горячее доверие к тем, кто мог так мыслить и рассуждать.
— Совершенно верно, — подтвердил он, стукнув кулаком по столу. — А вы знаете, почему до сих пор в Гаузенфельд не проведена электрическая железная дорога? Потому что он желает, чтобы мы всю жизнь варились в собственном соку, чтобы мы остались невеждами и только пьянствовали в его кабаке. Ведь это же настоящее гетто! — воскликнул он, гордясь новым для него словом.
Ученые мужи поджали губы и, перемигнувшись, почли за благо немедленно отступить. Клинкорум сказал:
— На сегодня довольно. В следующий раз, господин Бальрих, вы могли бы вести урок вместо меня, ну, скажем, о государстве будущего.
— Хотя, — заметил Циллих, — железный закон о заработной плате уже давно пора сдать в утиль.
Бальрих был разочарован и возмущен. Но чего же ждать от этих буржуа? Тупы, как моя задница, да еще лицемеры… У них есть знания только потому, что есть деньги. Овладеть наукой и потом схватить их за глотку! Ни благодарности, ни пощады! Каждому по заслугам!
Он взял свои книги, поднялся, поставил стул на прежнее место и, несколько раз шаркнув ногой, откланялся. Господа же продолжали вполголоса начатый разговор:
— Да, таковы дела, иной раз человек не сдержится и все выскажет. Однако сугубо важно, кто именно.
Когда рабочий вышел, Клинкорум заговорил о главном.
— Что можно еще сказать?! Этому имени нет… Геслингу мало того, что он низверг мой дом, обитель моей музы, в долину нищеты и грязи, что он обесценил и осквернил его; нет, он хочет погубить меня самого.
Друзья отказывались верить этому. Но Клинкорум привел цифры и даты, полученные им от подрядчика. Геслинг уже запроектировал постройку еще одного корпуса рабочих казарм. Проект закончен. И где бы, вы думали, намерены они возвести этот корпус? Где! Позади дома Клинкорума, вернее, так, что его участок будет теперь окружен корпусами с трех сторон, а впереди — шоссе, пыль, вонь бензина. Словом, всему конец, друзьям остается только сочувственно пожать ему руку. Правда, учитель поклялся, что он такого издевательства, конечно, не допустит, что и на Геслинга найдет управу… есть же суд, наконец…
Тем временем Бальрих уже собирался захлопнуть за собой садовую калитку, но к нему подбежал Ганс Бук.
— А я подслушал весь их разговор. Дураки и лицемеры!
Бальрих подумал: «Ну, твое счастье» — ведь он и Ганса поставил на одну доску с ними.
— Все они просто злые завистники, — сказал подросток. — И потом — что за вранье про учебник, который ты будто бы стащил у меня, или что-то в этом роде!
У него это «ты» вырвалось неожиданно. И он даже запрыгал от радости.
— Это папа хотел, чтобы я соврал акуле, будто ты нашел мой латинский учебник, и Клинкорум притворился, что верит, ведь папа платит ему за это! Вот они какие!
— Значит… это было решено заранее… тайный сговор… — с трудом проговорил Бальрих и строго уставился на лукавое личико мальчика. Пятнадцать лет — а такое знание людей и притом такая беспечность! Низость взрослых только забавляет этого барчука.
— Пойдем со мной, — заявил Ганс Бук. — Проводи меня до той высокой сосны, откуда видна вилла «Вершина». Дальше тебе нельзя.
— Нет. Не хочу, — ответил Бальрих.
И он зашагал через луг к корпусу С. А Ганс Бук крикнул ему вслед:
— Встретимся завтра!
«Но не ради тебя, — подумал Бальрих, — и я клянусь тебе, что увижу виллу «Вершина» не раньше, чем она станет моею. Тогда я явлюсь и выброшу вас оттуда».
И все же, сидя в эту ночь за своим рабочим столом, он много думал о Гансе Буке. Книги, которые ему дал Клинкорум, были уже давно проработаны, а своих он еще не завел и сегодня с легким сердцем мог бы провести время с Тильдой, которая провожала его вечером до самой лестницы. Но он отослал ее: ему приятнее было сидеть в своей комнате и при луне — на электричестве он экономил — думать об изящном и лукавом мальчике с виллы и о том, что завтра увидит его снова.
Когда они в понедельник встретились после работы у Клинкорума и урок был кончен, Ганс Бук предложил ему не более не менее как отправиться в город, — расходы он, мол, берет на себя. Но Бальрих с мрачным видом указал на кипу книг, которые ему дал прочесть Клинкорум.
— До утра осталось шесть часов, и их едва ли хватит.
И он ушел, покинув юного повесу.
Только в воскресенье Бальрих согласился, наконец, с ним встретиться. Стояла духота, закат был мглистым; а так как Бальрих отказался от всяких иных развлечений, они решили просто пройтись и двинулись напрямик через поле, мимо рабочих домишек, по той же дороге, по которой он некогда шел с Тильдой. Так же, как тогда, оба были серьезны; Ганс Бук степенно и задумчиво шагал рядом.
— Ты не спишь только семь ночей, — сказал он, — а у тебя уже красные глаза.
— Другого времени нет, — решительно ответил Бальрих.
И его богатый дружок согласился. В его тоне чувствовалось глубокое уважение.
— Еще бы, ведь ты хочешь в один год выучить все, на что мне в гимназии дали пять или шесть лет, — да и то я всего не знаю.
Тут Ганс Бук увидел, что дети, игравшие на склонах сырого оврага, стараются ткнуть друг дружку лицом в грязную воду на дне его.
— Какие они злые и грязные, — сказал Ганс, указывая на детей. — Если бы они не были такими, тебе не надо было бы так ужасно зубрить.
Почему? Ганс и сам не сумел бы объяснить почему. Но ему казалось, что прежде всего надо быть опрятным и порядочным человеком. А тогда ученье — дело второстепенное.
— Лучше думать, чем учиться; а думаешь приятнее всего, когда об этом не думаешь, — заявил Ганс.
— Вздор! Может быть, это верно для тех, у кого есть деньги, — холодно ответил Бальрих. — Но, если я хочу выкарабкаться отсюда, — он указал на овраг, — то должен учиться, — и почти с ненавистью повторил: — зверски учиться.
Ганс Бук не вполне понял его и старался вдуматься в смысл сказанного.
— У меня ведь тоже никогда не бывает денег. И даже папа получает их чаще всего от дяди Геслинга. А у дяди денег слишком много, тут все вы правы. Моему папе он должен бы давать и побольше. А папа — побольше мне. По-настоящему порядочным ни того, ни другого не назовешь.
Бальрих уже знал, что богатые сторонятся даже друг друга, блюдут кастовые различия; и он с презрением подумал: «Вы сами готовите себе гибель».
Вдруг Ганс Бук отстал. Ясно, что он спрятался за спиной старшего. И Бальрих, мгновенно поняв в чем дело, остановился в позе защитника, выставив вперед ногу.
— Кто? Тот рыжий? — спросил Бальрих, устремив взгляд на близкую опушку «рабочего» леса.
Да, это он, исконный враг юного Бука. Столкновение было неизбежно, никакая сила не могла его предотвратить. Уже давно подстерегали они друг друга, и вот решительная минута застала мальчика врасплох. Бальрих слышал прерывистое дыхание Ганса.
— Пусть только подойдет, — прорычал Бальрих, — и уж я его проучу.
Но Ганс Бук с усилием проговорил:
— Не смей. Это дело мое!
Рыжий приближался. Бальрих понял, что он сильнее Ганса.
— Если это твое дело, то поскорее удирай. Беги! — посоветовал он.
— Моя честь мне не позволяет! — ответил мальчик с виллы «Вершина». А рабочий только пожал плечами и рассмеялся, сначала слегка ворчливо, потом во всю глотку:
— Го-го-го!
Между тем из-за его спины выступил Ганс Бук, сделал шаг вперед, уперся ногами и приготовился к бою. Он весь напрягся, точно вырос, и стиснул кулаки. Враг подкрадывался, согнувшись, касаясь руками травы. Но, дойдя до поворота дороги, вдруг остановился и свернул в сторону. Ганс Бук стоял в той же позе, покуда дюжий парень, искоса поглядывавший на него, вдруг не пустился наутек, да, именно наутек. Лишь тогда Ганс Бук подошел к Бальриху.
— Этот балбес сдрейфил, — сказал он Бальриху и махнул рукой в знак того, что инцидент исчерпан. Бальрих уже не смеялся.
Стоявшая на опушке леса девушка обернулась и поглядела на Ганса. И только тут в нем проснулась гордость победителя; он даже дерзнул послать ей воздушный поцелуй, хотя ее сопровождал какой-то юноша. Девушка была без шляпы. Золотисто-пепельные волосы покрывал платок работницы, хотя на ней была модная юбка и лаковые туфельки на высоком каблуке. Ее спутник был одет в синий нанковый костюм механика, а поверх наброшено элегантное летнее пальто.
— Он техник, — заметил Бальрих, точно извиняясь, — не простой рабочий.
О том, что девушка — его сестра Лени, он умолчал. Этому юнцу не понять, чем была для Бальриха Лени.
Лени встречалась с техником, и брат спокойно относился к этому. Ведь техник рабочий и даже больше того. Можно ли не желать этого брака? Так вот! Тильде тоже обещана женитьба. Правда, Бальрих теперь пресытился ею. Как бы здесь не кончилось тем же.
Бальрих убавил шаг, чтобы не встречаться с этой парой, но молодой Бук упорно стремился им навстречу.
— Вот это девушка! — воскликнул он, приосанившись. Но когда Ганс почти столкнулся с Лени, он так неловко схватился за свою фуражку, что она упала. Все же Лени блеснула на него своими золотисто-карими глазами и только потом расхохоталась ему в лицо. Превозмогая стыд, Ганс кинулся за нею, но техник увлек ее в кусты. Сколько Ганс ни искал в «рабочем» лесу, поднимая пыль и сажу, найти их так и не удалось. И только у пруда с побуревшей от грязи водой, где несколько человек купалось, а три парочки катались на лодках, он увидел ее. Она сидела в шатком челноке, подобрав юбку, вычерпывала воду и брызгала на техника. Побледнев, примолкший мальчик отошел, а когда они добрались до казарм, он стал настойчиво уговаривать Бальриха свернуть вправо, на шоссе. Что занятия! Что ужин! Ему надо еще кое-что сказать Бальриху.
Бальрих ждал. Но Гансу, видно, не легко было начать… Наконец небрежным тоном он заговорил о каком-то доме, который давно уже заприметил, он знает этот дом, проходил мимо. Это в узкой уличке Маленький Берлин, за храмом девы Марии, где пастором старый Циллих. Ганс как-то слышал веселый женский смех из окон этого дома и теперь во что бы то ни стало должен побывать там. Ведь он уже взрослый! Двоюродные братья Геслинги могли бы взять его с собой. Но перед ним они прикидываются тихонями, — поэтому ему хочется пойти туда с Бальрихом; деньги у него есть, решительно заявил он и стал позвякивать в кармане монетами.
На все это Бальрих отвечал ему «нет». Неужели же ему не интересно? — приставал Ганс. Неужели он не может доставить Гансу это удовольствие?
— Нет, нет.
— Но почему же? Почему же нет? — сокрушенно настаивал подросток.
Бальрих молчал. Он ускорил шаг, словно желая уйти от мальчика, все же Ганс Бук преследовал его своим «почему» до самого дома. Тогда Бальрих обернулся и сказал:
— Потому что я — рабочий, и эти девушки могли бы быть моими сестрами.
И ушел, покинув богатого барчука.
— Ах, так, — проговорил Ганс, но опустил длинные ресницы и погрузился в размышления. Работницы? Те девушки, которые так смеялись? Они, наверно, очень счастливы в этом таинственном доме? Нет, тут мы просто не понимаем друг друга. Он благоразумен, потому что он рабочий, и не представляет себе даже, что за диво этот дом в таком чопорном городке, как наш, и какие там нас ждут заманчивые приключения.
Возвращаясь в сумерки домой, пятнадцатилетний подросток грезил о газовых покрывалах и золотых поясах, как в книгах с картинками и в театре, и вот они спадали, обнажая перед ним еще неведомое ему женское тело. Одна мысль об этом обжигала огнем. И вдруг явственно, до осязаемости он увидел стройные ноги и упругие икры девушки, когда она, подобрав юбку, сидела в лодке. И дома, глядя поверх книги, он еще долго вспоминал о золотокудрой красавице, которая была бы прекрасней всех в том сказочном доме…
А тем временем его друг Бальрих продолжал учиться, и если бывало особенно трудно, он погружался душой в воспоминание о том голубоватом рассвете, когда ему почудилось, будто его сестра Лени в длинной одежде из лунных лучей, тянувшихся за нею следом, спускалась с террасы виллы «Вершина».
— Там ты будешь жить, — обещал он ей.
III «Прогулка с вами, доктор…»
Когда все трое — Бальрих, Лени и Ганс Бук — увиделись вновь, уже была осень, и в этот день шел дождь. Молодые люди возвращались от Клинкорума и за рабочими казармами увидели Лени. Она стояла на той стороне улицы перед огромной лужей и высматривала, как бы ее обойти.
«Где же она была во время дождя, пока здесь натекло?» — спрашивал себя Ганс Бук. А Бальрих думал: «Наверно, была с техником, — там, где я прежде встречался с Тильдой». Наклонился к ее лицу и поцеловал в губы. Совершив это, он нашел еще в себе силы донести ее до сухого места.
Ганс Бук решительно вошел в лужу. Перейдя на ту сторону, он проговорил что-то вроде: «Р-р-разрешите…» Но это было скорее похоже на зубовный скрежет. Взяв Лени на руки, он понес ее через лужу. Заметно пошатываясь, добрался до середины; и здесь ему пришлось поддержать ее коленями, так как руки у него ослабели и она, испугавшись, завизжала. Все же он наклонился к ее лицу и поцеловал в губы. Совершив это, он нашел еще в себе силы донести ее до сухого места.
Там в нерешительности, насупив брови, стоял Бальрих. Ганс Бук поправил платок, покрывавший плечи и золотисто-пепельные волосы девушки, и, обратясь к Бальриху, сказал:
— Почему ты сердишься? Я не обязан знать, что фрейлейн Лени твоя сестра. Ты не говорил мне об этом.
Лени смущенно рассмеялась, а Ганс Бук шутливо, но все же смущенно добавил:
— Эх ты, неверный друг!
Бальрих, растерянный и мрачный, говорил себе: «Значит, они уже встречались?» Но вдруг заметил, что они не одни. Тильда, его вечный соглядатай, метнулась за угол, и тут же бодрым шагом подошли два молодых человека в спортивных костюмах — сыновья Геслинга и двоюродные братья Ганса. Эти два долговязых юнца семнадцати и восемнадцати лет, в крагах, обтягивавших их тощие икры, любезно раскланялись, согнувшись чуть не пополам, и, подойдя к Лени, которая с учтивой грацией принимала все знаки внимания, поцеловали ей руку, как истые кавалеры. Они осведомились, когда она опять пойдет на танцы в Бейтендорф, и, подхватив под руки, увлекли с собой. Ее брат и Ганс молча шли сзади. Хотя Лени была очень сдержанна, Бальрих чувствовал, что это — одна видимость. Она не знала, что он борется за нее против «тех». Как горько скрывать это! Но вот мальчик, он-то знает, и неужели ему не стыдно? Да, Ганс шел рядом, понуря голову.
Молодые люди крикнули двоюродному брату, — пусть поспешит, с минуты на минуту должна подойти машина. Она уже показалась в конце улицы. Все они только успели пересечь луг, как автомобиль остановился в двадцати шагах от них. Молодые люди мгновенно откланялись, сели в машину, где их поджидали дамы Геслинг и Бук, с легкими эспри в пышных прическах, и укатили, даже не оглянувшись.
Брат и сестра все еще стояли на дороге. Наконец Карл Бальрих с болью в душе обратился к Лени:
— Ну, что скажешь?
Сестра рассеянно ответила:
— Какие у них эспри! Никогда таких не видала! — И, повернувшись, хотела уйти. Но брат стоял неподвижно, погруженный в свои мысли, и она робко спросила — Что с тобой, Карл?
Он вздрогнул, однако не обрушился на нее, как она ожидала, а с благодушной улыбкой сказал:
— Подожди, у тебя самой будут такие эспри, и платья, и автомобиль, и вилла — вилла «Вершина».
Тогда улыбнулась и она самозабвенной улыбкой, стоя посреди дороги, под дождем. Потом ей стало холодно, и, собираясь уходить, она бросила ему:
— Ты с ума сошел!
— Нет, я буду работать, пока у тебя все это будет, — твердо сказал он.
А Лени с горечью возразила:
— На твои гроши? Да мне до восьмидесяти лет ждать придется!
Он наклонился к ней.
— Я хочу сказать тебе кое-что, но никто этого не должен знать. Пойдем!
И, взяв ее за руку, привел в свою комнату. Затем выдвинул ящик стола; он был набит книгами. Она начала перебирать их.
— И это ты учишь по ночам? Так вот почему у тебя такие воспаленные глаза! И когда ты все выучишь, ты получишь деньги?
Он объяснил, что учится для того, чтобы бороться за свои права, за ее право. Она старалась вникнуть в то, что он говорит, и все понять.
— Тебе нужно два года, чтобы все это пройти? И шесть лет, чтобы стать адвокатом? Значит, ждать целых восемь, а то и десять лет, пока ты сможешь заработать достаточно и начать процесс против Геслинга?.. Нет, спасибо, к тому времени моя молодость уже пройдет.
— Но тогда начнется наша жизнь на вилле «Вершина», — возразил он.
— Ты воображаешь, они попросту съедут, и мы там поселимся? Не такие люди!
— Придется! — взволнованно заявил он. — Они не имеют права там жить.
— А поэтому их поддержат все те, кто нажил деньги такой же неправдой.
Бальрих умолк. Откуда у этой восемнадцатилетней девушки те же сомнения, что и у Бука? И такое знание жизни?
Видя, что она огорчила его, Лени спохватилась:
— Конечно, это было бы замечательно, и я знаю, у тебя добрые намерения, но я, кажется, нашла более короткий путь.
Бальрих взглянул на нее; и он знал этот путь; путь вел через мечту: Ганс Бук подрастет и женится на Лени. Он любит ее, и он славный мальчик. Но Лени, которая не верила ни в торжество права, ни в победу труда, как могла она поверить в столь сомнительное счастье? Или она намекала на что-то совсем другое? Он поспешно спросил:
— Ты разве уже решила не выходить за твоего техника?
Лени только пренебрежительно повела плечами и сделала гримасу.
— Что же тогда? — спросил он и подступил к ней ближе.
Тут она испугалась и стала успокаивать его:
— Ты не знаешь меня, Карл, я не такая дура! Разве мы откажемся от виллы «Вершина»?
— Лени, — сказал он. В его тоне еще звучала угроза, но вместе с тем и глубокая печаль: — Перед техником мне не стыдно. Но перед теми молодчиками с виллы «Вершина» мне было бы нестерпимо стыдно.
Лени вдруг затрепетала. Слезы неудержимо полились по ее щекам, она стиснула руки и сказала с мольбой:
— Не думай, дорогой мой Карл. Я не такая! Пусть я ослепну, если это допущу. Я верю, что ты выиграешь процесс и вырвешь нас из нужды. Клянусь богом, я верю тебе.
Она порывисто обняла его и прижалась губами к его лицу, которое все еще казалось окаменевшим. Но оно вдруг ожило, расцвело улыбкой, засияло.
— Положись на меня! — сказал он, сжимая ей руку. — Положись на меня, Лени!
И вот она ушла, а он сел за стол.
Все зимние ночи просиживал он над книгами. После работы на фабрике этот труд освежал его. Обостренным слухом воспринимал он тишину широких оледеневших полей. Ни один звук огромного дома больше не тревожил его, только из небольшой книжки, лежавшей перед ним, доходил голос — голос его собственной мысли. Обхватив голову руками, он уже не воспринимал эти знания как чужие. Ему казалось, что это сам он продолжает то, что извечно переходит от одного человека к другому. Сам мыслит и открывает новое. Его мысль словно освобождалась, и в этом одиночестве ночного бодрствования он иногда вдруг ощущал с торжествующей радостью, как его собственные силы крепнут.
Учитель проверял его обычно раз в неделю. А в остальные дни Бальрих виделся с Гансом Буком, и только с ним. Обычно Ганс Бук влетал к нему как вихрь и, запыхавшись, заявлял, что завтра ему надо сдать учителю тетрадь с упражнениями. А однажды в пять часов утра он, перепуганный, прибежал к Бальриху, разбудил его, прервав и без того короткий сон рабочего, и попросил приготовить за него домашнее задание, которое надо было представить в то утро.
— Помнишь, как я первый раз спрашивал у тебя вокабулы? Не прошло и года, а ты меня уже догнал. Ты окончишь, а я все еще буду жалким зубрилкой… Нет! — топнул он ногой, — хватит! Я хочу уехать отсюда и зарабатывать деньги.
— Как? И ты?
— Недаром ты мой друг… Почему ты никогда не ходишь танцевать в Бейтендорф? Пришел бы хоть разок! Ты бы увидел, как здорово я заменяю тебя подле Лени! Никто не смеет к ней подойти слишком близко! — воскликнул он вызывающе и потом небрежно добавил — А что касается моих кузенов Геслингов, то я их презираю. Презирай и ты!.. Или ты боишься, что они тебе напакостят? — с тревогой продолжал он.
Бальрих пристально посмотрел на Ганса, и, как всегда, когда подросток хотел слукавить, на его тонком личике появилось выражение притворной невинности.
— Наверно, и тебя твои товарищи восстановили против меня. Плюнь! У нас дома про тебя говорят, что ты подкуплен — только не знаю кем и для чего.
Рабочий в ярости сжал кулаки, а мальчик подпрыгнул от радости, забежал за стол и крикнул оттуда:
— Вот видишь! — Но тут же постарался задобрить Бальриха — Да что бы мне ни говорили, я-то знаю тебя. Мне ты можешь открыть и плохое.
Схватив свою тетрадь и показав другу длинный нос, он убежал.
Однако за дверью налетел на какую-то женщину. Это была Тильда. Она потащила его под лампочку и решительно спросила:
— Что он там делает? Я хочу знать.
— Бальрих? — спросил Ганс Бук, растерявшись. — Сейчас он учит греческий…
— Да он с ума сошел! — воскликнула Тильда так громко, что по коридору раскатилось эхо. — Он совсем перестал спать, я же вижу, потому что и сама не могу спать. Ни с кем не разговаривает, завел какие-то секреты. И мне наврал. Пусть только выйдет! — крикнула она, повернувшись к его двери. — Я все выложу ему.
Тогда появился Бальрих. Несколько женщин, спускавшихся и поднимавшихся по лестнице, остановились на ступеньках. Среди них была и Польстерша.
— Что ж, Тильда правду говорит, — обратилась она к ним. — Он наплел ей про какую-то машину, будто занят ее усовершенствованием. Но мы обшарили всю его комнату…
Бальрих накинулся на нее, — да как она смела? Но она заявила, что имеет полное право — и Тильда тоже.
— Коли человек спятил, надо же узнать, в чем дело.
Свидетельницы этой сцены согласились с ней. Конечно, она имеет право. Только это все же дело семьи.
— Динкль должен навести порядок…
— Ладно, — сказал Бальрих, — мы пойдем к Динклю. Я и Тильда. А вас это не касается.
Женщины притихли, только Польстерша никак не унималась. Бальриху было стыдно перед Гансом. Да, видно, объяснения с семьей не миновать. Но для этого необходим и Геллерт.
— Ганс, — решительно сказал он. — Я сделал за тебя твой урок, а ты сейчас же раздобудь мне старика Геллерта.
Ганс стрелой вылетел из комнаты. Бальрих, Тильда и Польстерша в глубоком молчании пустились в путь по бесконечным темным лестницам, без ковровых дорожек, по коридорам с сотнями дверей, унылым, как в больнице, с окнами без занавесей, за которыми стоял хмурый зимний рассвет, такой же безрадостный, как жизнь бедняков. «Вот она, наша участь», — думал Бальрих, которого оторвали от учебника греческого языка.
Дойдя до площадки, где жили Динкли, он увидел, что дверь открыта; оттуда выбежала Малли.
— Нет, все брошу! Не могу я так жить! — визжала она и чуть не сшибла с ног Польстершу, которая тоже взвизгнула. Бальрих пытался задержать Малли, но она вырывалась изо всех сил и продолжала кричать, что все бросит. Когда она, наконец, замолчала, из комнаты донеслась ругань Динкля и детский рев.
— Почему ты держишь меня? — всхлипывала Малли. Бальрих показал на окно, за которым серело тусклое утро.
— Броситься в окно и то лучше! — стонала она. Тогда Бальрих спросил:
— Динкль обижает тебя? — И в голосе его прозвучала угроза.
Но она схватила брата за руку и умоляюще заговорила:
— Динкль не виноват! И дети тоже, хотя они и замучили меня.
— Тогда пойдем, так продолжаться не может. — И он повел ее домой.
Динкль шлепал ребенка. На полу посреди комнаты стоял грязный таз для умывания.
— Вот так начинается день, — сказал Динкль. И когда на минуту наступила тишина, послышалось блаженное чмоканье ребенка, который, лежа на комоде, шевелил ручонками.
Малли вынесла умывальный таз, затем с помощью Польстерши принялась одевать и причесывать детей. Динкль, не в духе после этой сцены, сердито напустился на шурина.
— А-а, господин Бальрих? Наконец-то удостоили. Скажите, какой скрытный? Разбогатели, да? Зарабатываете денежки, как Яунер?
Бальрих чуть не вспылил, но сдержался.
— Скоро ты сам поймешь, Динкль, какой ты дуралей.
— А ты, — вскипел Динкль, — зубришь латынь, как буржуй. Поэтому и Тильду не знаю до чего довел, негодяй. — И он указал на Тильду, которая стояла тут же, закрыв лицо передником. — Дядя Геллерт рассказал нам кое-что про тебя.
— Вот пусть он и повторит это открыто, — громко заявил Бальрих, обращаясь к старику маляру, стоявшему в дверях.
Тот хотел было тут же повернуть назад, но Ганс втолкнул его в комнату. Затем барчук повел носом, но в комнате пахло только что вставшими с постели людьми, а не той, кого искал его взгляд. Все же Лени, наконец, вышла из своей конуры. И Ганс Бук, минуя все преграды, устремился к ней.
Старик Геллерт сделал вид, что знать ничего не знает; он прикинулся глухим. Но вдруг рассвирепел и со всей яростью неопохмелившегося пропойцы заорал:
— Довольно молчать! Этот жулик обманывает меня! — Но так как Бальрих хранил спокойствие, старик стал всех призывать в свидетели. — Пусть сознается сейчас же, он стоит перед своим судьею! Намекал я тебе когда-нибудь на одно старое письмо, где сказано, что Гаузенфельд принадлежит мне?
Бальрих загадочно усмехнулся.
— Слушай, — сказал он, — я даже раздобыл это письмо, но в нем нет того, о чем ты говоришь.
Тут старик затрясся. Руки и ноги заходили у него ходуном, он стал кричать, что Бальрих продал письмо, а деньги прикарманил.
— Я подстерегаю его, а он увиливает или отделывается пустыми словами.
— Потому, что об этом деле говорить не так просто, — отозвался Бальрих. — А письмо — вот оно. — И он протянул старику листок.
Все тотчас принялись читать: и Динкль, державший письмо перед собой, и Геллерт, который тянул его к себе, и Малли с грудным младенцем на руках, и Тильда, утиравшая слезы, и Польстерша, шевелившая губами, и самый старший из детей — он примостился на стуле возле них. Тут же стояли, вытягивая шею, и остальные ребята, удивленные вдруг наступившей тишиной. Вошли на цыпочках оба младших брата Бальриха, следом за ними прибрел старик Динкль с жестяной кружкой, в которую ему наливали кофе. Они тоже примкнули к этой кучке и тоже стали читать письмо.
Один Бальрих слышал шепот и тихую возню за перегородкой. Это Лени выталкивала Ганса.
Динкль, дочитав, спросил:
— А нам-то что до этого письма?
— Оно всем нам принесет богатство, — ответил Бальрих.
Тогда они еще раз прочитали письмо, неподвижные, в торжественном молчании.
Геллерт первый нарушил его.
— Коли он продал мои права, что же делать мне, старику?
— Да, ты стар, — согласился Бальрих твердо и снисходительно, — и ты беззащитен, и все вы беззащитны. Поэтому я взялся за это дело. Поэтому я взялся за ученье и буду учиться, покуда не изучу право. Тогда я добьюсь своего.
Так стоял он среди них, и бледный свет раннего утра падал на это широкое лицо; все смотрели на него молча, стараясь понять происходящее. Вдруг Геллерт опять завопил:
— А какой прок мне от твоего ученья! Я стар, и мне нужны деньги. Сейчас же выкладывай мои деньги — и все!
Но тут Динкль приказал ему замолчать. Потом перевел дыхание и обратился к Бальриху:
— Много может пройти времени, пока мы добьемся своих прав. Кто знает, доживем ли? Но наши дети, они-то хоть увидят лучшую жизнь?
Бальрих посмотрел ему в глаза, затем в глаза остальным, медленно переводя взгляд с одного на другого. Это тянулось долго, в глубокой тишине. Так заключил он с ними безмолвный договор. Он взял младенца из рук Малли и показал им.
— Клянусь его жизнью, — заявил он.
Снова наступило молчание. Потом кто-то закашлялся, и все стали собирать свои вещи, торопясь на фабрику. Бальрих, стоя, пропустил их мимо себя. Подошла Тильда и строго, как монахиня, сказала:
— Я буду ждать тебя. Теперь я знаю, что ты вернешься.
Польстерша, которая оставалась дома, приказала детям идти вперед. А брата Динкля робко спросила, достанется ли и ей что-нибудь.
— Неизвестно, все будет сделано по закону, — деловито ответил Динкль. — Если ты будешь настаивать, нам придется судиться.
Тут из глубины комнаты послышались еще два голоса. Сперва настойчивый голос Ганса:
— Я знаю, что ты задумала. Не делай этого, не делай! Только один человек на свете любит тебя, и это я.
И Лени презрительно ответила, что это каждый может сказать.
— Сказать — да, но сделать? И я раньше хотел только получить от тебя удовольствие, я был преступником! А теперь я хочу трудиться ради тебя, уехать отсюда и сам зарабатывать себе кусок хлеба. Уехать сейчас же. Я хочу быть, как вы, и всю жизнь работать. Я люблю не только тебя, но всех вас. — И с горячей мольбой добавил — Лени, услышь меня, не всякий скажет тебе такие слова.
— Зачем? — ответила Лени, и в ее голосе Бальрих впервые услышал резкость и раздражительность. — Это протянется слишком долго. Так же долго, как…
Бальрих обомлел. Он понял, что она имела в виду, и украдкой выскользнул за дверь. Но вдруг кто-то из-за спины схватил его руку, и не успел он опомниться, как чьи-то губы прижались к ней; обернувшись, он увидел седой узел волос на голове Малли и ее смиренно склоненную спину. Он поднял сестру.
— Сегодня мне уже незачем молиться, — проговорила она бескровными губами и заспешила прочь, топая своими мужскими ботинками и оправляя юбку, обтягивавшую ее костлявые бедра.
Ушел и он, опустив голову, впервые ощущая бремя взятой на себя ответственности, и все же чувствуя прилив новых сил. Он думал: «Теперь все помогут мне, я добьюсь своего. И Лени еще поверит в меня».
Незаметно для него прошла зима. Однажды, в весеннюю ночь, сидя полураздетый в душной комнате, он распахнул окно и высунулся наружу, чтобы подышать свежим воздухом, а потом снова взяться за книги. Сквозь тонкие стены и раскрытые окна на него со всех сторон веяло дыхание спящего дома. Вот донеслось ругательство, вот кто-то вскрикнул во сне, и тут же ему почудился предсмертный стон, а следом за ним писк новорожденного. Он слышал все эти звуки и раньше, но воспринимал тогда по-другому. Теперь они, казалось, уже не говорили о том, что эта суровая жизнь беспросветна. Пусть люди спят или страдают — он бодрствует и думает о них.
Он блаженно потянулся. Все это — товарищи, близкие, все — свои. Сегодня они, как и он, бедны, но наступит день, и с его помощью они станут богаты. Он видит, как на вилле «Вершина» чуть шевелятся гирлянды роз… Вдруг лицо его омрачилось, он задумался. Было время, когда он заботился только о себе, о своих правах; тогда ему хотелось немедленно овладеть богатством и насладиться им. Но сейчас сердце напомнило ему о ней, о Лени, о самом дорогом для него существе. А разве другие менее заслуживали любви, богатства и свободы? Правда, не все они добры, не все чутки и благородны. Но только богатство даст им утонченность, благородство и доброту. Порой они озлоблены друг против друга, как озлоблены против них богачи, которых деньги ожесточают, — однако угнетенные не ладят между собой оттого, что страдают, они борются за существование и сами не знают, куда их приведет борьба. Ни в одном из них еще не пробудился разум.
Но ведь разум подсказывает каждому, что у всех одинаковые права. У нас отняли средства производства, нас ограбили, поработили тело и душу. Мы обездолены и нищи. Но мы должны лишить их богатства, и пусть будет нашим земное счастье, как была нашей земная юдоль… Да, и мы вынуждены идти на несправедливость, так как наша жизнь построена на несправедливости. Ведь источником Геслингова богатства послужили жалкие гроши, когда-то принадлежавшие одному из нас. А тот, от чьего имени мы предстанем перед Геслингом, приобрел их постыдным способом. Мы, его наследники, ничуть не справедливее того эксплуататора; однако мы должны стать справедливее.
«Как это сделать? Уравнять ли заработки и доходы? Упразднить ли предпринимателя? Но ведь я уже сегодня знаю больше других, поэтому могу и должен получать больше. Чем же я отплачу им?» — настойчиво вопрошал он некий представший ему смутный образ, имя которому было — Равенство.
Когда раздался скрип ворот, как обычно по утрам, Бальрих с изумлением вернулся к действительности: стоял белый день, доносился воскресный звон колоколов. Сколько же времени пропало даром! Но, сам того не ведая, он в эту ночь совершил еще один шаг на трудном пути познания: он «думал, не зная о том, что думает».
Был праздник, и Бальрих, выйдя побродить, увидел адвоката Бука, который прохаживался по луговине.
— Гуляете? — спросил толстяк. — Хорошо бы вам пройтись на виллу «Вершина», а мне в такое утро покинуть ее.
— Я не пойду туда, — проронил Бальрих.
— Не хотите? Она кажется вам слишком ослепительной, от нее веет слишком большой беспечностью и счастьем? Или это чересчур обманчивое счастье? А что мы были бы за люди, если бы не чувствовали стыда в такое воскресное утро?
— Настанет время, когда нам всем в такое утро уже нечего будет стыдиться, — сказал Бальрих.
— Весенний день и вилла «Вершина», — продолжал адвокат и пристальным, долгим взором посмотрел ему в лицо, — может быть, они и в самом деле созданы для вас…
Пройдя между домов рабочих, они вышли на пустырь.
— Итак, весь ваш годами накопленный запас умственных сил вы решили использовать сразу. Вы — богатырь!
— Все это слова, — ответил Бальрих. — Я переутомлен.
— Вижу, — тут же согласился Бук.
— Но это только ваша вина, — снова продолжал рабочий, — вы лишили нас образования, чтобы мы оставались рабами. Придет время, когда работники физического труда — все люди будут уже с детства приобщаться к культуре. Тогда и у фабричного станка и за письменным столом человек будет в несколько часов создавать то, на что сейчас нужны долгие годы.
— Наука будет доступна всем, — подхватил Бук с удовлетворением. — А нынче она только для избранных.
— Как и деньги, — заметил Бальрих.
— Что же, в будущем все будут получать одинаковую оплату? — осторожно осведомился Бук.
Бальрих вспыхнул.
— Едва ли, но каждый получит свою долю прибыли.
— Однако она может оказаться и его долей убытка, — подчеркнул Бук.
Но Бальриха трудно было сбить.
— Нет. Убытки понесет предприятие. Ведь оно будет принадлежать не нам, рабочим, а самому себе.
— Это вы сами придумали? — спросил Бук с необычной для него живостью. И затем добавил — Принадлежать самому себе… Но кто же будет его олицетворять? Кто окажется его пайщиками?
— Все, кем оно живет.
— Но оно живет и мертвыми.
— Чепуха! — сказал рабочий.
— Оно живет и теми стариками, которые греются там, на солнышке, у стены, — хотя они никогда уже не возьмут в руки инструмент. Ведь они некоторое время поддерживали это предприятие, отдавали ему свою силу. Оно живет и теми, кто еще не родился; не появись они на свет, оно вынуждено было бы закрыться. Наконец, ваше предприятие живет городом, который поставляет ему людей и пищу для них; высшей школой, чьи изобретения оно осуществляет, даже теми, кто раньше поверили в него и были им обмануты. Вот вам пример: у моего отца были акции, а Геслинг присвоил их.
Бальрих и Бук шли в глубоком раздумье до самого озера в «рабочем» лесу, и когда они остановились и принялись глядеть на воду, Бальрих сказал:
— Неужели это так? Тогда этого недостаточно. Только на предприятиях, раскинутых по всей стране, по всей земле, могла бы осуществляться справедливость, только это дало бы нам всеобщий мир! Тогда претворилась бы в жизнь та клятва, которую представители рабочих всех стран недавно дали на Базельском конгрессе{43}. Они заявили, что рабочие уже не бараны, которых гонят на убой, и не покорное орудие в руках поджигателей войны. Неужели это верно? — вопрошал он настойчиво.
— Только тогда, — продолжал Бук, — все будут стоять друг за друга и никто не окажется одинок в борьбе. Ведь мы же в конечном счете, в самом конечном счете, все равны.
Они обошли озеро; даже оно казалось чистым и прозрачным в сиянии весеннего утра. Вернувшись на прежнее место, Бальрих сказал:
— Прогулка с вами, доктор, не только поучительна, но это честь…
Бук молча взял его под руку, оперся на него, и они пустились в обратный путь. После глубокого раздумья Бальрих сказал:
— Если буржуазия все это знает, то какой же преступник Геслинг.
Бук покачал головой:
— Человеку очень трудно признать что-либо противоречащее его интересам.
— Я все же не совсем понимаю вас, — скромно возразил рабочий. — Вы имеете в виду меня? Впрочем, вы можете разуметь и тех господ вон там. — Он указал на виллу Клинкорума.
Перед виллой учителя, повернувшись к ним спиною, прохаживался сам хозяин в обществе доктора Гейтейфеля и Циллиха: он оживленно жестикулировал. Бук тотчас выпустил руку Бальриха и пошел вперед. Бальрих остался позади с чувством глубокой горечи, словно его предали. Он остановился и решил было повернуть обратно, как вдруг услышал голос Клинкорума.
— Вот он! — воскликнул учитель. — Подойдите-ка сюда, молодой человек! Мы тут как раз обсуждаем ваше дело. Намерены ли вы продолжать свое восхождение по лестнице, ведущей в храм посвященных, или одним махом низвергнуться в прежнее ничто?
Бук решил, судя по этой напыщенной и загадочной сентенции, что, должно быть, произошло нечто чрезвычайно важное. Тут Клинкорум умолк, точно не находил слов, чтобы продолжать свою речь, а Гейтейфель только подтвердил подозрения Бука, дав по этому поводу исчерпывающий ответ. Да, произошло, во-первых, то, что постройка еще одного корпуса, который должен был замкнуть полукруг позади виллы учителя, началась, и, во-вторых, Клинкоруму — этой жертве капитала, дирекция Гаузенфельда предъявила требование…
— Неслыханное требование! — подхватил Клинкорум.
— Прекратить занятия по гимназическому курсу с одним из фабричных рабочих — вот что произошло.
— Чего же еще ждать от них? — возмущенно осведомился Гейтейфель, в то время как консисторский советник только свистнул.
Бук не преминул выразить учителю свое сочувствие:
— Как раз на этого ученика вы возлагали свои лучшие надежды.
Клинкорум помедлил с ответом. Однако ему было сейчас не до сантиментов, и он вспылил:
— Ничего подобного! Он очень туго соображает! Своим нелепым зазнайством он только затрудняет учителю его задачу.
— Но именно потому вы сочли это делом чести и хотите быть учителем рабочего, который покажет когда-нибудь, на что способна человеческая воля…
— И притом я вовсе не хочу лишиться заработка, — добавил Клинкорум.
— Это ваше святое право, — подтвердили Циллих и Гейтейфель.
— Геслинг обесценил мой дом! Мало того, совершая грубейшее насилие над моей личностью, этот деспот еще дерзко посягает на мою профессию, запрещая мне преподавать. Но я буду отомщен. Вы, господа, будьте свидетелями. Я давно уже это предсказывал: мститель не за горами…
— Но его еще не видно… — вздохнули свидетели.
— Нет, еще не видно, — подтвердил Клинкорум, глядя куда-то мимо Бальриха. Потом снова пустился в пророчества: — Настанет день, да, настанет, господа, когда вилла «Вершина» содрогнется от топота народных масс. Они будут угрожать ей своим зачумленным дыханьем, своей местью. Мало того, они сровняют ес с землей.
От такой перспективы оба друга, казалось, преисполнились живейшей радостью. Однако рабочий продолжал с изумлением следить за разговором… Клинкорум же, спустившись с вершин своего пафоса, спокойно пояснил:
— Если бы Геслинг отказался от постройки этого разбойничьего вертепа, я, быть может, и перестал бы учить его рабочего.
— Что ж, выгода важнее всего, — сказал Бук, глядя вслед Бальриху, который молча повернулся и пошел прочь. Остальные в пылу беседы даже не заметили его ухода.
— Пусть он купит у вас участок! — посоветовал доктор Гейтейфель.
— И притом за двойную цену, — добавил Циллих.
— А не то вы взбунтуете против него весь Гаузенфельд.
«Как могут эти люди еще так обманывать себя», — размышлял, удаляясь, рабочий Бальрих.
Обдумывая положение этих господ, он решил, что хотя оно все же лучше, чем положение людей его класса, зато и унизительнее. Эти интеллигенты, как дети, задирают нос перед теми, кто еще беднее их, и, несмотря на то, что у самих гроши, пользуются своей ученостью и черным сюртуком, чтобы похорохориться перед богачами. Взбунтуются и тут же пресмыкаются при виде золотого тельца; как союзники они безнадежны, потому что располагают некоторыми благами, недоступными нам.
Да, говорил себе рабочий, всякий, кто имеет хоть какие-нибудь преимущества перед нами, тем самым участвует в заговоре против нас. Между теми, кто владеет хоть чем-нибудь, и нами, у кого ничего нет, лежит такая же пропасть, как между нами и богачами. Вся буржуазия, до беднейших ее слоев — это мир, отрезанный от нас, оттуда доносятся к нам лишь слабые отзвуки, а от нас туда — ничего, решительно ничего.
Он думал: «Каждый рабочий слышал уже мою историю. Ведь Динкли наверняка не смогли держать язык за зубами, но Клинкоруму ее никто не расскажет. Каждый тряпичник знает, что Гаузенфельд на самом деле наш и должен достаться нам. Только эти трое торгашей там, позади меня…» Бальрих даже плюнул при мысли о такой тупости и глупости; они хватаются за свои акции и не видят, как почва ускользает у них из-под ног.
Перед закусочной стоял оглушительный шум: рабочие играли в кегли. Когда Бальрих проходил мимо, они притихли.
Он вошел в закусочную и сел на скамью между двумя рабочими. Один чуть отодвинулся, а на лице сидевшего напротив Бальрих прочел явную враждебность. Они не доверяли ему, он стал как те, другие; а тем нельзя было доверять. Товарищи были правы. Чтобы расположить их к себе, он старался держаться как можно скромнее. Но вот вошел Гербесдерфер, почтительно посмотрел на него сквозь круглые очки и вдруг так поспешно сорвал шапку с головы, что она упала на пол. Бальрих мгновенно вскочил и, опередив Гербесдерфера, поднял ее. Когда Бальрих снова сел за стол, его сосед опустил ему руку на плечо и сказал:
— Я все знаю.
«Я знаю, ты наш, ради нас ты разучился смеяться и веселиться с нами, и жизнь твоя труднее и горше нашей», — казалось, говорил он.
Выходя из трактира, Бальрих столкнулся в дверях с Симоном Яунером.
Тот протянул ему правую руку, а левой сделал жест, словно заверяя его в чем-то, быть может, в том, что умеет молчать. Еще бы ему не молчать, когда каждый уже успел его предупредить: если господа узнают про замыслы Бальриха, Яунеру не миновать ножа — и он это знал. Поэтому никто не стеснялся в его присутствии. Динкль принялся за свои обычные шутки, именуя старого Геллерта «господин главный директор». Это и было и уже не было шуткой. Все заржали, Геллерт тоже; он перестал чувствовать в этом издевку, шутка скорее льстила ему.
Бальрих собирался было уйти к себе, к своим книгам, но какая-то женщина остановила его. Ее муж пьет, и она просила Бальриха помочь ей. Женщина так же смиренно склонила перед ним голову, как и его сестра Малли.
Старики, гревшиеся на солнце, оборачивались, когда он проходил, они изумленно смотрели на него и молчали особенно многозначительно. Дети, все племя детей неизменно толпилось там, где он проходил, и потом разбегались, вздымая густое облако пыли на его пути.
«Мы все заодно, — думал радостно окрыленный Бальрих. — Хоть враги и в заговоре против нас, это уже не спасет их; да и заговор этот не так уж страшен».
Кроме того, они ничего не знали. Ни один шпион ничего не донес им, они блуждают в потемках, терзаемые любопытством.
И на фабрике ощущалась их тревога. Все, вплоть до инспекторов, были свои и только усмехались в ответ на попытку кого-либо «оттуда» пронюхать, в чем дело. Но любопытных спроваживали, не дав им рта раскрыть, ибо никогда еще люди не работали с таким усердием. Ведь каждый знал: это для нас. Товар этот уже для нас, машины наши, и доказательство тому у Бальриха. И всех охватывает ни с чем не сравнимая радость в тот день, когда главный директор вместе со старшим инспектором важно шествует через цеха, и все-таки ему страшно. А дойдя до котла с жерновами, где стоит Гербесдерфер, Геслинг, глядя на него в упор, отступает и идет в обход. Внезапно позеленев, он думает о том, как легко ему, Геслингу, очутиться между жерновами — достаточно одному из этих людей толкнуть его… Страх, всю жизнь терзавший рабочего Гербесдерфера, вдруг охватывает и хозяина.
Тут он увидел Бальриха, — все взоры были обращены на директора, и Геслинг почувствовал, что погиб. Он не спускал глаз с Бальриха, и все стали смотреть на рабочего. Вон тот человек, с черными бровями, тот, с широким лбом, богатырскими плечами и вихром на лбу — я у него в руках, он сильнее меня, он уничтожит меня и восстановит справедливость. Рабочие переглядываются. До него дошло! Как он дрожит!
А Бальрих стоит, крепко упершись ногами в землю, и поджидает капиталиста, с его брюхом, с его белесыми волосами, с его массивным, жестким лицом, стоит, как всегда, исполненный сознания, что все зло на свете творится ради этого эксплуататора… Геслинг, поравнявшись с ним, останавливается, его нога на миг повисает в воздухе, на один миг, но смертельные враги уже успели помериться силой. Главный директор тут же надменно откидывает голову, а рабочий прикладывает руку к козырьку.
На дворе Геслинг, склонившись к уху старшего инспектора, спрашивает, не знает ли он, кто из этих людей обучался латыни у Клинкорума.
— Этот самый, — отвечает старший инспектор.
IV Моральные факторы
В последующие дни люди то и дело видели Геслинга на шоссе. Его машина проносилась в город, и не было, кажется, такого учреждения, перед которым бы она не останавливалась; а когда она снова отходила, рядом с Геслингом уже восседал какой-нибудь военный либо видный член правительства. Зачастую главный директор не возвращался даже вечером, а когда однажды утром доктор Гейтейфель и его шурин Циллих проходили мимо отеля «Рейхсгоф», они увидели, как из него вышел Геслинг — подтянутый, свежий и, видимо, отлично выспавшийся. Он даже заговорил с ними. Очень важное и чреватое последствиями совещание задержало его здесь, пояснил Геслинг. Кроме того, с машиной случилась авария…
— И так далее, — закончил Гейтейфель, но директор сверкнул глазами:
— Что это значит? Вы не верите мне? Намеки и слухи меня не интересуют. Я спокойно сижу на вилле «Вершина».
А Гейтейфель добавил:
— Вдали от мира, как властелин, и, надо полагать, с личной охраной?
— Я иду своей дорогой, и пассивным сопротивлением меня не возьмешь! — отвечал Геслинг, возмущенный, уже не владея собой.
Имеет ли он в виду настроение своих рабочих? — спросил Циллих. В таком случае с фактами не поспоришь.
— В последний раз, когда я был у Клинкорума, они так на меня воззрились, что я усомнился, выйду ли оттуда живым.
И тут оба интеллигента злорадно отметили про себя, как побелело властное лицо главного директора.
— Я ничего не знаю, — пробормотал он. — Неизвестно, чего они хотят. Вот что самое неприятное.
Циллих и Гейтейфель с лицемерным участием принялись давать ему советы. Взять хотя бы историю с электричкой, говорили они. Теперь ясно, какую непоправимую ошибку он допустил, помешав провести ее в Гаузенфельд. Ведь Гаузенфельд — это человеческий муравейник, отрезанный от мира, люди варятся в своем соку, поэтому он и превратился в разбойничий притон.
Разбойничий притон? Геслинг решительно отверг такое сравнение.
— Нет уж, извините. Моих рабочих я крепко держу в руках, им известны не только методы моего руководства, моя неумолимая строгость, но и то, что я для них второй отец. Сейчас, кстати сказать, я еду на фабрику. Если вы, господа, хотите мне сопутствовать, я буду только рад, вы убедитесь воочию, что я прав, и сами при случае сможете опровергнуть злонамеренную клевету.
Господа охотно согласились сопутствовать ему, но у виллы Клинкорума попросили остановить машину: им не терпелось поделиться с учителем своими наблюдениями.
Клинкорум торжествовал.
— Значит, не только меня, но и его, виновника, уже захлестывают мутные волны, поднявшиеся из этой долины. Даже к его вилле подступают они и скоро поглотят Геслинга вместе со всем его выводком. Мы погибнем все вместе! — И Клинкорум высокомерно рассмеялся, так что под складками зеленого халата заколыхалось его выпуклое брюхо, а его рот, окруженный прядями жидкой бороденки, открылся, обнажив длинные клыки.
Однако Геслинг отнюдь не стремился на фабрику, где подстерегавшая его тайна могла в любую минуту прорваться наружу, подобно назревшему нарыву. Он опять помчался на машине в Нетциг и, возвратясь к полудню, привез с собой генерала. Еще до завтрака эти господа успели осмотреть окружавшие виллу «Вершина» лес и парк. Его превосходительство фон Попп изволил заметить:
— Благодарю вас, господин тайный советник. Мои диспозиции намечены.
Вслед за этим хозяин дома повел генерала завтракать — через террасу, увитую розами, которые чуть покачивал ветерок, через сверкавшую позолотой галерею, в обтянутый белым атласом зал в стиле барокко.
Во время завтрака генерал фон Попп избегал деловых разговоров, беседа велась чисто светская. Позднее, сидя за чашкой кофе, в раззолоченной галерее, он спросил:
— Скажите, бога ради, что у вас стряслось?
Все молчали. Геслинг шумно вздохнул и, собравшись с силами, начал:
— Ничего. В сущности ничего. Ни саботажа, ни покушения, ни попытки к ограблению, ничего. Моя власть здесь по-прежнему неприкосновенна, да я и не допустил бы никакого покушения на нее, но, — закончил он нерешительно, — здесь чувствуется дух какого-то…
Фон Попп раздраженно ввернул:
— Ну, против духов я не могу выслать солдат.
Однако племянница генерала, разведенная госпожа фон Анклам, насторожилась.
Директор Геслинг убедительно попросил генерала не придавать его словам ложный смысл:
— Мятежники действуют новыми способами, они не выступают открыто, а лишь шушукаются и многозначительно переглядываются, будто им известно что-то, чего мы не знаем.
— Что ж, новый вид религиозного психоза? — осведомился адвокат Бук.
Его сын Ганс подмигнул ему из-за спины дяди. Но Геслинг после некоторого раздумья проговорил:
— Как знать, у них есть своего рода вождь, которого я считаю настоящим гипнотизером.
— Как интересно! — протянула госпожа фон Анклам, поднеся к глазам лорнет.
Но Горст Геслинг, сидевший рядом с ней, убеждал ее не обольщаться иллюзиями. Ведь этот вождь прежде всего не джентльмен. Зато сестра его совсем другая — в ней чувствуется порода, — добавил он вызывающе. Тут госпожа фон Анклам рассердилась.
А генерал фон Попп, весь побагровев, рявкнул:
— Вышвырните его — и баста!
Но промышленник поглядел на генерала, словно перед ним невинный младенец.
— Да, будь это так просто!
Вдруг на лице его появилось такое выражение, словно за спиной генерала он увидел кого-то, кого на самом деле там не было.
— Что он затеял? — пробормотал Геслинг, заметно бледнея. — Я готов встретиться лицом к лицу с опасностью, но я должен знать, где она.
Все были подавлены, но тут же с облегчением вздохнули, когда генерал снова рявкнул:
— Пусть только выступят! Мы им покажем, в чьих руках власть!
Асессор Клоцше, ухаживавший в уголке за Гретхен, дочерью хозяина дома, высунул руку из-за ее спины и поднял кверху, словно для присяги.
— Пусть только посмеют!.. — прохрипел он, грозно выкатив глаза, и, доказав этим свою решимость, возвратился к прежнему занятию.
Сыновья Горст и Крафт, утонувшие в креслах, так что торчали только их ноги в крагах, высказались категорически «за вскрытие нарыва».
Фрау Густа, гордясь храбростью своих сыновей, а еще больше тем, что разведенная госпожа фон Анклам столь поощрительно им улыбалась, села так, чтобы отгородить их от генерала и своего мужа Дидериха и таким образом не мешать начавшемуся флирту. В наружности Анкламши сквозило что-то еврейское, но у племянницы его превосходительства это можно было объяснить несомненно лишь игрой природы.
Свой выбор она остановила на Горсте, а не на Крафте, любимце матери. Крафт примирился с этим, — женщины его не интересовали. «Он принадлежит мне одной», — думала мать.
Между тем Эмми, мать юного Ганса Бука, была занята одним: как бы удалить сына из комнаты. Она слишком хорошо знала его и знала, что он заходит дальше, чем его отец, в отрицании своего класса, своих привилегий. Но что это с ее мужем? Он опять возражает генералу, побагровел не только он, но и Геслинг. «Мой брат Дидель, — размышляла Эмми, — очерствел. Я помню время, когда он был совсем другой. Теперь его видят только суровым, поэтому он думает, что и должен быть таким. И я знаю, — продолжала сестра свои размышления, — Дидель и муж мой уже никогда не сговорятся. Если бы только Дидерих позволил, Бук выложил бы им здесь всю правду. Ведь это же страсть Вольфганга — выкладывать правду, — рассуждала его супруга. — А потом он все-таки смиряется, даже если не согласен, и плывет по течению. Когда-то ему, должно быть, солоно пришлось. Где же теперь найти силы и бороться, чтобы не страдали другие?»
Но Ганс!..
«Мой Ганс, — с горечью думала мать, — я трепещу за него. Пока он только в душе стоит за правду, но я предчувствую, что он захочет и на деле осуществлять ее. А разве это возможно? Или мне надо желать, чтобы он стал другим, мой Ганс?»
Тут она почувствовала на себе неодобрительный взгляд своей невестки Густы. Та никогда не сомневалась в своих сыновьях, а ведь они были похуже отца. «Мой сын лучше, и все же мне приходится сомневаться. Да, жизнь сложна и запутанна», — говорила себе Эмми Бук.
А на террасе, увитой розами, у Гретхен возник спор с братьями и с Клоцше, которому надо было уходить. Худосочная, скрытная Гретхен стояла за рабочих, и возможную забастовку она даже одобряла. Но почему именно — из нее нельзя было вытянуть. Что бы ни говорил ее нареченный Клоцше, она неизменно отвечала:
— Да ну тебя, пузан!
Наконец брат Гретхен Крафт не выдержал и открыл ее тайну.
— Эх ты, дурочка! Во всем виноват театр! Она видела на сцене забастовку, а главаря играл Штольценек. Понимаешь, Клоцше? Леон Штольценек — первый любовник.
Горст незаметно толкнул Крафта в бок, однако асессор спокойно отнесся к его заявлению.
— Пустяки, — добродушно пробурчал он, — театр — это совсем другое. Я там тоже аплодировал вместе со всеми.
Когда машина умчала генерала и асессора, Геслинг остался в раззолоченной галерее и накинулся на зятя.
— Я очень обязан тебе за то, что ты расхолаживаешь моего генерала. Он совсем раскис. Если он не пришлет мне солдат, нам на крайний случай останется еще твоя болтовня.
Бук возразил, что слово всегда недооценивают, точно так же как недооценивают моральные факторы.
— Разве я аморален? — гневно спросил Геслинг.
— Средства, какими ты удерживаешь власть, — продолжал Бук, — те же, какими хвалятся и бунтовщики. А другие, которых они не знают, тебе так же чужды, как и им. Вы стоите друг друга! — мягко закончил Бук.
Геслинг пришел в ярость.
— Я знаю только свои права. Если рабочие выступят, в них будут стрелять. Окольные пути претят моей прямой натуре.
— Твоей прямой натуре? — повторил Бук.
— И твоей, надеюсь! — Глаза Дидериха метали молнии. — Учить одного из моих собственных рабочих латыни — это предательство, это поощрение крамольных идей! Я этого учителю Клинкоруму никогда не прощу. Но еще беспощаднее я отнесся бы к тому, кто ему платит за это.
Бук покачал головой.
— Поверь, он делает это безвозмездно, из чисто научного интереса.
— Пустая отговорка. Так может сказать каждый. И твой сын, одалживая Бальриху свои учебники, будет ссылаться на науку. Ганса теперь с ним водой не разольешь.
Бук отступил и уже робко, без иронии, сказал:
— Ганс? Но он ведь ребенок, не правда ли? В его возрасте дружат, не считаясь с рангами…
Ганс, притаившийся за камышовой кушеткой с горой подушек, все это слышал и видел. Он закрыл лицо руками. Отец отрекается от него. Отец лжет. Папа и ой, Ганс, — оба вынуждены лгать дяде Геслингу… Он тихонько выполз, прячась под гирляндами роз, и ускользнул с террасы. «Разве кто-нибудь может принудить нас лгать? Я ненавижу этого человека и буду ненавидеть вечно, клянусь!» При этом он отлично помнил, что и сам уже лгал не раз и что такова жизнь.
А с террасы все еще доносился крик Геслинга.
— Я должен верить всему, что мне говорят, и все говорят одно и то же, точно лжесвидетели. Что же я — к разбойникам попал?
— Ты болен, — мягко сказал Бук.
Но шурин уже вопил срывающимся голосом:
— Горе вам, если я вас поймаю!
И, повернувшись на каблуках, он покинул террасу.
В саду у «лубяной беседки» Геслинг увидел сыновей. Над окнами, обложенными корой, Горст и Крафт развешивали белые черепа животных.
— Что это значит? — спросил отец.
— Это принесенные в жертву богу Одину{44} черепа священных лошадей, — пояснил Горст, и из-под монокля у него вытекла слеза.
Малыши Ральф и Фрицгейнц, смотревшие, как работают старшие братья, тоже дали свои объяснения.
— Это телячьи головы, папа, они остались от обеда.
Крафт, долговязый, сутулый, с синевой под глазами, сказал, растягивая слова и заикаясь:
— Вот здесь самое подходящее место для пулеметов.
Геслинг опешил:
— Ну, до этого дело еще не дошло. — Затем добавил: — На вилле «Вершина» мы полные хозяева. Но до солдатских казарм все же два часа ходу. — Он взял за руку старшего сына. — Твоя мать уверена, что все должно идти как по маслу, потому что это мы, Геслинги. Внуши хоть ты ей, что весенний месяц можно провести очень хорошо и путешествуя.
— И поехать в Монте{45}? — насторожился Горст.
Вечером сыновья пришли за отцом, чтобы вместе совершить обычный обход. При этом они отрапортовали ему: «Явился в ваше распоряжение» — и во все время обхода держались по-военному. Вдруг из темноты раздался выстрел. Директор отпрянул и пошатнулся, как будто пуля попала в него.
— Это он, — простонал Геслинг. — Я вижу его.
Горст и Крафт схватились за револьверы; но оказалось, что это просто Ганс Бук: он щелкнул языком.
Главный директор от страха решил уже прибегнуть к «моральным факторам», о которых недавно упоминал его зять Бук. Не начать ли с них, прежде чем прибегнуть к крайним мерам?
И вот он спросил Циллиха о священнике из Бейтендорфа. Однако консисторский советник Циллих заявил, что давно порвал с этим вольнодумцем, который держится только благодаря светским властям и их полнейшему равнодушию к делам религии. При этом Циллих ткнул фабриканта пальцем в грудь.
Но и ты не поддержка, сказал про себя Геслинг.
Священник Лейдиц из Бейтендорфа не только враждовал с синодом, — не было двора в его приходе, где бы он не был должен; на сей раз этот всеми гонимый муж уже что-то пронюхал: в своей воскресной проповеди он, обращаясь к рабочим, затронул некий весьма жгучий вопрос, после чего тот стал еще более жгучим. Ибо Лейдиц подобрал из священного писания все, что только там можно было найти по части, увы, мятежных тенденций.
В результате Геслинг в следующее воскресенье решил лично это проверить и убедился в том, что рабочим остается только звонить в набат, призывая к восстанию.
Директор исчез, не дождавшись конца проповеди. А потом оказалось, что его машина дожидается на улице и директора в ней нет. Где же был ее владелец?..
Еще через неделю в воскресный день не только жены и старики, все мужчины Гаузенфельда повалили в храм. Что бы это значило? Но священник пошел на попятную; он уже не приводил тех страниц из писания, которые прежде закладывал пальцем, он нашел другие. И они как бы сами раскрывались перед ним, избитые, постылые; их слушали с раздражением.
— Знаем! Все это давно известно, — роптали мужчины и, не дождавшись конца церковной службы, разошлись по домам.
А священник с вдруг осунувшимся лицом спрятался за книгой… Однако не прошло и месяца, как все долги его были уплачены.
Теперь наступил черед Наполеона Фишера. «Их избраннику, — размышлял Геслинг, — надо полагать, удастся их образумить. Этот старый честный бунтарь знает, что за мной не пропадет».
И вот прибыл член рейхстага. Главный директор встретил его на вокзале и, прежде чем кто-либо успел заговорить с ним, увел его в пустой зал ожидания. Здесь депутат спросил:
— Что это вы опять затеваете против нас, господин доктор?
— Вы нужны мне, Фишер. Мы с вами уже не раз хоронили концы.
— Да, в былые времена я как-то напомнил вам об этом, но вы рассердились, оттого что тогда я был всего-навсего вашим механиком. Вечно вы стояли перед банкротством и спекулировали на мне, пролетарии! Эх, молодость, молодость!
И оба стареющих дельца внимательно посмотрели друг на друга. Наполеон Фишер, со своей седой гривой мятежника и лицом, изнуренным постоянными воплями и проклятиями, — Фишер, которого даже враждебная пресса называет вечно юным энтузиастом, ядовито поглядывал на Геслинга. А Дидерих Геслинг — широкий в кости, лицо жесткое, волосы жидкие, под глазами мешки — только сопел в ответ.
Затем депутат созвал собрание в комнате позади закусочной. Один из представителей фабричной администрации пытался помешать этому, но ему пришлось отступить перед напористостью испытанного вождя. Рабочие недоверчиво рассматривали почти новый коричневый костюм Наполеона Фишера. Но брюки не были отутюжены, а пиджак застегнут неправильно, поэтому костюм они ему простили.
Фишер подкреплял свою речь и жестами длинных рук, и открывавшей зубы обезьяньей улыбкой, и взмахами седой бунтарской гривы. Накричавшись до хрипоты, он, чтобы поберечь свою «бедную глотку», перешел вдруг на более мягкий тон. Но потом загремел снова: военный налог — это ничем не оправданный вызов пролетариату; его последствия капитал еще почувствует — удар кулаком. Русских методов мы не потерпим: погромы, надругательства над культурой… нет! Если уж на то пошло — он, Фишер, сам еще возьмет в свои старые руки винтовку!
Ну, а потом, как водится, личный контакт и разговоры по душам с сидящими в закусочной; член рейхстага попросту переходит от столика к столику, и под конец, в кругу рабочих, он кажется таким простым, даже вспотел весь.
— Ну, ребята, выкладывайте, какую каверзу он опять вам подстроил, мой старый эксплуататор, сидя там наверху в своем княжеском замке?
— Да еще в своем ли? — пробурчал старик Геллерт, но его тут же толкнули в бок, и он притих.
— Я-то не знаю даже, какой такой у него замок, да и знать не хочу. Бордели господ эксплуататоров меня не интересуют. Я видел эти замки разве что в «Неделе»!.. — заверил Наполеон Фишер рабочих, хотя сам давным-давно писал в газетах, в том числе и в этой, и также ясно и понятно, как всякий другой. — Он, конечно, желает, чтоб я явился к нему! — Удар кулаком. — Но мы в Каноссу не пойдем. Пусть сам найдет ко мне дорогу. Сейчас я ему нужен. Да, нужен, смею вас уверить, товарищи!
Но так как эффект, вызванный его словами, показался ему недостаточно сильным, он еще поклялся: да разрази его гром, если он хоть шаг сделает по дороге на виллу.
Рабочие молча слушали. Ну да, конечно, на виллу он верней всего не пойдет. Но из этого вовсе не следует, что он не встретится с Геслингом еще где-нибудь, ну хотя бы у президента.
— Так валяйте, ребята, — повторил Фишер. — Геслинг, конечно, начнет переговоры, и тогда он будет у меня в руках, это вы знаете из опыта. Ну, скажите сами, товарищи, чего бы вы без меня добились?
Они молчали: пусть сам себе отвечает. Гербесдерфер угрюмо спросил:
— Чего же это мы добились?
Но тут депутат неожиданно вскочил со скамьи и устремился навстречу старику; тот робко вошел, держа в руке жестяную миску, в надежде, что и ему перепадет кусочек.
— Папаша Динкль! Старый товарищ по классовой борьбе! — воскликнул Фишер и ткнул нищего в пустой живот. — Что, если бы у нас не было сегодня страховки для стариков и инвалидов, а это мы вместе с ним ее добились! — Депутат взял Динкля под руку и стал рядом с ним.
— Взгляните на нас, старых друзей! Что он, что я — никакой разницы! Ведь я тоже работал простым механиком у Геслинга… Так же как вы избрали меня, вы можете завтра избрать папашу Динкля. Что знает о ваших нуждах и горестях какой-нибудь пришлый ученый, который кутит с капиталистами! Но я, товарищи, считаю, что когда Геслинг, позеленев со злости, вынужден идти ко мне для переговоров, — я считаю, что это победа пролетариата!
Эти слова возымели свое действие, рабочие закричали «браво!» и «правильно!».
После этого депутат предоставил старого Динкля самому себе и заговорил снова:
— Так в чем же дело? Может быть, он чинит препятствия с открытием библиотеки? Или не построил для вас обещанных умывальников? Есть и умывальники и библиотека? Ну, тогда все в порядке. А в городскую биржу по найму рабочих я введу еще одного товарища.
Опять молчание. Только Динкль-сын сказал:
— А вы не знаете такой биржи, чтобы мне можно было больше не работать?
Тут Наполеон Фишер почувствовал себя задетым.
— Что за шутки! — сказал он строго и встал. — Предлагаю вынести порицание товарищу Динклю за его неуместную выходку.
Его не поддержали. Кто-то даже крикнул:
— Слышали мы всю эту премудрость, треплется в точности как пастор Лейдиц.
Депутат окинул взглядом присутствующих: у всех лица были хмурые и насмешливые. Тогда он стал еще торопливее допытываться. «Что вы задумали? Бастовать?» — обращался он к каждому в отдельности, но только к тем, кто сидел поближе к двери. Карл Бальрих громко заявил:
— Бастовать? Нет, поостережемся!
Его слова были встречены гулом одобрения, рабочие поняли его: на предприятии, которое принадлежит нам по праву, бастовать незачем. Депутат, однако, по-своему истолковал заявление Бальриха.
— Вот разумное слово, товарищи. Забастовки стоят партии только лишних денег. А деньги партии, чьи они? Это же ваши собственные деньги, товарищи!
Вдруг он очутился у самой двери. И тут снова торжественно изрек:
— Здесь, я вижу, царит здоровый дух, здесь люди знают, ради чего они трудятся. Поэтому я хочу на прощанье открыть вам, товарищи, каких выгод мы с вами добьемся во время закулисных переговоров о военном бюджете. Мы выторгуем повышение заработной платы на два процента, товарищи! За это я ручаюсь вам головой! Голосуем за военный бюджет, но вы получаете два процента. Да здравствует интернациональная революционная социал-демократия!
Он не дождался, чтобы они присоединились, и выбежал из закусочной. К своему изумлению, он не услышал ни звука за своей спиной, и никто не позвал его обратно. Постоял в темноте, прислушиваясь, потом задворками выбрался в поле. У изгороди, отделявшей «господский» лес от «рабочего», он подошел к Дидериху Геслингу, уже поджидавшему его, и сказал:
— Пустяки. Бастовать они не собираются. Они хотят получить два процента надбавки, только и всего. И вы меня не разубедите, господин доктор, ибо я вам говорю правду. Да, я остался верен своему классовому сознанию, если даже у меня и завелись небольшие средства. Меня капитализм не уловит в свои сети. Я не предам своих товарищей за презренный металл, да будет это вам известно!
— Не кричите так! — остановил его Геслинг. — Вы же знаете своих людей; разве вы уверены, что тут в темноте никто не притаился?
С трудом перелез он через забор, товарищ Фишер подсадил его. И вот главный директор и член рейхстага ощупью пробираются через «рабочий» лес.
— Эти ваши два процента, — сказал капиталист, — просто курам на смех. Я хочу знать, что замышляет Бальрих.
— Он — самый благоразумный из них. Он против забастовки.
— Значит, дело обстоит хуже, чем я думал, и тут что-то кроется, — пробормотал Геслинг.
Наполеон Фишер был озадачен.
— А что тут может крыться? Разве у него есть власть? Я признаю только политику власти. Либо у него есть власть, либо ее нет, а все остальное — вздор.
Наполеон снова начал витийствовать.
— Кроме всего прочего, идет дождь, — прервал его Геслинг. — Пойдемте-ка быстрее и помалкивайте, покуда я вам не позволю говорить.
И только когда они очутились в вагоне, стоявшем среди полей, Наполеон Фишер, с позволения Геслинга, снова дал волю своему языку. На грязном тряпье они сидели бок о бок — два политических противника — и шептались подобно тем бездомным влюбленным, которые находили здесь приют. И так же как некогда Бальриха с Тильдой, их вспугнули громовые удары в стенку вагона, и так же выползли они наружу, освещенные фонарем смотрителя, который сейчас же удрал. Да и они поспешно скрылись в сырой тьме этой ночи.
Едва Бальрих успел выйти из цеха после окончания смены, как к нему подошел товарищ Фишер и начал расхваливать его за благоразумие и усердие в труде. Если он, Фишер, когда-нибудь отойдет от всех этих грязных дел, то есть от политической жизни, кто знает, не обратит ли партия свои взоры на одного товарища, который собственными силами старается, подобно ему, Фишеру, из простого рабочего стать образованным человеком.
— Ведь это, вероятно, и есть ваша цель, к которой вы втайне стремитесь? — с тревогой закончил депутат.
— А вам это обязательно надо знать? — спросил Бальрих.
— Мне ничего не надо знать, — наставительно ответил старший. — Одиночка ничего не знает и ничего не может, хотя бы у него была на плечах, как у меня, голова вечно юного энтузиаста. Но и великое и малое совершается по непреложным научным законам, на которые опирается наша партия.
— Опирается, — повторил Бальрих.
— Все идет своим историческим путем, — снова подтвердил многоопытный политик. — Делать ничего не надо. Капитализм сам себя изживает.
— На наших спинах, — заметил Бальрих.
— А когда он изживет себя, мы будем его наследниками.
— Мы должны на деле доказать свое право быть ими, — сказал Бальрих с нажимом.
— И как же вы это намерены сделать?
Бальрих посмотрел на него, подметил его злобный взгляд и растерянное, настороженное лицо.
— Вас это интересует? — спросил рабочий.
— В моей искренности, товарищ, вы, надеюсь, не сомневаетесь, — отозвался Фишер.
— Нет, товарищ. — В голосе Бальриха звучала холодная ярость.
Член рейхстага струсил.
— Только без насилия, — торопливо пробормотал он. — Забастовки и прочие насильственные меры прежде всего бьют по нас самих, — и при этом подумал о своих гаузенфельдских акциях.
Рабочий, раскусив своего спутника, уже не слушал его жалкий лепет; казалось, он говорил самому себе:
«Мы должны дерзать и должны верить в себя и в других. Ведь и у нас есть душа! Мы знаем, что такое добро, мы всё же — люди. Одним этим мы уже сильнее денег».
Старый политикан искоса поглядел на него, насмешливо прищурив желтоватые глаза. Потом вздохнул — в нем возникли смутные воспоминания о былой юношеской роскоши чувств. Да, ему тогда казалось, что не у него одного, а у всех те же чувства… Вздор, конечно, но все же верилось… Так шел он довольно долго, пристыженный, занятый неясными мыслями о своей отживающей партии и о бесплодно прожитой жизни.
Затем он похлопал молодого человека по плечу и предрек, что вопреки всему тот сделает блестящую карьеру. Но, к изумлению депутата, Бальрих оттолкнул его руку и даже прикрикнул на него. Рабочему стало вдруг мучительно стыдно. «Я, кажется, уже слишком начитался книг. Слушаю этого болтуна и сам разглагольствую, точно какой-нибудь буржуй».
— Какое вам дело, — воскликнул он, — если человек думает вслух! Вы только шпионите здесь! Так знайте же, что у нас на уме! — И в приливе ярости добавил: — Все отдаст нам эта банда, а потом каждый пусть хоть собственной бритвой…
Бальрих оглянулся, но депутат исчез… Опомнившись, Бальрих направился к фабрике.
Там уже было известно о предстоящем обследовании предприятия санитарной полицией. Многие надеялись, что у Геслинга будут по этому случаю неприятности, и радовались уже заранее. Действительно, несколько дней спустя, поутру, прибыл медицинский советник и начался осмотр. Оборудованием фабрики он не мог нахвалиться, а умывальниками был более чем восхищен.
— Старшему инспектору господину… простите, как…
— Моя фамилия Ваксмут, господин медицинский советник.
Старшему инспектору Ваксмуту было поручено передать живейшую признательность господину главному директору, — к сожалению, он в данную минуту занят. Тогда те рабочие, которые заранее торжествовали, многозначительно переглянулись. Они догадались сразу, в чем дело. Этот чиновник от медицины был заранее подготовлен насчет умывальников. И Наполеон Фишер, который кичится тем, что все это его заслуга, тоже приложил руку. Этими умывальниками, которым так обрадовались рабочие, хозяева вдруг воспользовались для сговора против них.
После обследования фабрики дошел черед и до людей. Ведомственное лицо, мужчина исполинского сложения, проследовал вдоль их рядов подобно гигантской статуе некоего доблестного полководца. Порой он останавливался и, подбоченясь, расспрашивал рабочих. Тем надлежало перечислить все перенесенные ими болезни, причем советник, казалось, был убежден, что каждый от него что-то утаивает. Впрочем, в некоторых случаях он мог казаться даже приветливым и общительным, например, когда дело дошло до Яунера. Зато Гербесдерфер, стоявший рядом с Бальрихом, внушал ему явное недоверие.
— Снять бинт! — приказал он и, взглянув на его палец, снова властно бросил: — Фамилия?
Старший инспектор назвал фамилию, после чего медицинскому советнику как будто все стало ясно.
— Ну, конечно, мы облепили палец глиной. Натуральный метод лечения. А в случае заражения — кто оплатит операцию? Знахарь, что ли? И расходы на похороны он тоже возьмет на себя? — Обратившись же к старшему инспектору, пробурчал: — Господин, господин…
— Ваксмут.
— Ваксмут. Покруче с ними, господин Ваксмут, прошу вас, придерживайтесь этого золотого правила. Ведь наш человеческий материал застрахован вдоль и поперек, он не может гибнуть когда ему заблагорассудится.
Медицинский советник хотел было уже проследовать дальше, но вдруг повернулся, как на шарнире.
— Какой у того вон рабочего пристальный взгляд… Вы не заметили?
— Он хороший рабочий, — ответил старший инспектор с удивительным простодушием.
— И вам о нем не известно ничего особенного?
— Он учится.
Тогда медицинский советник кивнул с мрачным удовлетворением:
— Ага! Теперь вы сами убедились, что от моего пытливого взора ничто не ускользнет. — И обратившись к рабочему: — Эй, вы, как вас зовут?
Бальрих неторопливо смерил его взглядом, Затем с особым ударением ответил:
— Меня зовут… господин… Бальрих.
— Так, как. Еще чище.
Тут советник не только подбоченился, он стоя скрестил ноги и, казалось, не собирался уходить.
— И долго вы уже учитесь?
— Год.
— Наука, очевидно, не пошла вам на пользу. Скажите — вы страдаете раздражительностью?
— Когда меня раздражают, — ответил Бальрих.
— Скажите — не появляется ли у вас, особенно во время занятий, этакое… особенное возбуждение? Так что вы даже сбрасываете одежду?
— Нет, — удивленно ответил Бальрих.
Лицо медицинского советника расплылось, оно прямо-таки засияло от радости.
— Однако вас видели нагишом у окна, под утро, когда двери уже были отперты и люди шли на работу.
Бальрих, застигнутый врасплох, сохранял спокойствие; но в душе у него все кипело. «Когда же это было? Ах, да… верно. Уже рассвело, я лежал на подоконнике и думал. Чистая случайность, я сам уже забыл об этом. Откуда же он знает… Ах, вот откуда! От Геслинга! А тот?..» Бальрих оглянулся. Все взоры товарищей были устремлены в одну сторону, на человека, пытавшегося скрыться в толпе. «Ну, конечно, Яунер, кто же еще?..» И Бальрих сказал резким тоном:
— Может, это было, а может, не было, но в моей комнате я сам себе хозяин, и до шпионов мне дела нет.
Тогда советник, насторожившись, опять спросил:
— Вы, видимо, вообще считаете себя здесь равноправным?
— Я заключил добровольный договор, — ответил Бальрих. — И что до меня, я его выполняю.
— А другая сторона?
— Незачем выспрашивать меня, — отрезал Бальрих, осененный внезапной догадкой, и взглянул на советника в упор. — И незачем тут из-за меня разыгрывать комедию.
Медицинский советник заморгал; затем поспешно и даже с некоторым дружелюбием осведомился:
— У вас, верно, много врагов? — И так как Бальрих промолчал, добавил: — Тогда понятно и ваше заявление: «Все должна отдать эта банда, а потом каждый пусть хоть собственной бритвой перережет себе горло».
Бальрих остолбенел. «Все ясно», — подумал он.
Медицинский советник тем временем обратился к старшему инспектору:
— Все ясно. Этот человек сумасшедший. Можете доложить об этом от моего имени господину тайному советнику.
Старший инспектор поклонился, между тем как медицинский советник среди воцарившейся тишины и охватившего всех ужаса, как ни в чем не бывало, даже не понизив голос, продолжал:
— Этот человек страдает манией преследования и все принимает на свой счет. К тому же он зазнался и не желает считаться со здешними условиями. Причины вполне достаточные, чтобы признать его параноиком и посадить под замок.
Услышав ропот, он изумленно оглянулся: у людей были такие лица, что он тут же поставил ногу на место, опустил руки по швам и сбавил тон.
— Согласно закону, — заявил он поспешно, — и существующим медицинским правилам этот рабочий должен быть немедленно направлен в лечебное учреждение.
Ропот нарастал.
— Приступим к осмотру, — продолжал он, силясь не терять выдержки. Подойдя к Бальриху, он ткнул его большим пальцем в глазную впадину и снизу нажал на кость. Палец вонял. Бальрих, у которого от ярости в глазах потемнело, уже поднял было руку, но, сделав над собой отчаянное усилие, тут же опустил ее, холодея от ужаса при мысли о том, что могло произойти.
Между тем советник давал старшему инспектору наставления.
— Пусть он немедля идет в больницу. На тамошних врачей мы можем положиться.
Откуда-то донесся голос: «Его отправляют в сумасшедший дом!» Ропот усилился. Медицинский советник вздрогнул, сделал несколько неуверенных шагов, словно дрессированный медведь.
— Я сейчас же позвоню туда, — крикнул он и поспешно вышел. Лишь за дверью он постепенно принял свой обычный вид и стал снова похож на огромную статую доблестного полководца.
А Бальрих ходил среди шумевших, взволнованных рабочих и старался успокоить их.
— Я пойду туда, они ничего не могут сделать со мной. Я вернусь. — Потом распрощался со всеми.
Он шел широким шагом по шоссе и продолжал подбадривать себя. «Как они меня боятся, если хотят таким чудовищным способом сломить мою волю. Они погибли и знают это, иначе они не посмели бы меня тронуть. Слишком многим известно наше дело, оно может попасть в газеты. Сами-то они сумасшедшие!»
Едва он вошел в город, как внезапная мысль ошеломила его: «Еще недавно я ходил сюда за учебниками. А теперь с тем, чему научился, иду в сумасшедший дом». Он почувствовал ледяной озноб, и у него засосало под ложечкой, шаг невольно замедлился, но затем Бальрих пошел еще быстрее и весь потный добежал до больницы.
Минуя дворника, он хотел было войти в одну дверь, но она оказалась запертой, даже ручки не было у этой двери.
— Туда, надеюсь, вы не хотите попасть, — крикнул дворник и послал его в приемную. Теперь он шел беспрепятственно по белым длинным коридорам, более широким и чистым, чем в казармах Геслинга.
Санитарки в накрахмаленных чепцах развозили по этажам тележки с пищей. На самом верхнем этаже сидел у стола молодой человек в белом халате, он говорил и записывал одновременно. Рабочий не решился подойти к нему, но молодой человек сам окликнул его.
— Господин Бальрих!
И вот он стоял перед врачом, вертел в руках фуражку и хмурил брови. А молодой блондин внимательно смотрел ему в глаза, внимательно, не враждебно, и говорил, но как будто сам не слышал того, что говорил:
— Я вас сразу узнал. Мне описали вас очень точно. Бог знает, почему мне поручили заняться вами. Ну да ладно, — ободряюще закончил он.
У сиделки он осведомился, есть ли свободная комната.
— Особый случай, — шепнул он проходившему мимо коллеге. Затем, взяв Бальриха под руку, отворил одну из многочисленных дверей, за ней еще одну и, наконец, предложил ему войти. В комнате была койка, отопительная батарея, распахнутое окно выходило на железные крыши.
— Садитесь, — сказал врач. — Вы знаете, где находитесь?
Бальрих из осторожности ответил только:
— В комнате.
— Ну, да, пожалуй, — рассмеялся врач. — Но почему, собственно, вы сюда пришли?
— Потому что какой-то медицинский советник, — сказал Бальрих уже твердо, так как был подготовлен к такому вопросу, — усомнился в моей нормальности.
— Что еще ничего не доказывает, — добавил молодой врач. — Но почему же вы не садитесь? Пожалуйста, располагайтесь, как вам удобнее. Мы только беседуем с вами. Видите, я даже не записываю того, что вы говорите.
Однако Бальрих чувствовал, что здесь учитывают не только каждое его слово, но и какой он сделает жест, как шагнет, быстрее или медленнее, повысит или понизит голос. Он стоял, не двигаясь.
— Ну так сядемте, что ли? — снова предложил врач.
Бальрих твердой походкой подошел к креслу и присел на ручку.
«Теперь уже все равно», — решил он. Врач, казалось, не следил за ним. Откинув голову, он проговорил, глядя в пространство:
— Вы чувствуете недомогание?.. Нет? Приливы крови или головокружение? Нет?.. Однако вы ведь стояли голый у своего окна, — сказал он внезапно, подчеркивая каждое слово, и, нагнув голову, пристально посмотрел на Бальриха.
Бальрих сидел, словно оцепенев. Значит, все это ловушка? И этот человек только для виду принял мою сторону! Подлая ловушка! В бешенстве, сжав кулаки, он бросился вперед. Но в то же мгновение заметил, что врач потянулся к звонку за спиной. Бальрих почувствовал, что бледнеет — так велика была грозившая ему опасность. И вместо сжатого кулака он только протянул, как бы с мольбой, раскрытую ладонь.
— Все это оттого, — виновато промолвил он, — что медицинский советник уже старался вот этим самым раздражить меня. Разве выдержишь, когда каждый бросает тебе в лицо все, что ему нашептали шпионы? У нас есть шпионы, вам это неизвестно?
На лице врача снова появилось добродушное выражение. Он заговорил мягко и успокаивающе, видя, как Бальрих побагровел и с каким волнением он словно выталкивает из себя слова.
— Этого я, разумеется, не могу знать, — сказал врач. — А вам незачем волноваться.
Он уселся поудобнее. Бальрих покорно последовал его примеру.
— Расскажите мне, пожалуйста, — начал врач, — как вы живете в Гаузенфельде.
Рабочий ответил с горечью:
— Отвратительно, нас эксплуатируют. Мы порабощены и как скот согнаны в кучу.
«Вот что они хотят услышать от меня», — вдруг испуганно подумал он и быстро добавил:
— Но ведь это знают все. Я помешан не более, чем Другие.
— Готов поверить вам, — просто заметил врач, — а скажите мне, правда ли, что вы имеете влияние на ваших товарищей? — И, заметив недоверчивый взгляд Бальриха, добавил: — Что, впрочем, вполне естественно… У вас больше силы воли, вы доказали это тем, что учитесь… Ведь учение — дело не легкое?
В его словах прозвучало даже участие. Однако рабочий ответил резко, с укором:
— Вам, вероятно, надо признать у меня переутомление! Вы хотите меня поймать?
Молодой блондин еще ближе наклонился к нему.
— Напрасно вы так думаете. Я знаю сам, что значит надорваться на работе. Я понимаю, вы хотите выкарабкаться из нужды.
— Не только я, — заметил Бальрих с внезапным воодушевлением. — Других тоже надо вытащить. Но кто-нибудь должен начать. И это сделаю я.
— Вы чувствуете, что это ваше призвание?
Бальрих ударил себя кулаком в грудь.
— Да, на меня это возложено. Это моя… моя…
— Ваша миссия?
— Да. — Бальрих вдруг почувствовал глубокое облегчение, хотя на лице врача было явно написано недоверие.
— Миссия, — продолжал врач. — Почему бы и нет? Это возможно. — Он оперся подбородком на руку и заговорил вполголоса. — А начальству вашему это известно?
— Оттого и все преследования, — сказал Бальрих.
И уже совсем тихо врач спросил:
— Кто же вас преследует?
— Да все он, из-за него все зло. И орудий у него множество — шпики, священник из Бейтендорфа, наш депутат, — он предатель, — а теперь еще медицинский советник.
Когда Бальрих это высказал, аромат цветов, доносившийся из сада, показался ему вдруг более удушливым, голос какой-то птицы почти испуганным. Врач сидел, потупясь.
— Конечно, — повторил он, — бывают и враги. Я не призван защищать капитал, который вы так ненавидите. Пусть этим занимаются бонзы, — бросил он как бы вскользь и вслед за тем внушительно добавил — Но, посудите сами, не кажется ли вам несколько странным, почти невероятным, что именно социал-демократический депутат оказывается вашим врагом и другом вашего противника?
— Да, это, может быть, и странно, — коротко ответил Бальрих, считая, что уже высказался.
А врач бережно продолжал:
— Вы только что рассердились, и я бы не хотел вам напоминать ваших слов. Ну… насчет бритвы… Это, конечно, запомнилось ему, он рассказал другим. А вы называете это предательством. Что до медицинского советника, то могу вам сказать одно: мы, врачи, всегда и всюду видим симптомы — это уж наш чисто человеческий недостаток. Я верю, что вы говорите о реально существующих вещах, но я бы на вашем месте относился к ним спокойнее.
— Когда низости не затрагивают нас лично, мы всегда относимся к ним спокойнее, — заметил Бальрих.
— Вы правы и на этот раз, — ответил врач.
Он встал. Бальрих последовал его примеру.
— Что же мне — оставаться здесь? — спросил он глухо.
— Пусть эта короткая гастроль не огорчает вас, — беспечно сказал молодой врач. — Мы неплохо расстаемся с вами. Как видите, я не очень суровый следователь. Вы могли бы попасть и к худшему. Скажу вам по секрету, — он прикрыл рот рукой, — медицинский советник, когда вызывал меня к телефону, перепутал мою фамилию.
Он звонко рассмеялся. И Бальрих, пожимая протянутую руку, тоже расхохотался.
— Эта комната, надеюсь, понравилась вам. Ведь и комнаты — вы, наверно, слышали об этом — не все у нас такие приятные… Кстати, я еще кой о чем хотел спросить вас, — поспешно проговорил врач, — не представляется ли вам иногда что-нибудь такое, чего, как потом оказывается, на самом деле и не было?
— Вы хотите сказать, видения? Нет! — возмущенно ответил Бальрих. Но тут же вспомнил один случай, и ему стало страшно. Неужто там, на вилле «Вершина», и произошло то самое?
— А это плохо? — спросил Бальрих.
— Откройте мне спокойно все! Может быть, вы долгое время голодали или переутомились?
— Нет, — отвечал Бальрих, глядя перед собой, — оно появилось потому, что я желал его…
— Желанные видения могут быть у каждого не вполне счастливого человека или много ожидающего от жизни. Как это случилось? Расскажите!
Но Бальрих молчал. «Я видел Лени богатой и прекрасной на вилле «Вершина». Это была мечта, но более реальная, чем все вы. И вот вы хотите, чтобы я в сумасшедшем доме выдал вам мою драгоценнейшую мечту. Фу, черт!» Прежде чем Бальрих осознал, что делает, он топнул ногой, изо всех сил ударил по платяному шкафу и выругался. Врач слегка покачал головой.
— Видите, все-таки прорвалось, — сказал он неодобрительно и, заметив, что Бальрих совсем уничтожен, добавил: — Ну, больше вы не поддадитесь.
Он направился к двери, но вдруг остановился.
— Кто крикнул «вор»? — спросил он.
Бальрих взглянул на врача.
— Меня никто не может назвать вором. Но я, — сказал он презрительно, — знаю их немало.
Врач кивнул и удалился.
Некоторое время Бальрих сидел, настороженно прислушиваясь, потом принялся ходить по комнате быстро, все быстрее. Наконец-то ему опять все разрешено — поднять руки, передвинуть стол. Он высунулся в окно. Можно было коснуться верхушек деревьев, но сквозь густую листву никак не разглядишь, что внизу. Вдруг ему пришло на ум, что в таких домах бывают отверстия в двери и в стенах, однако он не нашел ни одного. Затем он стал упрекать себя, что слишком многое открыл этому шпиону. Если бы ты молчал, только молчал, — какое же оружие ты мог дать им в руки? А вместо этого ты выдал им самое сокровенное — из страха, потому что у них в руках власть. Самое страшное злоупотребление властью произошло именно здесь, у него на глазах, когда его чистейшую грезу обследовали в доме для умалишенных.
Теперь Бальрих понял, что аромат, доносившийся из сада, был тот самый, уже знакомый ему запах цветущих лип — он слышал его год назад, когда едва не покончил с собой, решив повеситься на первом суку. «Аромат судьбы, — подумал он. — Сколько пережито с тех пор, сколько пережито!» Растянувшись на диване, он лежал в раздумье, пока не наступили сумерки, радостно размышляя о своей миссии, о своей борьбе; тебе, тебе, избраннику, предназначено это свершить. Рази же их, избавитель, в Гаузенфельде и далеко за пределами его, по всей стране, во всем мире. Именно здесь, только потому, что ты очутился здесь, понял ты, как одни надеются на тебя и как другие тебя боятся! Вот оно — высшее мгновение твоей жизни! Они думали тебя уничтожить, а между тем ты стал еще сильнее.
Отвыкнув от сна, Бальрих ощутил в темноте особый прилив бодрости. Он включил свет и вдруг увидел перед собой широкие плечи, голову с большим выпуклым лбом, но лицо было узкое, осунувшееся.
И он испугался, перед ним был чужой человек. «Неужели это и вправду твое лицо?» Он помнил его еще квадратным, как колода. «Неужто у тебя уже было столько дум и забот, бедняга? Забот о делах столь отдаленных, что ты еще не скоро увидишь их целительный исход. И сколько же еще придется ждать?»
«Я не переживу этого, — подумал он, цепенея от ужаса, — Я знаю лучше их, что со мной. Они называют это манией величия и манией преследования. Но они еще не знают, что у меня уже было искушение наброситься на Фишера, а потом на медицинского советника. И вот сегодня я не выдержал. Этот дом действует на меня. Я погиб».
И, закрыв лицо руками, он опустил голову, словно молился. Страшно находиться здесь, но и не менее страшно выйти отсюда одиноким на всю жизнь, и неизвестно, хватит ли у тебя силы выдержать — выдержать борьбу с целым миром?
Тут голос бога в его душе сказал: «Ты не один, и твоя миссия — это миссия всех. Все вы должны подняться до вершин разума, опираясь друг на друга, — все как один. И нищий Динкль так же достоин этого, как ты».
Уже рассветало. Бальрих уснул.
Проснувшись, он почувствовал ту же усталость и смятение, как накануне. Блуждание мыслей сменялось забытьем часть дня и всю ночь, и как только рассвело, он потребовал врача. Оказалось, что тот уже ждет его в саду.
Сад был полон зелени — зеленые дорожки, зеленый высокий дощатый забор вокруг. Кругозор был очень тесен — всюду густой кустарник или деревья, склонявшие зеленокудрые вершины до самой земли. Кто быстро пробегал по траве, кто важно шествовал. Но только один обитатель этого дома дольше других оставался на виду. Он стоял в самом конце сада, худой и длинный, глядя в зеленоватый воздух, и воздетой неподвижной рукой приветствовал высь.
К Бальриху подошел молодой белокурый врач.
— Я позвал вас сюда, господин Бальрих, потому что уже решил отпустить. Вы будете удивлены, так как сами понимаете, что еще совсем недавно вели себя довольно странно. И после того вы были очень возбуждены, но потом я видел вас спящим и убедился, что у вас все в порядке. Если вы опять когда-нибудь почувствуете, что переутомлены, я разрешаю вам прийти сюда и здесь выспаться!
— И это все? — спросил Бальрих.
— Существуют еще различные термины и наименования болезней для тех, кто хочет ими воспользоваться. Но я не хочу. Вы страдаете заблуждениями душевно здорового человека; я это признаю и никогда в угоду кому-то не буду констатировать обратное, если оно не подтвердилось. Вы часто ошибаетесь и в оценках своих восприятий и своего мышления. Но этим еще не доказано, — продолжал он, отвернувшись и устремив свой взор в бирюзовую высь, — что такой человек неполноценен; возможно обратное, именно что он особенно ценен. Среди нас оказалось бы куда больше гениев, если бы жизнь всегда для них находила место.
— Значит, я все-таки человек пропащий? — спросил Бальрих, ибо так понял слова врача.
Они дошли до конца сада. Тощий человек все еще стоял на том же месте, словно был здесь один, и продолжал приветствовать неведомое. Врач остановился.
— Я понимаю вас, потому что я молод. Будь я стариком и чинушей, я бы вас посадил в сумасшедший дом. Но так как я молод, то я чувствую себя еще связанным с неведомым, со вселенной.
Он поднял лицо и воздел руку, приветствуя высь — совсем как тот помешанный.
И затем снова обратился к Бальриху, с грустной улыбкой:
— Будем говорить прямо. Вы пострадали от неправды, вы видите, что ваши ближние продолжают страдать от нее, и пришли к выводу, что весь мир — сплошная несправедливость.
— А к какому же еще выводу я мог прийти? — спросил рабочий.
— Я… тоже не знаю. — И с той же печальной улыбкой врач продолжал: — Но, может быть, вам следовало бы снисходительнее относиться к людским заблуждениям, мне тоже приходится.
— Я не могу, — сказал Бальрих.
Молчание. Они повернули обратно.
— Вы любите кого-нибудь? — спросил врач.
— О да!
— Так любите же, любите! Вот вам средство преодолеть ненависть.
Они пожали друг другу руки. Бальрих еще раз прошел по белым длинным коридорам; и опять сиделки толкали перед собой тележки с пищей; наконец он вышел. «Бывают на свете и друзья», — подумал он, очутившись среди непривычной городской сутолоки. Но по пути в Гаузенфельд мрачные мысли снова овладели им, самый воздух словно был насыщен борьбой, и впереди его ждала борьба. Он подумал: «Как бы этот доктор не обжегся. Ведь он должен был признать меня сумасшедшим, на то он и поставлен. И вдруг он отпускает меня, тут что-нибудь да не так».
На фабрике ему все стало ясно. Здание охраняли жандармы; уже со вчерашнего дня опасались столкновения. Рабочие поставили администрацию перед выбором: Бальрих или стачка! Ага! Он злобно усмехнулся и стал на работу. Вот оно откуда — благородство врача! Все они одинаковы, одна шайка!.. Но его все же тревожило сомнение. «А вдруг это случайность? Ведь врач говорил со мной, как друг… Как будто среди них у меня могут быть друзья? Они зависят друг от друга и все вместе — от самого богатого. А тот не друг мне… Нет, никому нельзя верить, только работать, работать!»
V Праздник строителей
Он так был поглощен работой, что даже не заметил приподнятого настроения, царившего на фабрике. Новый казарменный корпус, кошмар Клинкорума, стоял уже под крышей, и его завершение готовились ознаменовать большим торжеством. На один из ближайших сентябрьских воскресных дней намечалось гулянье с даровым пивом, музыкой, танцами, аттракционами и повальным пьянством. Бальрих молча наблюдал рабочих, оживленных близостью предстоящего праздника, женщин и девушек, которые обсуждали свои наряды, влюбленных, — они уже предвкушали свое счастье, и его сердце охватывала жалость, еще более острая, чем гнев.
Он мог бы сказать им: «Не обольщайтесь! Вы же знаете, что это милостыня, которую он вам подает, что этот беззаботный день — грошовая подачка, он ее бросает вам за муку всей вашей жизни, чтобы вы и впредь страдали до могилы». Но он молчал. Бедняжке Тильде, ходившей за ним по пятам и, конечно, ожидавшей большего, он купил новый платок, а сестре своей Лени — бальные бронзовые туфли на каблучках, словно для феи.
День выдался безоблачный, каким и надлежало быть праздничному дню. На новом корпусе уже покачивались гирлянды из еловых веток. В воздухе заколыхались флаги: подошли рабочий кегельный клуб и гимнастический кружок, председатель или распорядитель уже упивался радостью покомандовать, а все остальные — счастьем постоять навытяжку по собственной доброй воле.
А на поляне, перед корпусами С и Т уже завертелась карусель. Но детей ждала не только она: ларьки с вафлями, тиры и киоски с лимонадом — все это выстроилось на поляне, по пути к кладбищу. Программа увеселений для взрослых была иная.
В зале позади закусочной, пахнувшей свежей побелкой и еловыми ветвями, рабочих ждала обильная закуска — копчености и пиво, ешь и пей сколько влезет под гром духового оркестра и запах известки и хвои; а в довершение всего — речь молодого хозяина Горста Геслинга.
Он замещал своего отца-директора и хотя не ел со всеми, но стоял, держа в руке кружку пива, на самом почетном месте, в конце самого длинного стола. Рабочий Динкль, по своему обыкновению, угодливо подвинул молодому Геслингу стул и притом под самые колени, так что ноги у него поневоле должны были согнуться. Однако, против ожидания Динкля, Горст Геслинг продолжал стоять, выпрямившись. Он лишь через плечо бросил ему: «Напрасно стараетесь, любезный!», что должно было внушить Динклю соответствующее почтение. Другие рабочие, которых уговорил Яунер, протиснулись к столу и попросили разрешения у молодого хозяина выпить за его здоровье. В ответ Горст Геслинг поднял бокал до своего монокля, чем все были крайне польщены. Многие сегодня даже сошлись на том, что сына и сравнивать нельзя с отцом и что молодой Геслинг — порука лучшего будущего. Пророчества рабочего Бальриха, для исполнения которых нужны были упорный труд, воля, вечное доверие — все было заглушено сегодня ревом оркестра и шумом дешевых радостей. А сам Бальрих, застрявший где-то в задних рядах, потерял цену в их глазах. Только бы Геслинг-отец отправился на тот свет, а тогда да здравствует Геслинг-сын!
Молодой наследник ударил по столу тростью, да так, что женщины, сидевшие поблизости, взвизгнули; затем, среди внезапно наступившей тишины, опершись ладонями о стол, он резко бросил: «Люди!» — вызывающе поглядел вокруг и снова повторил: «Люди! Этот дом, завершение которого мы сегодня празднуем, напоминает, верно, и вам, что раньше здесь таких домов не было».
Бальрих, стоявший сзади и зажатый толпой, презрительно выслушал тираду молодого наследника, гордо озиравшего зал. Ему было еще неясно, к чему тот клонит. Казалось, наследник рассказывает историю Гаузенфельда… «Это было жалкое местечко, покуда мой высокочтимый отец не взял бразды правления в свои сильные руки и не наложил на предприятие печать своего могучего духа». Затем он продолжал еще более напыщенно:
— И вот взгляните, какой размах! Наше предприятие не узнать! А в чем секрет успеха? Только в руководстве!
В доказательство воспоследовало сравнение со всей страной в целом. Ибо, когда молодой Геслинг проходил в гимназии историю Германской империи и ее блестящего расцвета при нынешнем всеми признанном правительстве, он неизменно вспоминал Гаузенфельд и своего «высокочтимого отца». И тем же торжественным и напыщенным тоном он заговорил снова:
— То, что мы видим в Гаузенфельде, можно наблюдать по всей империи; стройка идет повсюду, и доказательство тому новый корпус. Сейчас у нас тысяча девятьсот тринадцатый год…
Наследник сделал паузу, словно что-то высчитывал.
— Да, тысяча девятьсот тринадцатый, и все это сделано в течение последних двадцати — двадцати пяти лет. Мы произвели в Гаузенфельде столько бумаги, что могли бы покрыть ею весь мир. И, как знать, может быть, нам придется производить и кое-что другое, еще более нужное нашей стране.
Снова пауза, затем взмах бокалом, и, собрав всю свою силу, он крикнул:
— А посему его императорскому величеству и главному директору Геслингу ура, ура, ура!
В ответ на это рабочие тоже, точно выстрелив, грянули троекратное ура. Музыка загремела туш.
А теперь можно было освободить зал для танцев! Мужчины помоложе, сняв пиджаки, принялись раздвигать мебель, между тем как по углам девушки, хихикая, стояли уже наготове. Бальрих едва успел помочь разобрать длинный стол, как в зал вошла Лени. Она явилась только теперь, словно шумы и запахи насыщения не были достойны ее присутствия; да и как расцвела она за этот год! Сестра стала дамой, настоящей дамой! Брат только сейчас заметил это. На плечи все еще накинут платок работницы, но под ним узкое шелковое платье, обтягивающее фигуру, и такое длинное, что даже не разглядишь, надела ли она бронзовые туфельки — его подарок; золотистые волосы причесаны так гладко и уложены так искусно, будто их лишь касались ее тонкие, белоснежные руки. Длинные перчатки закрывали их до самых рукавов.
Откинув голову, словно знатная дама, созерцающая веселье простонародья, она шла по залу; ее мелкие шажки казались связанными, и на ходу обрисовывались ее стройные колени; увидев сестру, Бальрих раскрыл рот и покраснел; и все-таки он гордился ею и любил ее; потом он кинулся ей навстречу, желая проводить, но, пока на ходу надевал пиджак, к ней уже подошел Горст Геслинг, по его знаку заиграла музыка, но они пронеслись мимо, не видя его. Бальрих стоял в нерешительности. За первой парой, шаркая и топая, шло множество других. Но эти двое пронеслись мимо неслышно, точно пылинки.
Долгим казался ему этот вечер; только кончался один танец, как тут же начинался другой. Лени все танцевала, и только с одним. Бальрих чувствовал, что на него смотрят, ведь он стоял недвижно, словно прикованный к месту, его хмурый взгляд все мрачнел, казалось, он не в силах оторвать его от одной-единственной пары.
Глядя ей вслед, Бальрих мысленно называл сестру бесстыжей, а ее кавалера — подлецом. Вот сейчас он встанет между ними, он мысленно твердил себе, что близка та минута, когда по праву брата он вступится за честь сестры и они вынуждены будут расстаться; а они продолжали танцевать. Не видя его, танцевали и улыбались друг другу, и это обезоруживало его. И так хороша была Лени со своими широко расставленными глазами, пунцовым ртом и матовой белизной почти прямого носа, — так прекрасна была его сестра, что ради нее он готов был признать прекрасным и ее танцора с его моноклем, прилизанными соломенными волосами и красным потным лицом. Он вел ее так, как еще никто в этом зале. Ей оказано предпочтение, и она чувствует себя счастливой от пустяка, от какого-то танца. «Увы! Когда же она узнает настоящее счастье, за которое я борюсь?.. Не следовало бы мне смотреть на нее… Но что это?» Он очнулся от забытья. Кругом развевались пестрые юбки, мелькали пестрые цветы, блестели от хмеля глаза. И все это только прах. Мы — бедные!
Но вот возле Лени и Горста образовалось свободное пространство, Бальрих увидел, как сестра, приподняв платье над обтянутой шелковым чулком ногой, промелькнула мимо, и на ней сверкнула его туфелька, золотистая туфелька феи. «А все-таки в эти краткие мгновения радости она танцует в туфлях, подаренных мной», — подумал он и с этой мыслью покинул зал; вслед за ним, истомленная ожиданием, выскользнула и Тильда.
Он угостил ее лимонадом и сказал, что хочет поиграть в кегли. Позади киосков с громом и звоном вертелась, кружилась, сверкая блестками, карусель, а вокруг толпились разряженные дети. Они визжали от нетерпения. Другие возились на лужайке или приносили матерям из киосков напитки и тут же успевали втроем или вчетвером прокатиться в коляске, запряженной осликом. Вздымая пыль, ослик неутомимо возил коляску от шоссе до кладбища и обратно. Пыль тучей висела над лугом, палатками, строительной площадкой, кегельбаном. Среди этой пыли стоял неумолчный крик, и жирный чад от хвороста, который пекли здесь же, под открытым небом, катился волнами вдоль всей кладбищенской ограды, над расположившимися в ее тени любителями выпить и даже над могилами, между которыми кое-кто уже улегся спать.
Смелые гимнасты и любители рискованных шуток избрали себе для развлечения строительную площадку. В новом корпусе еще не было лестниц, но они взобрались на верхние этажи и, усевшись в оконных проемах, так галдели, что Клинкорум, живший в доме напротив, наконец не выдержал и появился на балконе. Укрывшись от необузданного народного веселья в тиши своего дома и чувствуя себя глубоко задетым в своем достоинстве образованного человека, сидел он в кабинете, отныне навеки затемненном новым зданием и открытом для всех запахов этой мрачной плебейской клоаки, которую под самым его носом возвел бесстыдный капитал. И вот учитель показался в дверях балкона, надеясь одним своим видом укротить эту голытьбу и оградить себя от ее бесчинств. Едва они увидели его, как раздался радостный вой. Скрыв правую руку в складках своего халата и выпятив живот, он, казалось, грозил им длинными зубами, бесчисленными прядками бородки, сверканием очков и, конечно, укротил их, как в былое время укрощал самый мятежный класс. Все смолкло. Но когда он почувствовал себя уже в безопасности, что-то упало ему на колпак. Он с достоинством отступил, ибо успел разглядеть, что оружие, которым его встретили, отнюдь не было оружием духа — они попросту начали плевать на него. Вот плевок попал ему уже на живот, и Клинкорум обратился в бегство.
Он показался снова у окна своей спальни, но был принят по-прежнему; его и здесь уже настигли враги, ибо новая стройка образовала угол, обступая со всех сторон обитель муз и ее владельца. Тогда Клинкорум сдался. Забившись в самый темный угол библиотеки, он наблюдал, как на пол, на его рабочий стол и даже на висевшую подле него трубку, гася ее, падают, поблескивая, плевки. Кто именно плевал, он не видел, но это были не люди, а чудовища, как и сам Геслинг, по воле которого они там сидели. Клинкорум ненавидел все и всех, он чувствовал, что сам демон гнусного капитала стоит за спинами этих злодеев, направляя эти плевки… И в эту минуту он поклялся во что бы то ни стало уничтожить Дидериха Геслинга. Тщетными были все протесты учителя против постройки этого разбойничьего гнезда, и тщетными остались настойчивые просьбы купить его дом. Он видел лишь постыдное пренебрежение и безумие власти у тех, кому суждено пасть. Отныне и речи не может быть о каком-либо примирении — Клинкорум стал бунтовщиком, он заодно с бунтовщиками! Враг пролетариата — его враг, песенка того врага спета. Горе насильникам, когда против них восстанет сила мышц, объединившись с непобедимой силой духа.
Однако на кегельбане продолжалось беззаботное веселье. Дикий виноград, обвивавший его ограду, рдел багрянцем, пиво подавалось прямо из окошка закусочной, и в розыгрыш был пущен поросенок. За все это платил Крафт Геслинг, почетный шеф рабочего клуба, платил за пиво, за поросенка и вдобавок расплачивался за шалости своих гостей.
Как только наступала очередь Крафта, Динкль, самый ловкий из игроков, пускал ему шар между ног, так что Крафт спотыкался и даже падал, вызывая дружный смех. Во избежание дальнейших неприятностей он делал вид, что ничего не замечает, и даже оделял всех папиросами, ибо, во-первых, нельзя было расстраивать игру, — Геслинг-отец категорически приказал ему добиться расположения рабочих, — а во-вторых, куда же ему деваться? Танцзал, где его брат Горст делил с народом радость и горе, не привлекал Крафта. Он слишком робел перед девушками. Уж лучше нюхать пот играющих в кегли мужчин. Ежеминутно кто-нибудь налетал на него плечом или грудью, и тогда оба катились кубарем; бледный, с запавшими, обведенными синевой глазами, Крафт уже ничего не видел вокруг себя. Он тоже снял пиджак. Яунер, по своему обыкновению, услужливо подбежал и повесил его на спинку стула. Восемнадцатилетний Крафт, долговязый и хилый, через силу пустил шар и промазал. Желая загладить неудачу, он вытащил из кармана брюк вторую пачку папирос.
К Бальриху, который стоял у входа, наблюдая за игрой, подошел механик Польстер. То, что он намерен сказать, начал Польстер, он говорит только на правах родственника. Но так как дальше дело не пошло, из багряной листвы винограда вынырнула его жена и стала подбадривать его:
— Выложи ему всю правду, Польстер.
И тогда он сознался:
— Она требует, чтобы я намекнул тебе насчет Лени. А мне-то не все ли равно, что твоя сестра задумала?
— Как это все равно? — возмутилась Польстерша и подбоченилась. — Шелковое платье, настоящий черепаховый гребень, туфли за тридцать марок…
— Это я подарил ей, — сказал Бальрих, чтобы отвести удар.
— Туфли?
— Все, — заявил Бальрих.
— Ну, скопил денег, — вставил Польстер. — Мало он работает?
Но его жена ехидно продолжала:
— Знаем, знаем. Все танцы Лени танцевала с молодым хозяином, а теперь они вместе играют в кегли. Люди уже говорят об этом. Ведь позор-то падет на всю семью.
Бальрих посмотрел на нее в упор; он вспомнил ее любовные шашни, — благодаря им Польстеры занимали две хороших комнаты, последний друг дома к тому же был не кто иной, как шпик Симон Яунер.
— Обернись, — сказал Польстер, презрительно указывая на Яунера, — и ты увидишь, что такое позор!
Позеленев, женщина быстро взяла мужа под руку, желая поскорее увести его. Но тот не двинулся. Да и было на что посмотреть: Симон Яунер, незаметно запустивший лапу в карман Крафтова сюртука, не мог вытащить ее оттуда; кто-то крепко держал ее. То был Гербесдерфер.
— Поймал вора, — глухо проговорил он; но вот его хриплый голос очистился, и он закричал, заглушая стук деревянных шаров, так что все бросились к нему. Долгое время слышны были только возгласы и мелькали руки сбившихся в кучу людей; затем появился жандарм. Растолкав дерущихся, он извлек Яунера на свет божий. Но в каком виде! Вор был растерзан, разъярен, волосы свисали на нос, и вместо пресмыкающейся угодливости — звериный рев и изжелта-бледное, искаженное злобой лицо. Теперь он всем покажет, лаял Яунер, он никого больше знать не хочет, он всех выведет на чистую воду.
— Пусть мне крышка, — рычал он, — но раньше я всех вас выдам! — и при этом погрозил рукой туда, где в одиночестве стоял Бальрих. Гербесдерфер хотел было наброситься на Яунера, и только появление второго жандарма удержало его.
Между тем подоспел и старший инспектор. Он выразил надежду, что все выяснится и уладится, хотя бы ради столь прекрасного праздника. Он сам займется расследованием. Законность, конечно, должна быть соблюдена. И, пропустив вперед Яунера, который шел между двумя жандармами, он, сопутствуемый Крафтом Геслингом, последовал за арестованным. Шествие замыкал Гербесдерфер.
Оставшиеся ликовали. Динкль уплатил круговую. Наконец-то шпик попался! Теперь ему крышка, как этой свинье, которую разыгрывали в кегельбане!
Бальрих молча, угрюмо прислушивался к этим разговорам. Как еще слепы люди, они не знают настоящего положения вещей. Да и что в сущности испытали они? Они не попадали в положение одиночек, никто грубыми руками не касался их души, и в трудную ночь испытаний они не стояли лицом к лицу со своим богом. Они ведь не вернулись, как я, оттуда.
Он спрашивал себя, как поступили бы все они, если бы там, в зале, их сестра… Они примирились бы с этим, как механик Польстер, быть может, это даже польстило их гордости. Но нет! Не таковы его товарищи по классу. Гербесдерфер на его месте пошел бы и прибил этого пса. Стыд и злоба душили Бальриха, когда он вернулся в зал.
Здесь, в полусне, забыв обо всем на свете, все еще танцевали пары. Музыка играла, словно для вертевшихся на карусели деревянных зверей. Бальрих увидел сестру: закрыв глаза, она все еще кружилась в объятиях своего повелителя. Они прильнули друг к другу, не отрываясь, словно в забытьи, и только ноги их двигались и жили. Ему хотелось броситься между ними и разнять их, но ее глаза были закрыты — и разве осмелился бы он ее будить?
Танец кончился. Бальрих сказал ее властелину, что следующий сам танцует с сестрой. И вот музыка снова заиграла, и он повел ее.
— Ты сегодня красивей, чем обычно. Почему это? — спросил он.
Она улыбалась, точно только что проснулась. В дальнем углу зала сидела бедная Тильда, и он перехватил ее молящий взор. Бальрих рассмеялся, и такая неудержимая горечь была в этом смехе, что Лени, наконец, подняла на него глаза.
— Мне все кажется, — сказал он ей на ухо, — что это твой праздник, только твой, на вилле «Вершина», и ты там госпожа.
— Как знать, — прошептала она и открыла еще шире свои золотисто-карие глаза. Потом рассмеялась, откинула голову, а он принялся насвистывать мотив, который играл оркестр, и они опять закружились, тихо раскачиваясь.
— И цветами тебя забрасывают, — шепнул он ей, продолжая насвистывать.
Она испуганно рассмеялась, ибо действительно на ее запрокинутое лицо упала роза. И тут Бальрих увидел, что это Горст Геслинг; он брал розы из корзины цветочницы, бросал их в Лени и неизменно попадал. При этом лицо у него было надменное и самоуверенное. Бальрих, танцуя, шепнул сестре:
— Не смотри на него! Ты и так слишком много на него смотрела. Ты унижаешь себя! Откуда у тебя это платье? Ты девка! Ты наш позор, тебя надо отдать в исправительный дом!
— А ты? Из какого дома ты вернулся? — дерзко глядя ему в глаза, ответила Лени, и на ее переносице образовалась та же морщинка, что и у него.
— И это говоришь мне ты, сестра?
Лени старалась вырваться, но он крепко обхватил ее и заставил продолжать танец.
— Ты первая говоришь это, а я и попал-то туда потому, что не хочу, чтобы вы были нищими и проститутками.
— А если я хочу стать такою?
Он вдруг отпустил ее.
— Иди! — бросил он, задыхаясь от гнева.
Но она осталась. Белее стены, стояли они друг против друга, тяжело дыша и не в силах разойтись.
Наконец брат сказал:
— Благодари бога, что я пришел… оттуда. После того все кажется таким ничтожным и недолговечным и всех жалеешь. Иначе я бы тебя избил.
Подошел Горст Геслинг. Он слышал его последние слова.
— Однако, господин Бальрих! Вы же будущий академик… Пора бы вам освободиться и от моральных предрассудков вашего класса!
— Потерпите еще немного! — ответил Бальрих и отвернулся.
На дворе, у кегельбана, наступило затишье. Никто не играл, все стояли, обступив старшего инспектора. Но и Яунер был опять тут. Яунер без наручников, без жандармов — торжествующий Яунер, олицетворенная невинность. Старший инспектор объяснил им, что человеку свойственно совершать ошибки, и удалился вместе с Крафтом, дрожавшим от головы до ног. Яунер незаметно ускользнул вслед за ними.
— Отсрочка — не точка, — сказал Гербесдерфер. — Он еще получит свое! — И за круглыми стеклами очков гневно блеснули его глаза.
— Как это они поладили? — спрашивали рабочие. Но Гербесдерфер сам не знал. На следствии Крафт Геслинг показал или, вернее, невнятно пролепетал что-то, а старший инспектор истолковал его слова так, будто Крафт Геслинг сам попросил Яунера достать из кармана своего пиджака третью пачку папирос.
— Но когда я его схватил, в руке у него был зажат бумажник, — уверял Гербесдерфер. — И вот эти мерзавцы сделали вид, что им ничего об этом не известно, и позвонили на виллу «Вершина».
— Зачем?
— Не знаю. Мне пришлось выйти. Но они долго шептались, а потом до тех пор наседали на Яунера, пока не уговорили. А когда выходили из зала, Яунер весь дрожал.
Рабочие стояли понурившись, они, наконец, переглянулись, в их глазах можно было прочесть одно: «Нас предали».
— Он еще получит свое, — повторил Гербесдерфер.
Невдалеке сидел Бальрих, уронив голову на руки. И все с затаенным страхом, предчувствуя недоброе, опасливо поглядывали на него, думая: «Они с ним расправятся. Хотели же они объявить его сумасшедшим, когда еще ничего не знали. И вот им известно все, — что же сделают с ним теперь?»
Рабочие разошлись, каждый думал о том, что их всех ждет, а когда двое сталкивались, они шептали друг другу: «А все-таки он добьется своего».
Музыка в зале, казалось, играла все громче, и вдруг, — что это? — музыканты вышли из закусочной. Одни были красные как кумач, другие бледны и обливались потом; и, словно по команде, они маршировали, выбрасывая ноги, будто на параде. И вот на некотором расстоянии появилась пара, и все, не веря своим глазам, увидели Лени Бальрих и Горста Геслинга. Высоко подняв голову, пренебрегая всеми этими изумленными взглядами, шли они, танцуя. У всех на виду Лени подняла платье до самых колен и — пусть хоть весь свет сбежится глазеть на нее! — танцевала среди уличной пыли… Следом за ними, подскакивая, точно заводные куклы, следовали другие пары, видимо уже не сознавая, что происходит.
Рабочие из кегельклуба посторонились, очистив место, и мимо них, сопровождаемый хохотом и гиканьем, промчался призовой поросенок. А танцующие продолжали невозмутимо кружиться, подымая пыль; и дети, убежавшие с карусели, кружились вместе с ними. «Ура!» — кричали люди и исчезали в пыли, где лаяли невидимые собаки и, заглушая друг друга, в дикой какофонии смешивалась бальная и карусельная музыка. Вдобавок, с новой стройки, в кишащий людской муравейник летели шляпы озорников, в то время как с высоты своего величия, презрительнее, чем когда-либо, взирал на все это из слухового окна мудрый муж Клинкорум.
А с кладбищенской стены, размахивая бутылками, звали музыкантов пропойцы, и те спешили взобраться к ним. Танцующие делали шаг вперед, шаг назад, прыжок, глиссе, прыжок, и бутылки, казалось, кивали им из-за ограды. Кто это толкается? Не видно кто! Пробрался на другую сторону и вдруг исчез. Лени, зажмурив глаза, увлекаемая своим кавалером, танцевала уже у самой панели, едва не ступая в грязь. И вдруг он поднял ее, понес в машину. Она поймана в своем узком платье, он усадил ее! Поехали!
Но сзади, ловкий, как кошка, кто-то вспрыгнул на ходу. Вот он втиснулся в кабину, захлопнул дверцу. Горст Геслинг увидел подле себя на сиденье Крафта, а рядом с Лени сидел ее брат. Горст крикнул: «Стоп!» Но едва машина остановилась, как он, при виде этого галстука, этой сдвинутой набок кепки, этого взволнованного, осунувшегося лица, невольно заколебался. И, повинуясь испуганному шепоту Крафта: «Не связывайся с этим апашем!», приказал:
— Вперед!
Бальрих, взявшись за фуражку, твердо сказал:
— Если вы уезжаете с моей сестрой, я должен быть при ней.
— Семейная прогулка, — с легким поклоном съязвил Горст.
Но Лени, вспыхнув, зарыдала, обвила руками шею брата, влажным от слез лицом прижалась к его лицу и поцеловала. Какой это был поцелуй! «Счастье, что я с ней, — думал Бальрих. — Я силен, могу постоять за сестру, и оттого, что меня боятся, она любит меня».
«Как знать, быть может, он подарит мне виллу «Вершина» — он все может», — говорила себе Лени, а Горст между тем обдумывал ситуацию: «Глупо, но изменить ничего нельзя». Крафт же только дрожал от страха.
Запах елей, росших вокруг виллы «Вершина», вместе с ветром пахнул им в лицо, и вот дом уже перед ними. Крафт потребовал, чтобы машину остановили у ограды. Он вышел, а Бальрих вынес сестру, поэтому Горсту, несмотря на хмель, не удалось въехать победителем со своей добычей на священную землю отцов. В саду было тихо, ни один голос не доносился из дому, и только перед террасой, греясь на солнце, сидела Анклам. К ней-то Горст и направился. А напрямик, через газон, к Лени мчался Ганс Бук. Бальрих решил предоставить их самим себе и, оттесненный за живую изгородь, проклинал себя за то, что некогда поклялся: твоя сестра войдет сюда только владелицей этой виллы.
Голос Ганса уже летел навстречу Лени, опережая его самого:
— Лени, я пообещал маме остаться здесь, иначе этого бы не случилось! Лени! Как могла ты пойти на это?
— Со мною брат, — услышал Бальрих чуть не в полуобмороке.
— Лени, разве ты не видишь? Горст хочет погубить тебя! Неужели ты на самом деле думаешь, что он любит тебя?
Легкий смешок Лени, и снова жалобный, негодующий шепот Ганса:
— Он привез вас сюда, чтобы потом прогнать с фабрики. Только это им и нужно. Им нужен скандал. Вы оба должны быть уничтожены, а ты, Лени, — раньше стать его жертвой. — Мальчик закрыл лицо руками: — И я должен смотреть на это и ничего не могу поделать!
Послышались чьи-то шаги.
— Взгляни на даму, которая с ним. Он хочет разжечь в ней ревность. Вот еще для чего ты здесь!
И снова он слышит ее легкий смех. Ганс выпрямился. К ним подошел Горст. Госпожа фон Анклам уже заметила притаившегося в кустах Бальриха, Прыжок — и Ганс набросился на Горста, вцепился ему в глотку. Прежде чем Горст понял, что происходит, он лежал на земле, лицом его ткнули в гравий, а Ганс с победоносным видом стоял перед Лени.
— Неужели ты все еще любишь его?
— Ни его, ни тебя… — сказала она, — оттого что… — побледнев, она дерзко повела рукой вокруг, — никто из вас не подарит мне этого!
И тут шестнадцатилетний отрок поник головой. Из его глаз закапали слезы, и он ушел, плача.
Горст же принялся уничтожать следы, как он выразился, «Гансова ратного подвига». От гравия на его лице остались рябинки, словно от оспы. Все же он предложил Лени руку и пошел с ней вперед. Тут же под руку с Бальрихом подошла Анклам. Рабочий и его сестра робко посмотрели друг на друга, между тем как джентльмен и дама обменялись многозначительным взглядом.
— Вы, Горст, — сказала Анклам, — видимо, не внушаете страха. В опасности ведь всегда остается что-то неразгаданное, какая-то доля тайны. — И при этом она с иронической улыбкой склонила голову к плечу Бальриха. И с той же иронической улыбкой склонившись к Лени, Горст Геслинг произнес:
— Да, так оно и есть.
Брат и сестра чувствовали, что их присутствие лишь разжигает взаимное влечение этой пары. Но они не решались возражать.
Слуге, который, обмахиваясь, шел по аллее, Горст приказал подать чай на террасу. До этого он счел уместным прогуляться по парку. Того же хотел и Крафт, который, набравшись смелости, наконец подошел к ним. Глухо, но язвительно он заметил:
— Если кто претендует на какое-либо владение, он прежде всего осматривает его. — Затем, приблизившись к Бальриху так, что его слышал только рабочий, сказал: — Здесь вы ничего не можете сделать со мной, вы, человек мышц, хотя, ах, как я обожаю чувство сладкой жути…
Он сказал это жеманно, подражая манере госпожи Анклам, и даже словно прижался к кому-то плечом.
Они дошли до фонтана со статуей Венеры.
— Всем известная богиня любви и красоты, — пояснил Горст своим гостям.
Потом они направились к лубяной беседке.
— А это мы считаем наилучшим местом для установки пулеметов, — заявил Крафт с восторгом садиста.
Вернувшись на террасу, они увидели, что стол накрыт, но уже занят. Под вьющимися розами, которые чуть раскачивал ветер, в мягко поскрипывающих тростниковых креслах расположилась женская половина семьи Геслингов: мать Густа, дочь Гретхен; тут же появилась и фрау Эмми Бук с Гансом, усиленно занимавшим мать, чтобы она ничего не слышала и не видела из того, что происходит вокруг. Здесь была и госпожа Анклам, она уже, наверно, наплела невесть чего. Горст и Крафт были явно озабочены. У колонны, увитой розами, стоял, выпятив живот и негодующе поглядывал по сторонам, жених Гретхен, Клоцше. Крафт хотел было улепетнуть, но Горст решительно подтолкнул его и заставил подняться на террасу. Лени он даже предложил руку, но та не взяла ее.
— Voilà! [5] — заявил Горст, точно актер из варьете, закончивший свой номер. — Наши гости!
Всеобщее ледяное молчание. Только Гретхен как будто захихикала, впрочем от нее всего можно было ожидать. Жених, желая предупредить еще более неприличную выходку, укоризненно посмотрел на нее. Эмми Бук, явно оскорбленная появлением такой компании, отодвинулась в своем кресле до дверной ниши, где уже показался ее супруг; он улыбался ободряющей улыбкой, словно говорившей: теперь уже ничего не поделаешь.
Анклам поднесла к глазам лорнет, глядя на всех с насмешливой благосклонностью. А Густа, ее величество хозяйка, вложила в этот жест весь свой гнев и презрительное недоумение и навела лорнет на вошедших, словно спрашивая, осмелятся ли они не признать ее. Прямая и надменная, восседала она в своих кружевах, бантах и жемчугах; бюст и живот были стянуты корсетом, и от этого ее осанка казалась важной и внушительной, — правда, у нее был нос картошкой, как у Гербесдерфера.
— Сын мой, — повелительно вопросила она, — что это значит? — И, не дав Горсту возможности еще больше забыться, изрекла: — Твоя мать заслуживает большего уважения.
— Да еще при ее сединах, — добавила Гретхен вяло, не то от хилости, не то из лукавства.
— Сын мой, Крафт, — сказала Густа и поманила его своими толстыми пальцами в перстнях, — далек от всего непристойного, я это знаю, — причем ее лорнет уничтожающе сверкнул в сторону Лени. Затем она подставила щеку своему любимцу. — Выпей молока, мой мальчик, ты утомлен. — И, повернув свое кресло, она дала понять, что неприятный инцидент лично для нее исчерпан и она возвращается в свое благопристойное окружение. Она попросту не заметила, что та особа села, так как слуга по чьему-то знаку пододвинул ей стул. Лени бесцеремонно плюхнулась на этот стул, так что он даже затрещал под ней.
— Уж давно пора! — вырвалось у нее. Она повела вздернутым носиком, не без труда заложила ногу на ногу, ибо узкое платье стесняло ее движения.
Горст, которому уже нечего было терять, самолично поднес ей чашку чая. Он даже вздумал предложить ей папиросу. Но адвокат Бук остановил его:
— Всему есть предел. Во всяком случае, — обратился он к Бальриху, неподвижно стоявшему за спиной сестры, — доступа сюда вы уже добились.
— И вы думаете, что возражений не будет? — спросила Лени, повернувшись к нему через плечо, на котором лежала белокурая прядь ее волос.
— Теперь мы займем здесь оборонительную позицию, — заметил Бук.
— Бесполезно, — ответила Лени.
Но по другой лестнице уже поднимался кто-то и мелькнуло острие военной каски. Блистая пестротой мундира, появился генерал фон Попп и, под прикрытием генеральских, подбитых ватой плеч, сам глава семьи.
— Ого! — воскликнул Геслинг. — Да тут, кажется, маскарад?
— В этом ты, мой друг, — Густа величественно кивнула мужу, а затем генералу, — в этом вы, ваше превосходительство, разберетесь лучше, чем хозяйка дома, которая все еще придерживается старомодных привычек и старается содержать свой дом в чистоте.
— И марать чужие, — резко сказал Бальрих и уставился на Горста.
Главный директор сделал вид, будто только сейчас узнал своего рабочего.
— Вот как! — воскликнул он надменно. — Так это он! — И с презрительной насмешкой по адресу Бальриха обратился к генералу: — Он хочет, видите ли, изгнать меня отсюда. Понимаете, ваше превосходительство?.. Вон из Гаузенфельда, из виллы «Вершина»! А мне предоставляется собирать тряпье.
— Забавный чудак, — ответил генерал сухо и отрывисто, словно щелкая орехи.
— Пока что он учится на мои деньги, — продолжал тем же презрительным тоном главный директор, — а потом отдаст меня под суд.
— Ну и понятия у этих людей, — заметила Густа. — А все от безбожия, — добавила она и отвернулась.
Клоцше, жених Гретхен, в знак своего полного согласия с ней тоже повернулся к Бальриху спиной.
— Ну, ты, при таком животе, — вяло протянула Гретхен, рассматривая живот жениха, — ты-то уж, конечно, не вольнодумец ни в каком смысле. — Клоцше предоставлялось догадываться, на что она намекает.
Генерал, выпучив налитые кровью глаза, сначала окинул взглядом богатое семейство, затем посмотрел на пролетария и, наконец, безучастно спросил:
— Что он, собственно, воображает, этот чудак?
Только его племянница Анклам заявила, что она-то отлично понимает, в чем дело.
— Я не требую ничего незаконного, — решительно ответил Бальрих.
Но тут Геслинга прорвало.
— Нет! — заревел он. — Это восхитительно! Угрожать священной собственности! — От величия не осталось и следа, его глаза забегали, как бы ища свидетелей, и остановились на генерале. — Священной собственности, на которой зиждется все государство!
— В данном случае она присвоена незаконно, — возразил Бальрих.
— Презабавный чудак! А в армии он служил? — спросил генерал.
Геслинг был так взбешен, что даже позволил себе прервать высокого гостя.
— Меня не интересует, — заревел он в бешенстве, — почему этот человек спятил!
— Еще бы, — заметила Лени своим чистым, звонким голоском, покачиваясь на стуле.
— В сумасшедшем доме он уже побывал! — снова завопил Геслинг.
— А вы еще нет. Но самое интересное — это предвкушение, — четко проговорила Лени.
Горст и адвокат Бук настойчиво уговаривали ее быть сдержаннее. А с порога ей самозабвенно улыбался юный Ганс. Густа негодующе передергивала лопатками, между тем как Грехтен, забыв о своем Клоцше и его масленых глазах, словно зачарованная, все ближе придвигалась к Лени.
Геслинг было снова завопил, но вдруг осекся и упавшим голосом проговорил:
— Меня не интересуют его тайны. Я выгоню его вон, и все!
— Нет, вы не выгоните меня, — заявил Бальрих, показав ослепительно белые зубы, — потому что вам хочется узнать больше, чем вам доносят ваши шпики.
Геслинг, задыхаясь, уставился на него.
— Вы уже заболели оттого, что не знаете главного. Но я не хочу, чтобы вы из-за меня болели, хотя меня вы и решили объявить сумасшедшим.
Он колебался всего один миг, затем сунул руку в карман и протянул Геслингу листок бумаги.
И пока Геслинг читал, Бальрих не сводил с него угрюмого взгляда. Между тем фон Попп обратился к собравшимся:
— Вы, штатские, прямо чудаки! Это же бунт! Тут надо стукнуть железным кулаком!
Крафт сейчас же перешел в атаку. Он весь побагровел и злобно ударил по столу среди чайных чашек. Чашки слегка звякнули, а он, в изнеможении от столь великого усилия, снова обмяк.
Главный директор снял золотое пенсне.
— Возьмите, спрячьте ваше сокровище, — сказал он, сделав быстрый отстраняющий жест. — Письмо, конечно, подложное.
— Ничего другого вы и сказать не могли!
— Фальшивка! Гнусность! — Геслинг пытался овладеть собой. — Если бы даже его признали подлинным, ведь я же всегда могу доказать, что автор этого письма был моим личным врагом. Об этом вы не подумали? — И он повернулся к зятю: — И ты это подтвердишь. Я свалил твоего отца и испортил ему карьеру, поэтому он стал моим врагом.
— Против такой аргументации ничего не возразишь, — спокойно сказал адвокат.
— Пойдем отсюда! — обратился Ганс к матери, но она, уронив голову на руки, сидела неподвижно.
— Вы слышите? — снова заговорил Геслинг. — Свыше тридцати лет назад старик Бук якобы пишет некоему Геллерту, что мой отец — вы понимаете, — повернулся он к генералу, — подтверждает получение капитала, будто бы вложенного этим Геллертом в наше предприятие. Ха-ха! Правда, смешно?
Однако генерал фон Попп не находил в этом ничего смешного. Он попросил письмо, пробежал его и строго осведомился:
— А если это правда?
— Вы что… — Геслинг поправился — Вы шутите, ваше превосходительство… — Он насмешливо улыбнулся, стараясь скрыть беспокойство. — Это письмо честный старик Бук, конечно, написал не тридцать лет назад, а гораздо позже, когда имел основание мстить мне, и пометил задним числом.
— Но это вам придется доказать, — строго заявил фон Попп.
Геслинг уже не владел собой, лицо его выдавало мучительную тревогу. Он стоял, словно прикованный к месту. Все остальные, кто сидя, кто стоя у колонн, казалось, тоже спали с открытыми глазами, и даже озаренные солнцем вьющиеся розы на террасе уже не качались. Казалось — это замок спящей принцессы.
Геслинг снова пошел в атаку.
— Старик лжет, это несомненно.
И вдруг Ганс заявил таким же звонким и ясным голоском, как и Лени:
— Не мой дед, а сам ты лжешь.
Директор внезапно расхохотался, а жена перепугалась: уж не приключилось ли что с мужем. Но он только пожал плечами.
— Вы считаете, ваше превосходительство, что я должен это доказать? Прошу прощения, — пусть почтенный старик, лежащий в гробу, докажет, что его слова — правда. Если он не лжет, то в оставшихся после него бумагах должно было сохраниться письмо, в котором мой уважаемый отец действительно подтверждает получение денег от Геллерта.
Окинув всех победоносным взглядом, он встретился глазами с Бальрихом и обомлел: жестко и решительно, как судья, Бальрих проговорил:
— Письмо существует, и оно у меня.
Произошло движение. Генерал повторил:
— Оно у него.
Фон Попп как бы призывал богача к ответу. А тот так и замер с открытым ртом и даже покачнулся… Дидерих Геслинг многое понял в эту минуту. Только он, только его зять Бук мог выдать рабочему давний документ, написанный его покойным отцом. И вот этот субъект стоит теперь перед ними и предъявляет свои права. А генерал — это совершенно ясно — считает, что я слишком богат, слишком могуществен, и с радостью наблюдает, как собирается гроза над головой того, при ком он был постоянным блюдолизом. Да, все новые разочарования готовят богатому те самые люди, которых он, казалось бы, должен был знать; ну, что ж, пора отбросить всякий идеализм…
Геслинг метнул грозный взгляд на своего зятя, который робко и покорно ждал дальнейших событий. «С тобой мы сочтемся!» — опять пригрозил он ему взглядом, затем отвернулся, чтобы отдышаться, — иначе, ей-богу, случится беда. Самообладание — прежде всего! Необходимо собрать все силы для борьбы, которую мне навязывают. Они хотят вырвать у меня почву из-под ног. Речь идет о самом моем существовании. Ну, они узнают меня!
Укрепившись духом, он снова поднял голову и прежде всего увидел рабочего.
— Эй, вы там! Пойдемте отсюда. Честь и место тому, кто достоин чести.
Дойдя до конца террасы, он сказал Бальриху вполголоса, но с надменной уверенностью:
— Вы бы сначала подумали, что вы делаете.
— Все обдумано, — ответил Бальрих.
И тут противники снова смерили друг друга взглядом.
Тем временем фон Попп обратился к хозяйке дома:
— Хорошие дела у вас тут творятся, нечего сказать… — Это было произнесено таким тоном, как будто бы ему нанесена личная обида. То же самое дала понять своим лорнетом Анклам, посмотрев на сына Густы.
Но Густа строго блюла свое королевское достоинство и заявила:
— Все это — сказки. Чего они могут добиться? Народ всегда окружает легендами большие состояния.
А директор уверенно говорил рабочему:
— Вопрос об истине, конечно, решите не вы, мой друг. Он решится в зависимости от того, кому она выгодна, и от власти, — а я ею располагаю.
Асессор Клоцше, которого безмолвно поощряла Густа, тоже вставил свое слово.
— Ваше превосходительство едва ли допускают, — проговорил он, пыхтя, причем живот его заколыхался, — что найдется такой суд, который примет подобный иск. Ведь это же клевета, а подложные документы направлены против незыблемых устоев общества. Я думаю, — продолжал Клоцше, вращая бесцветными глазами, — что мы, блюстители закона, можем почитать себя столь же несокрушимой стеной, как и вы, ваше превосходительство.
Тем временем директор уверенно продолжал, обращаясь к рабочему:
— Вы погубите не только себя. Подумайте о семье и товарищах.
— Все обдумано.
— Но взвесьте и мое положение. Я богат. Я муниципальный советник и тайный коммерции советник. Вот орден, который мне вручил господин президент. Все это вы должны будете преодолеть, и потом останутся еще судьи, — кивок в сторону Клоцше, — и господа военные, — опять кивок. — В ваших же интересах я предлагаю вам выдать мне письмо моего покойного отца.
— Письмо нужно мне, — ответил рабочий.
Фон Попп сказал:
— Несокрушимая стена? Вот чудаки! Это всегда зависит от тех причин, ради которых приходится быть несокрушимым.
— Свет, — с иронией сказала Анклам, — так подозрителен и всегда готов верить всякой гадости.
Гретхен между тем, совсем придвинувшись к Лени, вытянула длинную шею и, чувствуя на себе масленый взгляд жениха, чуть слышно пролепетала:
— Вы хотите стать кокоткой?
— Глупая стерва! — бросила Лени.
А Гретхен, закатив глаза, продолжала:
— Это, должно быть, замечательно!
— Значит, нет? — резюмировал директор. — Воля ваша. Вы похитили этот документ, и я уничтожу вас.
— Вам тоже не во всем поверят, — заявил рабочий. И Геслинг почувствовал, что именно по этой причине так расстроено его семейство и так странно держится фон Попп. Этот случай, несмотря на всю его вздорность, пришелся очень кстати светскому обществу, всем этим завистникам и вымогателям… Взгляд, которым он обменялся со своей старой Густой, сказал ему, что они поняли друг друга: «Осторожно! Придется выбросить балласт».
Взяв рабочего под руку, он вместе с ним отвернулся. Никто не заметил его движения.
— Вот сто марок!
— Вздор! — И рабочий встал так, как стоял раньше.
— Тысяча, — деловито продолжал Геслинг.
Бальрих мрачно улыбнулся.
— Видите, вы сами верите этому письму.
— Две тысячи! — И тут же, словно игрок, охваченный азартом, добавил: — Пять тысяч… Последнее мое слово: десять!
Все та же угрюмая усмешка и покачивание головой. Директор в изнеможении спросил:
— Так чего же вы хотите наконец?
— Все, — сказал Бальрих. — Но не как подарок.
— Вы сошли с ума, — вскипел директор, но, вдруг присмирев, пролепетал: — Вы ничего не добьетесь, если затеете скандал. Я предлагаю вам сто тысяч. Точка.
А Густа за столом лебезила перед Анклам.
— Милая госпожа Анклам, ваш жемчуг — просто чудо, — восхищалась она, хотя жемчуг был поддельный.
— А ваш — настоящий? — с иронией осведомилась Анклам.
Густа было взвилась, но тут же величественно опустилась в кресло.
— Пожалуйста, проверьте сами. — И, сняв ожерелье, предупредительно надела его на гостью. На маленькой Анклам оно висело до колен.
— Ну, как? — спросила Густа.
— В самом деле, очень мило, — сказала Анклам. — А как по-твоему, дядя Попп?
— Побрякушки, — сухо ответил генерал, но, несмотря на его холодность, чувствовалось, что лед разбит.
Геслинг со своего места увидел, что Густа довела дело до конца. Тогда и он изменил тон.
— Теперь мы будем действовать по-другому, — заявил он. — До сих пор я, так сказать, вел с вами переговоры…
— И предлагали мне сто тысяч марок.
— Потому что хотел убедиться, до чего может дойти ваша наглость. Но переговоры кончены. Я твой начальник и приказываю: смирно! Отдать письмо!
Адвокат Бук взял на себя обязанность укротить Лени, которая то и дело вскакивала с места и пыталась что-то сказать. Но вот он засеменил к дверной нише, где, уронив голову на руки, сидела его жена. Он приподнял ее лицо, умоляюще заглянул в глаза. Увидев это, юный Ганс отошел в сторону.
— Мы сейчас в большой опасности, — шепнул Бук на ухо жене. — И виноват я.
Он прочел в ее взгляде восхищение.
— Ты действительно помог этому рабочему?
— Да. Вопреки интересам твоего брата.
— Ну, он уж как-нибудь перенесет это.
— А мы? — спросил Бук.
С застенчивой улыбкой она спросила:
— Если Дидерих отвернется от нас — мы погибли? — Нам придется отказаться от привычной жизни. — Я сделаю это охотно.
— А я — нет. Я буду держать его в руках. Как и до сих пор, он пойдет на все, ведь у него совесть нечиста и слишком многие помнят, что он смешал с грязью моего бедного отца. Я для него — живой укор, а в будущем стану и угрозой. — Полное актерское лицо Бука и в самом деле стало угрожающим.
— И ты решился бы действовать против него?
— На это меня еще хватит. Если вопрос будет поставлен ребром, я возьмусь вести дело этого рабочего, и Дидерих увидит, как я разом отомщу за все.
Эмми снова опустила голову.
— Он все равно будет давать нам деньги. Это невыносимо.
— Все стало невыносимым, — пробормотал Бук.
— Зеркало сюда! — приказала Густа слуге и, когда тот принес, сама подставила его маленькой Анклам.
— Только на вас, дорогая, этот жемчуг имеет настоящий вид, — сказала она, и в ее тоне чувствовалось самопожертвование. — При моих седых волосах… Но как я счастлива преподнести вам этот скромный дар в память о чудесных летних днях, за которые мы так признательны вам и вашему уважаемому дядюшке.
— Пожалуйста, пожалуйста, — вставил фон Попп.
Тем временем в конце террасы, хотя этому было трудно поверить, дело дошло уже до настоящей схватки между главным директором и его не в меру требовательным рабом. Геслинг на правах начальника сделал попытку залезть Бальриху в карман, в ответ последовал легкий толчок в грудь, и он, покачнувшись, попятился до середины лестницы; затем, вернувшись для нового натиска, вдруг завопил:
— Он толкнул меня! Этот негодяй руку поднял на меня!
— Этот негодяй руку поднял… — повторило эхо. То был голос сына Крафта, а про себя этот молодчик, весь дрожа, добавил: «Милый негодяй!»
Горст набросился на рабочего, но тут же отлетел к чайному столу. Все, кроме Лени, вскочили и замерли на месте; слышались лишь приглушенные всхлипывания Густы, увидевшей, что супругу и сыновьям угрожает враг.
А Ганс Бук схватил мать за руку и не отпускал до тех пор, пока она не встала и не ушла вместе с ним.
— Теперь начнется самое позорное, — дрожа и бледнея, сказал Ганс. Бук-отец мелкими шажками последовал за ними.
Первым пришел в себя асессор Клоцше.
— Здесь налицо факт нарушения неприкосновенности жилища! И, кроме того, угрозы и покушение на жизнь! — заверещал он по-бабьи.
— И вымогательство! — заревел директор.
— Презабавный чудак! — стукнув кулаком по садовому железному столу, рявкнул фон Попп. Густа, Анклам и Гретхен пронзительно взвизгнули и заткнули уши, оглушенные собственным визгом.
Бальрих решительно вырвался из окружения бар. Расталкивая их и наступая, он выбрался из их кольца. Когда Лени увидела его подле себя, она бросила свою чашку под ноги хозяйке дома и, опередив брата, прикрывавшего отступление, связанная своим узким платьем, с трудом спустилась по лестнице.
— Вы уволены! — ревел директор вслед рабочему. — Вы и вся ваша семейка!
— Вся ваша семейка! — глухим эхом отозвался Крафт.
И все, словно сорвавшись с цепи, тоже закричали:
— Вот каковы эти люди!
— А все от безбожия! — кричала Густа.
Раздался громовый удар — это генеральский кулак опустился на железный стол; Крафт тоже грохнул чем-то; Анклам забилась в истерике.
— Я разнесу этих бунтовщиков! — теперь вопил Горст; отец уже потерял голос. Клоцше тоже верещал, стараясь произвести впечатление на Гретхен, которая визжала, не помня себя:
— Она кокоткой хочет стать! Кокоткой!..
Четверо малышей — Вольфдитер, Ральф, Бернгард и Фрицгейнц, отвлеченные шумом взрослых от игры, тоже сбежались на террасу; они дудели в трубу, кричали «му!» и кукарекали, а двухлетний Вольфдитер свистящим голоском без устали выкрикивал:
— Свинья паршивая!
— Вот каковы эти люди! — Густа, перегнувшись через перила лестницы, в пылу негодования грозила беглецам толстым пальцем в сверкающих кольцах: — Они нас по миру пустить хотят! — И, потеряв равновесие, вцепилась в ожерелье, висевшее на Анклам. Ожерелье рассыпалось. Два лакея бросились подбирать жемчужины. Анклам, позабыв про свою истерику, следила за тем, чтобы они ни одной не прикарманили. Но когда весь жемчуг опять оказался у нее, истерика возобновилась.
Все эти люди с искаженными лицами и глазами убийц стояли, перегнувшись через перила, по примеру почтенной хозяйки, и ревели, как звери, — дамы, мужчины, дети, лакеи, готовые наброситься на отступающего врага — насильника и экспроприатора. Гром и рев! В этой битве за свою собственность и свои привилегии они, чуть не теряя сознание от ярости, не находили иного способа выразить свои чувства… И только Гретхен удалось разрядить грозовую атмосферу. Она вдруг перестала браниться и запела «Птичку». Вытянув тощую шею и чувствуя, что она сейчас упадет, девушка пела на весь дом: «Прилетела птичка{46}…»
Только очутившись за оградой виллы, бедные оглянулись: богачи все еще стояли в воинственных позах или метались по террасе. Лени показала им язык. В густеющих вечерних сумерках еще раз мелькнула перед ними озаренная закатом солнца вилла и вьющиеся розы, которые покачивались на ветру.
Они пошли прочь.
— Ну и задал же ты им, — сказала Лени. — Да и я тоже. Ты видел меня? — Она лихорадочно рассмеялась. — Это было самое лучшее за весь день. — Лени даже захлопала в ладоши. — Это стоило пережить хоть раз, если даже выбросят вон.
Они долго шли в пыли, окутанные багровой дымкой, и все нерешительнее замедляли шаг. Наконец Лени сказала:
— Ты молчишь. Как ты устал! А я-то…
Приподняв до колен узкую шелковую юбку и повиснув на его руке, она едва плелась.
— Дай я понесу тебя, — предложил брат.
— Кажется, вокруг всего света плясала я сегодня… — пролепетала она, когда он поднял ее на руки. Издали донесся шум, провыл клаксон, и мимо них промчалась машина, которая перед тем доставила их на виллу. Она быстро исчезла в облаке пыли. Было ли это на самом деле, или только почудилось?
А среди пыли бредет рабочий Бальрих и несет сестру, ее отяжелевшие руки обвили его шею, и, засыпая, она шепчет брату:
— Карл, родной мой, ничто не спасет нас! Нам все равно погибать.
Праздник в Гаузенфельде продолжался уже при огнях. По пустынным лестницам их корпуса Бальрих незаметно пронес Лени и за перегородкой опустил ее на кровать. Она вздохнула во сне. Он не решался снять туфли с ее ног, плясавших сегодня «вокруг всего света». Но на их запыленной коже остался след его губ.
В дверях стояла Тильда, как всегда, она кралась за ним, как всегда, молила. В его ушах еще звучали слова сестры: «Нам все равно погибать», и он обнял Тильду.
— Разве ты любишь меня? — спросила Тильда.
— Да.
И они вышли в ночь. Из-за туч пробился мягкий свет луны.
VI Не уходи!
Что делать? Считать себя уволенным? Едва ли! Пусть даже Геслинг решил вычеркнуть из памяти письмо отца и плюнуть на все угрозы, — остаются же еще рабочие. «А они не за хозяина, они за меня. И то, что я им обещаю, этого он дать не может».
Только наутро Бальрих, наконец, успокоился и хотел было приняться за работу, но тут в дверях показался адвокат Бук. Бальрих даже не встал.
— Я вижу, вы удивлены, — сказал Бук и сел на кровать. — Напрасно вы удивляетесь. Я всегда говорил вам, что не рожден быть мучеником.
Он сидел, развалившись, с развязностью старого бонвивана, явившегося к молодому. Бальрих держался натянуто.
— Ваш образ действий мне претит, — сказал он.
Бук мягко возразил:
— Но вы знаете о нем только с моих слов.
— Что толку — знать! Вы должны стать лучше! — оказал рабочий, а у гостя, который хотел улыбнуться, вдруг пропала охота. Потупив глаза, он вполголоса проговорил:
— Я хотел сказать вам, было бы разумно, если бы вы немедленно уехали отсюда, и со всей вашей родней.
— Благодарю за совет. Я сам все обдумал. Что он может сделать со мной? Стачка ему обеспечена, если не кое-что похуже.
Бук покачал головой, но как-то с опаской, будто за ним подглядывали.
— Геслинг что-то задумал, — сказал он вполголоса и посматривая на дверь, — он сумеет одурачить рабочих, хотя бы на ближайшее время. Но ваш час еще пробьет. И даже очень скоро. Стоит рабочим пронюхать ту пакость, которую он им готовит. А пока вам остается только стратегическое отступление.
Бальрих, насупившись, долго рассматривал гостя.
— А кто мне поручится, — сказал он, наконец, с многозначительными паузами, — что не директор подослал вас ко мне?
Бук опустил глаза, некоторое время созерцая свои колени, потом вздохнул и поднялся.
— Ну, ничего не поделаешь. — Он направился к выходу.
Однако Бальрих вернул его.
— Нет, я не считаю вас способным на это. — И резко добавил: — Значит, я должен убраться сам, покуда меня не выгнали?
— И со всей вашей родней, — добавил Бук. — Геслинг уже вчера потребовал, чтобы ему назвали всех ваших родственников, ваших двух братьев, обеих сестер, зятя с семьей и стариков — Динкля и Геллерта. Исключение сделано только для родных вашего свояка.
— Для Польстеров? Верно, ради инспектора Зальцмана, с которым она сейчас путается?
— Вот видите, как награждается добродетель, — заметил Бук, впадая в шутливый тон, но тут же прервал себя: — Всем вам надо жить, а это будет трудновато, особенно если вы будете учиться. На меня вы, к сожалению, уже не сможете рассчитывать.
— Я далек от этого, — пробормотал Бальрих.
Но Бук не преминул тут же заявить, что отныне будет лишен возможности тайком от Геслинга помогать ему.
— Ведь моя трусость вам известна, — в заключение насмешливо сказал адвокат и удалился.
Бальрих подумал: «Ему, верно, и в голову не пришло, что его могли здесь увидеть». Затем разбудил младших братьев: пусть собираются; потом отправился к Динклям:
— Мы уволены, надо уходить отсюда.
Малли заплакала навзрыд.
Динкль грозно выставил вперед ногу и заявил:
— Это мы еще посмотрим!
— Где Лени? — спросил брат. С первых же слов, сказанных Буком, Бальриха мучила только одна мысль: «Что будет с Лени?» Она еще спала. Он вздохнул с облегчением, как будто Лени могла уже узнать о случившемся и сделать то, чего он так боялся, — боялся, больше всего на свете.
Что касается Динкля, то он был глубоко уверен в правоте своего дела. Пусть Геслинг еще какое-то время издевается над нами, так или иначе его время прошло и Гаузенфельд станет нашим. А то, что он выгоняет нас на улицу, только показывает, как он напуган.
Старик Геллерт, который тоже оказался здесь, неожиданно для всех вел себя с необычайной уверенностью. Он взялся выхлопотать у Клинкорума пристанище для всех. Ведь Клинкорум ненавидит Геслинга!
Геллерт оказался прав. Учитель разрешил всем поселиться в подвальном этаже, а своему ученику Бальриху даже отвел каморку в первом.
Переселение происходило как раз в то время, когда рабочие шли на фабрику. Уволенных окружили, и тем пришлось остановиться со своими тележками среди дороги, огибавшей луг. Карусель была уже разобрана. Динкль, подняв руку, воскликнул:
— Мы кочуем, как цыгане, товарищи, но что наше, то наше, и скоро кто-то другой станет цыганом!
Все угрюмо ему поддакивали.
В подворотне между старыми корпусами рабочие обнаружили на стене большой железный лист с каким-то объявлением от главной дирекции.
— Ну, разумеется, насчет Бальриха! — раздался позади чей-то голос. — Кто будет бастовать из-за Бальриха, того тоже уволят. Это мы еще посмотрим. Прежде всего — бастовать!
— Стачку! — кричали вокруг.
Впереди же, в подворотне, кричали другое. И чем больше людей протискивалось к листу и читало объявление, тем реже раздавалось слово «стачка».
Гербесдерфер, дочитав желтый лист, вернулся к Бальриху:
— Он уже придумал выход: кто отступится от тебя, будет участвовать в прибылях.
Бальрих вздрогнул.
— Ах, вот что? Участие в прибылях? Значит, скоро он пойдет и на большее! Неужели после этого кто-нибудь отступится от меня?
Рабочие недоверчиво поглядывали на Бальриха. Он сам едва ли верил своим словам.
— Он напуган вчерашним. Уволил меня для виду и все-таки делает то, что я хочу, — это было бы слишком большой победой, и так легко ее не добьешься.
Он ринулся в подворотню, пробился сквозь толпу, стал читать… Когда он вернулся, громко смеясь, его обступили и стали расспрашивать, почему он смеется, они не привыкли видеть его смеющимся.
— Да вам же снизят заработную плату. Этого-то вы и не прочли. Это, конечно, напечатано таким мелким шрифтом, что и не разберешь.
— Но зато мы будем получать прибыль.
— О, об этом объявлено саженными буквами! Но достигнет ли она вашего скудного заработка, да и будет ли вам выгода?
Рабочие обозлились.
— Шутка ли — фабрика в Гаузенфельде! Сотни тысяч дохода дает! — сказал кто-то.
— Если вы войдете в долю? — спросил Бальрих.
Тут послышались робкие голоса насчет того, что он говорит это от зависти. Тогда Бальрих замолчал: им хотелось верить, лишь бы верить — ему или Геслингу — все равно, кто обещает им наискорейшее счастье, тому и верить.
Тогда выступил живший обычно в достатке механик Польстер и стал их поучать:
— Участие в прибылях — вернейшее средство для поднятия благосостояния тружеников и лучший способ примирить рабочих с предпринимателем. — Объявление дирекции он знал уже наизусть.
Гербесдерфер возразил:
— Предпринимателя-то мы видим насквозь…
Это замечание многих озадачило. И тут-то, собравшись с духом, выступил Яунер. Правда, господа из руководства незаслуженно обвинили его и чуть было не отправили в тюрьму, но сегодня он чувствует, что его долг сказать: «Шапки долой, товарищи!» В ответ раздались возгласы: «Доносчик!» И люди разочарованно поплелись на фабрику.
Несколько рабочих подошли к Бальриху.
— Если и правда насчет участия в прибылях, то это еще не все. Ты нам понадобишься и дальше, Бальрих.
Ему жмут руку.
— Да здравствует Бальрих! Стачка! — выкрикивали отдельные голоса.
Но Бальрих сказал:
— Бросьте, товарищи! Я знаю другой путь. Надо выждать!
И он потащил дальше свою тележку; за ним Динкль и Малли везли свои, на одной лежал новорожденный ребенок Малли. Тележки подталкивали младшие братья Бальриха. Дети Динклей семенили рядом. Лени с ними не было. Так старик Геллерт вел их к новому пристанищу.
То были две комнаты, окна — вровень с землей. Каморка в первом этаже с окном на север была ничуть не светлее, но посуше. Бальрих здесь занимался, а спала в ней Лени. Ей удалось устроиться модисткой, и возвращалась она домой только вечером. Динкль вскоре нанялся в городе золотарем, и Малли каждый день выносила ему обед на шоссе. Сама же она выполняла всю тяжелую домашнюю работу у Клинкорума. Кое-как выколачивали на кусок хлеба. У Геллерта малярной работы стало даже больше прежнего.
Все обошлось… Но в подвальных комнатах стояли полумрак, нестерпимая сырость и запах нечистот, который приносил домой Динкль, словно это был основной запах всего Гаузенфельда, его вековой грязи и нищеты. Читая у себя наверху, Бальрих слышал, как под ним в подвальном этаже дети Динкля колотят друг друга и орут непристойности. Иногда неожиданно являлся Геллерт, кончавший работу когда ему вздумается. Он напивался, поил водкой детей и позволял себе всякие гадости. Тогда они, визжа, убегали из дому, а годовалый малыш, которого они бросали, ревел, пока не прибегала Малли… Бальриху было стыдно, и от встреч со старым распутником он уклонялся. Только сестре своей Малли он посоветовал получше присматривать за дочерью. Ведь одиннадцатилетняя Лизель уже строит глазки. Сестра же горько плакала, опустив седую голову. Она знала больше, чем он. Но что будет с ними, если Геллерт выгонит их на улицу?
— Скоро я начну зарабатывать, и у вас жилье будет лучше, — утешал ее брат.
Он тут же отправился к Клинкоруму и заявил, что согласен заниматься со всеми предложенными ему учениками. До сих пор он брал ровно столько, чтобы оплатить свое скудное содержание. Отныне он решил, что будет давать уроки весь день. Клинкорум доставал их ему без всякого труда, и Бальрих снова просиживал ночи напролет при свете лампы…
Он делал это ради Лени… Динклевы дети — это еще не самое худшее. Нестерпимо было видеть, как Лени в легком пальто на поддельном меху, в модной шляпке, шурша юбкой, обрисовывающей ее стройные бедра, в туфлях на каблучках легким, быстрым шагом возвращалась с работы. Но едва она входила в сад, как выражение недовольства уже омрачало ее лицо. По ступенькам в подвальный этаж она спускалась осторожно, чтобы не попасть в грязь; подойдя к двери, похожей на расшатанный гардероб, и пересиливая отвращение, она рукой, затянутой в белую перчатку, бралась за скобу… Брат уводил ее из дома обедать: пусть как можно меньше времени проводит в этом нищенском логове. Но вот однажды вечером, переступив порог своей комнаты, Лени увидела новую белую мебель, розовый полог над кроватью и туалетным столиком. Она оторопела, потом обернулась, — в дверях стоял брат; на лице ее он прочел только жалость. Тогда он понял, что все напрасно. И теперь, когда и эта последняя попытка оказалась тщетной, страх, безмерный страх за сестру овладел им.
Лени обняла его, словно желая поблагодарить. Но он знал, что это была просьба не винить ее, и что она прощалась. С ней он не мог лицемерить.
— Не уходи! — сказал он хмуро, и все же в его тоне звучала мольба.
Ее золотисто-карие глаза наполнились слезами.
— Если бы я могла, — промолвила она тихо. — Но мне трудно ходить в такую даль. Да и по вечерам работа иногда кончается очень поздно.
Всхлипывая, она целовала брата, только бы он ей поверил, только бы не спрашивал ни о чем.
Потом он сидел внизу у раскрытого подвального окна, прислушивался и ждал, когда все стихнет в ее комнате. За стеною лежавший в постели старик Геллерт бранился, ему было холодно… А когда наверху все смолкло, брат стал ждать ее пробуждения. Задолго до рассвета ему послышался какой-то шорох. Ветер ли пробежал по верхушкам деревьев, или треснул сучок в саду, или со стен что-то посыпалось? Скрипнула дверь, гравий зашуршал на садовой дорожке.
Скорее! Остановить ее! Спешить, лететь и чувствовать, что ноги твои приросли к земле, что тебе никогда не догнать ту, которая ушла из дому.
Калитка хлопает, она слышит за собой погоню, она бежит… Прыжок — и он схватил ее. На шоссе, в холодном предрассветном сумраке, дрожа, стоят брат и сестра и стараются заглянуть в лицо друг другу, мысленно видят это другое, истерзанное мукой и злобой лицо.
Брат старается вырвать картонку у нее из рук, она тянет ее к себе…
— Лени, ты? Ты, для кого я делаю все на свете! Они предали меня, они заодно с Геслингом, а ты — с его сыном?
— Нет! — воскликнула она в исступлении.
— Я знаю, к кому ты идешь! Ты больше не работаешь в мастерской, ты уже не работница, ты…
Но Лени не дает ему договорить.
— Все это ложь!
— Ты шлюха!
Она всхлипывает в последний раз и внезапно жестко бросает ему в лицо:
— Да. Это правда, а теперь пусти меня!..
Она устремляется вперед, но он не отходит от нее и продолжает осыпать бранью.
— Это ты обманщик! — кричит она. — Обольщаешь людей своей сладкой ложью! Что ж, и мне стать такой, как Малли?
Тогда он замахивается на нее, но рука замирает в воздухе.
Вон убегает она, как тень в ночи. Он зовет, он кричит ей вслед:
— Ты всегда только обманывала меня, всегда!
И, повернувшись, идет назад, продолжая говорить, как будто сестра еще рядом с ним.
Но Лени исчезла. Стих легкий шорох за его спиной, который он слышал, сидя в своей комнате, углубленный в книгу. Уже не будет этих встреч, когда он бежал к ученику, а она — к клиентке и они шли вместе часть пути. Он едва видит ее силуэт, вот она уже скрылась, свернула за угол. Ушла, жестокая предательница! Ушла, обожаемая сестра! И вот он устроился в этой комнате, которую она отвергла, в комнате, обставленной для нее в рассрочку. С ним только книги, и он знать ничего не желает, кроме того, что написано в этих презренных книгах.
Да, он презирал их! Что они могли ему дать взамен его утраты, научить какой мести за судьбу сестры? И чтобы не напрасны были все его старания, он весь отдался заботам о своих младших братьях, о их пропитании и учебе, только бы поставить их на ноги, и один мог работать потом в книжной лавке, другой — монтером. Пусть они не упрекают его впоследствии, как упрекнула Лени, что он обманул их и разбил им жизнь. И если его дело кажется всем несбыточной мечтой, то пусть эти двое станут бездушными мещанами и копят грош за грошом. Он видел, что все его товарищи ни о чем другом и не помышляют, что у них нет иной цели в жизни. Справедливость? Всеобщее счастье? Сытое брюхо им дороже. Даже для настоящей ненависти нет у них силы. Разве они ненавидели Геслинга? Да ему достаточно было пообещать им участие в прибылях, и они поверили ему так же охотно, как до того верили мне. Знай же, жалкий человек, что ты боролся напрасно! Ты им не нужен! Они предпочитают обман. Что бы ты ни делал, верь лишь в себя и в свою ненависть! у тебя ничего не осталось, кроме нее.
Но совесть подсказывала ему, что он клевещет на них. Жестоким и чрезмерным было его требование, чтобы ради него они бросили все, бастовали и голодали. Ведь он сам отговорил их от стачки и все-таки ждал ее. Не ученье ли всему виной? Эти книги, в которых говорилось лишь об идеях, а не о хлебе, не они ли мало-помалу оторвали Бальриха от рабочего класса, и вот он, облеченный в черный пиджак, сидит в уютной комнате с этими размышлениями, которых физический труд уже не мог ему заменить. Да, он уже не рабочий! И он стал избегать своих товарищей. Вернувшись из города после уроков, он забирался в сад или уходил в свою комнату и даже не слышал, когда его окликали. Он видел, что Геслинг уже не раз подозрительно кружит возле дома Клинкорума, однако у Бальриха не возникло желания подстеречь его. Он торопливо проходил и мимо адвоката, которого перестал уважать, мимо своих товарищей, которые покинули его в беде, и упорно уклонялся от встречи с юным Гансом, сколько бы мальчуган ни бегал за ним и ни стучался к нему. Однажды Ганс вынужден был заговорить с ним через дверь, но, услышав имя Лени, Бальрих осыпал его самой грубой бранью и прогнал. Правда, потом он пожалел об этом: все же Ганс — славный малый. Но ненависть к людям была сильнее его. Ему вдруг вспомнился тот молодой блондин в сумасшедшем доме, который спросил его:
— Любите ли вы?
Нет, Бальрих не хотел любви. Без нее он чувствовал себя сильнее.
Однажды, в декабрьскую метель, к нему прибежала Малли. Она ворвалась в комнату, размахивая руками и отчаянно плача. Случилось то, чего она так боялась…
— Старик и Лизель, — всхлипывая, проговорила Малли, — ведь она же еще дитя, и вот… Что делать? Мы уже обжились здесь, а теперь надо снова уезжать!
Брат был сражен этим больше, чем всем остальным. Он спустился с ней вниз. Девочка куда-то убежала, а Геллерт улегся в постель и, прикинувшись больным, заскулил:
— Налей-ка мне можжевеловой настойки, иначе я окочурюсь!
И матери маленькой Лизель пришлось дать ему водки. Но когда Бальрих напустился на Геллерта, тот снова залез под свою клетчатую перину; только слезящиеся глазки поблескивали оттуда.
— Я же знаю, вы добрые люди, вы не бросите старого Геллерта, не уйдете отсюда. — И он посмотрел на них, жалостно мигая. — Ведь последний кусок делили, тут каждый посмотрел бы сквозь пальцы…
Бальрих плюнул в его сторону, и старик снова забился под перину.
— Мы съедем отсюда, и вместо твоего сарая я найду человеческое жилье, — крикнул Бальрих.
Геллерт, подавленный, заскулил:
— Ну, еще бы! И работу найдешь для Малли и для Динкля и для себя уроки. Какое вам дело до старика? А кто помогал тебе все это время? Этот жалкий Бук, что ли?
Старик даже подмигнул. Но Бальрих, бледный, дрожа от гнева, едва сдерживался.
— Сядь и успокойся, — сказал старик и выполз из постели, причем оказалось, что он одет. Он свесил длинные ноги, старческое личико в лиловых морщинах вдруг оживилось, и он заявил не без хитрости:
— На мой век еще найдутся добрые люди и кроме вас! Старине Геллерту стоит только подмахнуть свое имя, и у него будут деньжата до конца его дней.
Сжав кулаки, Бальрих уже ринулся вперед. Старик хотел было снова скользнуть под перину, но Бальрих схватил его за плечи и стал трясти.
— Ну, что ж, иди! Предай нас! Продай Геслингу наши права! Выдай их, твоих товарищей — рабочих, и проваливай с деньгами, которые добыты их потом и кровью!
— За собой лучше смотри! — задыхаясь, вопил Геллерт. — Если я богу душу отдам, вам-то какой прок?
Бальрих оттолкнул его, оба стали приводить себя в порядок. Старик, охая, продолжал:
— И Бук, и Клинкорум, и все эти господа только и жаждут насолить Геслингу. Не прикидывайся дурачком, — это они хотят, чтобы ты сделался адвокатом. Но если умрет старый Геллерт, а вместе с ним и его права, — на что вам тогда адвокат?
Бальрих сдался. Да, старик прав, хотя он впервые это признал. Раздавленный жестокой истиной, он попятился к двери, как вдруг она, словно под напором бури, широко распахнулась, на пороге показались Гербесдерфер и Польстер. Они явились сюда в надежде застать Бальриха врасплох; они уже слышали про семейный скандал у Динклей: дети разболтали о нем во дворе.
— А Динкль!.. — скулила Малли в новом приступе отчаянья, — он убьет меня, если узнает!
Ей хотелось излить свое горе перед гостями и найти у них утешение, но Геллерт, почувствовав себя снова хозяином положения, выгнал ее из комнаты.
Не успев войти, Гербесдерфер спросил:
— Что же теперь будет?
Бальрих, засунув руки в карманы, прислонился к двери. Он устало спросил:
— С кем?
Гербесдерфер подскочил к нему:
— С нами! С нашими правами!
Бальрих исподлобья уставился на него. Польстер, стоявший перед ним, с обычным для него выражением собственного достоинства, степенно и твердо возразил:
— Какие там права! Люди это люди. Как постелешь, так и поспишь.
— Совершенно верно, — язвительно заметил Бальрих и при этом вспомнил о жене Польстера.
Но Гербесдерфер не отступал. Глаза его за круглыми очками все так же горели фанатизмом:
— Ты должен действовать! Все твои приверженцы отпали! Они уже не видят впереди ничего, кроме горя и нужды. Зачем же ты их растравил?
Бальрих язвительно заметил:
— А участие в прибылях?
— Вернейшее средство, — подхватил Польстер и повторил на память директорское объявление; затем принялся разъяснять его выгоды.
— Это все равно как если бы у каждого из нас было собственное маленькое предприятие, и притом мы бы не несли никакой ответственности за него.
— Все это иллюзии! — сказал Бальрих.
— Пусть… Если бы даже… ни один из нас не нес ответственности, — начал Гербесдерфер, запинаясь от негодования, — но ты, Бальрих, ответишь! Что ж, так и будет дальше — этот обман и грязь вокруг нас? Нет, тогда… — Он уставился на Бальриха и, снова запнувшись, с трудом докончил: — Тогда тебе остается только одно — поджечь фабрику.
Бальрих, словно оттолкнувшись от стены, сделал шаг вперед.
— Я не за это боролся, — угрожающе сказал он.
Гербесдерфер был изумлен:
— Не ради нас?
— Так слушайте же, — я свой путь знаю, а до ваших историй мне дела нет!
С этими словами он вышел.
— Предатель! — крикнул ему вслед Гербесдерфер.
— Разумный парень, — заметил Польстер.
Без шапки, в одной куртке шел Бальрих по улице, борясь с бурей.
— Меня им не провести! — воскликнул он вслух. — Стать поджигателем и попасть за них на каторгу? Им хотелось бы совсем убрать меня с дороги, вот что! Я мешаю их мещанскому покою; и они подсылают ко мне этого болвана Гербесдерфера. — Бальрих расхохотался. — Охотно верю, что и ваш товарищ Геслинг с радостью избавился бы от меня, но я еще выведу его на чистую воду.
Вдруг он на кого-то наткнулся. Оказалось — старик Динкль. Полы его ветхого плаща развевал ветер. Держа жестяной котелок в окоченевших руках, он плелся в закусочную за милостыней. Вдруг ветром снесло его шляпу. Бальрих бросился за ней и поднял — старенькая, жалкая шляпенка, не лучше тех, что выкидывают на помойку, но почему-то тяжелая, странно тяжелая. Ах, вот почему! От пыли бесконечных дорог, смешавшейся с потом, — вот отчего она такая тяжелая.
Старик смиренно проговорил:
— Честь имею, сударь.
Тут Бальриху почему-то вспомнилось, что в детстве старик однажды отколотил его, он сказал:
— Ваш сын велел передать вам эти деньги.
Он отдал старику все, что нашлось у него, и пошел дальше. Продолжая блуждать без цели, он думал: «Они слишком бедны, что можно с них спрашивать? Все мы так бедны, что не может быть и речи о каких-либо требованиях или правах».
Бальрих почувствовал, что и он такой же, как все. Ни его миссия, ни испытания, ни душевная борьба — ничто не изменило его. Всю жизнь ты в тисках нужды — вот твой удел, бедняк. Высокие порывы самопожертвования заказаны тебе, бедняку. Ты еще не успел восстать, а ружья ощетинились уже тебе навстречу, и выбора у тебя нет: так и так — смерть. Или же и впредь жить крохами с чужого стола. Их бросают тебе, а ты даже спросить не смеешь, кто и откуда. «Почему же Бук бросает их мне? Платит и Клинкоруму и Геллерту? Что это — эксперимент, фокус? А про себя, конечно, думает: какое еще там право? Какая победа? Какая борьба? Но это бесит кое-кого, — вот почему рабочий должен стать юристом. Тогда-де мы увидим, думает Бук, что останется у юриста от его идеалов!»
И Бальрих, истерзанный мукой, крикнул навстречу буре:
— Идеал в трущобе Геллерта! Его утопили в грязной луже! И каким же бесстрашным должен быть тот, кто выловит его оттуда…
От заснеженных полей тянуло ледяной сыростью. Там, в «рабочем» лесу, мелькнула и скрылась чья-то тень. Бальрих едва разглядел ее. Он шел, сраженный крушением всех своих надежд.
«Почти два года прошло с тех пор, как я встретил здесь бедную Тильду. Много горя было у нее тогда: я дал ей счастье. Это все-таки уже кое-что. А с тех пор — что сделано мною?»
Он размышлял о своем единоборстве с Геслингом и о том, к чему оно привело.
— Хорошо! — угрюмо сказал, наконец, Бальрих. — С иллюзиями покончено! Но действительность? Где та твердая почва, которая необходима для борьбы? Пожелтевший клочок бумаги в кармане — вот все, чем я располагаю; и это должно стать мечом, которым я одолею мир, новым евангелием, которым я все в нем переверну?.. — Мощные силы, отделявшие рабочего от его врага, только теперь предстали перед ним во всей своей осязаемости. — Попытайся пробиться! И ты будешь обращен в ничто, меркнущая искра от горевшей мысли — вот все, что от тебя останется.
Он остановился и, сжав голову руками, застонал. «Что это было со мной? Значит, они оказались правы, послав меня туда, где молодой блондин был так добр, что разрешил мне на время предаться моему безумию? Безумию, которое не имеет названия».
Он боролся за свою веру, но она покинула его. Он обрел ее в образе Лени, но Лени отвернулась от него.
«Не уходи!» — молил он, простирая руки, но и на этот раз она ушла.
На опушке голые ветви стонали под натиском бури; в лесу стало тише. Ледяной воздух, пропахший плесенью, дышал в лицо; ноги вязли в прелой листве. Внизу лежало озеро, уже затянутое тонкой коркой льда; ветер гнал по нему блеклые листья и черные сучья, они кружились и исчезали в полыньях. Вдруг среди полного безлюдья его взгляд различил очертания женской фигуры. Тильда… Он сначала не узнал ее, но чутье подсказало, что это она. Скамья возле тропинки, ведшей к озеру, почернела от сырости. Здесь сидела молодая женщина, съежившись, надвинув до самых глаз черный платок. Он увидел на сером фоне льда ее серый профиль. Выделяясь на фоне бледного неба, деревья словно обступили ее траурной толпой.
Он хотел окликнуть ее, но удержался. Он видел, как плечи и колени ее опускаются все ниже, и не верил своим глазам. Вот она соскользнула на землю, подняла руки, вздрагивая и словно сбрасывая с себя какую-то ношу, платок упал с ее плеч, и ветер унес его в воду. Она легла на грудь и поползла к воде, точно собираясь напиться или ожидая найти там спокойную постель.
Он побежал за ней. Ему казалось, что он кричит во весь голос и только ветер мешает ей услышать его зов. Он спрыгнул с обрыва, упал в яму с побуревшим снегом, выкарабкался, кинулся вперед. Лицо ее было в воде, и уже погрузилась грудь. Осколки льда исцарапали ей щеки. Бальрих привел Тильду в чувство, снял шерстяной свитер, который носил под курткой, вытер ее и накинул на нее, затем отвел назад на скамью. Ее широкоскулое, осунувшееся лицо было безучастно. Как будто она еще не вернулась оттуда. Он взял ее жесткую, холодную руку и стал смотреть туда же, куда был устремлен ее взгляд. Так они сидели долго, не проронив ни слова. Он робко придвинулся к ней и, обняв за плечи, хрипло прошептал:
— Не причиняй мне такого горя!
— Тебе? — проговорила она, вставая.
Но ему пришлось поддержать ее. И едва они вышли на ровную дорогу, как она стряхнула с себя его руку. Он скользнул по ней взглядом и увидел, как она изменилась. Грудь ее опала, живот торчал.
— Из-за этого? — спросил он.
— Из-за этого, — ответила она, не поворачивая головы. — Я не хотела, чтобы мой ребенок голодал, чтобы ему было хуже, чем тому, который лежит там, на кладбище.
— Разве ты голодаешь, Тильда?
— А ты не знал? Не хотел знать… — ответила она сурово.
Он опустил голову и отодвинулся от нее… «Я избегал ее, я не хотел знать, что и ее уволили из-за меня, что и она терпит лишения вместе с ребенком, который у нее от меня. Я веду себя так, как вел бы себя мой злейший враг. Любой буржуа не мог бы поступить хуже. До чего я дошел!»
Он чувствовал себя недостойным сказать ей хоть слово в свое оправдание. Они добрались до хибарки на дальнем поле, где она жила. Здесь Тильда свалилась без сил. Он отнес ее в каморку под лестницей, положил на кровать и остался подле нее, пока она не заснула. Затем принес ей поесть, хозяевам дал денег, пообещал еще. Все это для нее. Ему незачем было работать ни для той, которая ушла, ни для тех, кто предал его, ни для себя, с тех пор как он утратил веру. Только ради нее стоило еще трудиться.
Она проснулась и поела. Тогда он сказал:
— Я хочу жениться на тебе, Тильда.
Но она жестко ответила:
— Ты не сделаешь этого.
Он еще раз мягко повторил свою просьбу. Наконец она сдалась, смягчилась, заплакала: пусть поклянется, что любит ее. Он поклялся, и она поверила ему. А он ушел, уверенный в глубине души, что солгал, что, утративши любовь, осужден всю жизнь только ненавидеть.
Как-то вечером, возвращаясь домой в ранних сумерках, он натолкнулся на Геслинга. Главный директор собственной персоной оказался в саду Клинкорума, он, видимо, кого-то поджидал. Его машина стояла возле дома, скрытая, как будто нарочно, в тени стены.
Бальрих заметил и второго человека, но тот быстро исчез. «Должно быть, Геллерт, — подумал Бальрих. — Богач опять приехал искушать его». Тут он вспомнил еще одно подозрительное обстоятельство: когда он на днях вернулся домой, то обнаружил, что в его письменном столе кто-то рылся. С грозным видом вошел он в сад. Геслинг, против ожидания, не сделал попытки уклониться от встречи, он решительно выступил из-под заснеженного куста и, тяжело дыша, сказал:
— Эй? Долго ли вы тут еще будете шляться?
— А вы? — отозвался рабочий и пошел прямо на него, точно никто и не стоял на его пути.
От толчка Геслинг покачнулся и отступил в кусты.
В это время наверху звякнуло окно, и раздался голос Клинкорума.
— Так не делают, господин тайный советник, — прозвучал с высоты голос, и среди мрака, как бы окруженная ореолом, над ними появилась ученая голова, продолжавшая вещать с однообразной торжественностью — Богач надругался над высшей святыней — над человеческим достоинством и даже не помышляет о расплате!
— Напротив! — воскликнул Геслинг.
— Все это одни слова! — вновь прозвучал неумолимый, как у судьи, голос. — И горе тебе, ибо мститель стоит уже за твоей спиной!
Голос обращался к Геслингу на ты. Так же назвал он и Бальриха:
— А ты, мой мститель, хватай его! Действуй!
Однако богач не стал дожидаться этих действий и дал тягу.
Бальрих вдруг понял: «И у этого дела плохи!» Рабочий считал, что видит перед собой победителя, ибо сам был побежденным. Но разве мы побеждены, если победитель боится нас? Сила теперь на стороне Геслинга, я всеми покинут, ему верят. А вот Геслинг себе не верит. Победители знают, что торжествовать уже недолго. Их удел — становиться с каждым днем все более жестокими, чтобы хоть на время удержать власть. Зависеть от Геллерта и входить в сомнительные сделки с Клинкорумом — так ли выглядит победа? Ради чего же тогда ведется борьба?
Вдруг между оголенными деревьями сада небо зарделось, словно вспыхнул пожар. Клинкорум выбежал на балкон, а Бальрих, оглянувшись, увидел огни, плывшие над луговиной: то были факелы. Навстречу приближающейся легковой машине загремела музыка. Пыхтя и буксуя, машина выбиралась с проселка. Теперь она шла тихим ходом, окруженная факелами, впереди духовой оркестр. Какой победоносный вид! Геслинг, сидя в автомобиле и приподняв цилиндр, благодарно раскланивался во все стороны. На лице его, казалось, вспыхивали багровые отблески сражения. Лица рабочих, словно выхваченные из мрака, были обращены к Геслингу. Под скулами лежали мертвенные тени, рты, точно автоматически, открывались и закрывались; люди приветствовали своего владыку диким ревом. Впереди всех орал Яунер, позади Польстер, а посредине надрывался Крафт. Кто-то размахивал факелом, и красные блики скользили по его судорожно открывавшейся челюсти, по раздутым ноздрям, вдыхающим запах всех этих мужских тел. Но куда устремлен его растерянный вожделеющий взгляд? На Бальриха… Его ищет, ему машет изнеженной рукой, его призывает, самозабвенно ликуя, сын Геслинга Крафт…
«Я виновник всего этого, — сказал себе Бальрих, — вся эта комедия направлена только против меня». Людской рев вокруг Геслинга смешался с музыкой, ноги отбивали такт, — Геслинг удалялся. Какое победоносное зрелище!
Кто-то отстал, задержался в тени. То был Гербесдерфер; он подошел к Бальриху.
— Вот видишь, — забормотал он срывающимся от ярости голосом. — Ты не хотел поджечь фабрику, так они теперь зажигают факелы. Факельное шествие в честь щедрого благодетеля, даровавшего им участие в прибылях! Что тут поделаешь! При низкой заработной плате они получают сейчас больше, чем получали раньше при более высокой. Теперь он всех нас держит в руках и, видишь, укатил в свой княжеский замок.
— Не очень-то крепко, — заметил Бальрих; он пошел прочь, и ночь сомкнулась за ним.
А тем временем главный директор, упоенный победой, держал речь с террасы замка. Он приказал угостить пивом всех участников торжества во флигеле для прислуги, а сам кичливо похвалялся в кругу своей семьи великой ответственностью, которую возложил на себя. Затем вместе с сыновьями совершил обычный вечерний обход, осмотрел самострельные ружья и ушел к себе; вокруг него тоже сомкнулась ночь.
Лежа в постели, он самодовольно предавался размышлениям о том, что любовь народа стоит любых затрат. Как трогательны эти люди в своей доверчивости! Они воображают, что всегда будут участвовать в прибылях и что жизнь их отныне будет мирной и радостной. О нет, бог судил иначе. «Мне была бы грош цена, если бы я настолько не понимал своих интересов. То, чего желают эти люди, распылило бы целое, воплощенное во мне, я же обязан перед своей совестью расширять это целое, расширять неустанно, независимо от того, выдержит ли отдельная личность, или погибнет. Важно только целое, целое как самоцель, и целое — это я».
Но отдельные личности, разумеется, можно только принудить к пониманию, и если эти взрослые дети даже — трогательны своей наивной верой, их все же нужно остерегаться, ибо вера в мир и счастье — вещь крайне опасная. Пока люди не смирятся перед неизбежностью, их придется вести тернистыми, быть может кровавыми путями. А тем временем тот, кто ответствен за них, должен участием в прибылях усыпить их бредовые мечты. Рабочие уже забыли своего подстрекателя, того, кто обещал им целое, — целое как путь к миру и счастью!
Напрасно директор то включал, то выключал свет, — сам он никак не мог забыть того человека. Где-то там сидит он, светлая точка во мраке, сидит, бодрствуя в ночи и трудясь ради пожелтевшего письма, лежащего в его кармане. Клочок бумаги, ничтожный до смешного перед накопленной десятилетиями законной властью. Но что, если в один прекрасный день о своем праве завопят тысячи — какими средствами борьбы он будет располагать? Есть увольнение, есть фон Попп, есть тюрьма. Но этого мало. Раньше Геслинг считал, что этого достаточно, пока не явился тот. Да, его надо убрать — любой ценой! А этот Клинкорум, приютивший Бальриха, сразу использовал ситуацию и загнул бешеную цену за свой сарай! Но заплатить ему — значит открыто признаться в своей трусости… Нет, необходимо убрать того человека ради спасения целого, чтобы раз навсегда избавиться от фантома, который они называют правом, от неуловимого призрака, растлевающего умы, бесплотного перед существующей властью и все же подтачивающего ее.
Директор застонал в темноте. Жутко вспомнить то время, когда вымогатели еще оберегали свою тайну, эту мистическую легенду о праве обездоленных на какое-то наследство, измышление старого забулдыги, поддержанное рабочим, изучающим латынь. Тогда казалось, что ступаешь по минному полю, тогда трепетал на каждом шагу. Теперь все ясно. Мины разряжены, тайный враг оказался репетитором в потертом пиджаке. Как будто остается только плечами пожать. А вместо этого…
А вместо этого… директор застонал; он вдруг увидел лица, услышал голоса и, заметавшись в своей развороченной постели, тщетно старался отогнать, как отгоняют кошмар, все эти слухи, язвительные вопросы, злословие и клевету, которые, казалось, готовы были задушить его. Много врагов, много чести. Но если все, кто пожимал ему руку, даже этот подагрик генерал фон Попп, если все они будут смотреть на него, как на обреченного, сомневаться в его праве на собственность, а Гаузенфельд, эту твердокаменную скалу, не будут больше считать несокрушимой, тогда может настать минута… и разве она не настала? В переговорах с властями на крупные поставки его противники не раз пускали в ход то же оружие, которое носит в кармане этот рабочий. Он уже слышал те же намеки на собраниях своих акционеров. Это уже не мистика, не утопия. Сама жизнь хватает тебя за горло. Враги подкапываются под тебя. Воскресшие Катилины вырывают у тебя из рук то, что дано тебе свыше — священную собственность и власть{47}!
Директор сбросил с себя одеяло и выпил воды. Он хорошо знал этих людей, знал, на что они способны в своей алчности, даже такой непритязательной и убогой, в своей жажде жить иначе. За одно слово завистники посадят тебя в тюрьму, все у тебя отнимут. Что сумел делать ты, сумеет и тот…
У Геслинга стучали зубы. Его тряс озноб…
Когда-то ты был молод, теперь молод он. Враг уже занес над тобой нож, — что может спасти тебя? Опереди его! Все средства хороши ради такой цели! Пусть прольется его кровь! Бей его!
Директор дал тревожный звонок. В доме забегали, засуетились; он же, вооружившись скомканным атласным одеялом и размахивая бритвой, вопил: «Бей его!» Жена и сыновья нашли его вконец изнемогшего и тут же послали за врачом. Машина помчалась по шоссе.
Бальрих, сидевший за столом, слышал, как она пронеслась мимо; огни фар упали на дорогу и исчезли во тьме. Как молнией, Бальриха пронзило догадкой: «Теперь враг трепещет! Это из-за тебя, как было устроено из-за тебя же недавнее факельное шествие. Богач завладел всем, он лежит на гробнице справедливости и подобен зверю, высеченному из камня, слишком грузному, чтобы можно было своротить его с места. Но этот зверь, хоть он и каменный, а боится тебя и охотно выкупил бы у тебя твое право… А ведь тогда он всерьез предлагал тебе сто тысяч… Ты в любую минуту можешь их получить!»
Бальрих поднялся из-за стола и забился в угол. «Ты продал право своих братьев — вот куда привели тебя сомнения! Ради собственной преступной выгоды! Ты отказался от открытой борьбы за это право, тайком хотел воспользоваться им лишь как отмычкой и стать тем, за кого они выдают тебя — вымогателем! — Он схватился за голову. — Нет, это не мои мысли! Надо быть таким же хитрым, как он. Я могу продать ему фальшивку или тайком подготовить свидетелей перед тем, как мы будем торговаться, — тогда он у меня в руках! Все средства хороши! Нож к горлу!»
Так прошла ночь, она прошла и на вилле «Вершина», у Геслинга.
Днем, в городе, Бальриха догнал Ганс Бук. От него не так легко было отделаться.
— Я открою тебе одну тайну, — сказал Ганс. — Он боится.
— Оставьте меня в покое! — резко ответил Бальрих.
Но мальчик упорно продолжал говорить:
— Это касается тебя. Он даст все, что ты потребуешь.
— Пусть отдаст то, что принадлежит мне по праву. — Сто тысяч марок, он опять предложил эту сумму. Бальрих вздрогнул.
— Ты врешь!
Но подросток только лукаво усмехнулся.
— Так ты еще не забыл! Возьми же их!
Бальрих угрожающе ответил:
— Только богатому барчонку может взбрести на ум такая мысль! — И, полный ненависти к своим ночным раздумьям, он гневно бросил ему в лицо: — Воры вы, каждый на свой лад. Мое право — это право всех!
Шестнадцатилетний юноша вспыхнул и решительно сказал:
— Уж очень ты загордился! Увидишь еще, что я не хуже тебя. У меня тоже все отняли, и я Геслинга ненавижу. А ты… — Ганс гордо выпрямился, — ты способен только ненавидеть. Ты никого не любишь.
Бальрих не пытался отделаться от юноши. Он замедлил шаг.
— Даже ее, — проговорил Ганс вполголоса.
— Ты видел Лени? — также понизив голос, спросил брат. — Ей плохо живется?
Бальрих был уже возле дома, где давал урок, но прошел мимо. Лихорадочным шепотом Ганс торопливо посвящал его в свою тайну.
— Ради нес я готов просить подаяние, готов стать грабителем. Я люблю ее, как не любил еще ни один человек на свете. Завижу издали, и колени подгибаются. Однажды я упал к ее ногам, но она прошла мимо. Мимо!.. Тогда я побежал за ней, хотел схватить ее… унести… Я бы жизнь отдал за то, чтобы быть на четыре года старше. Ты еще не знаешь, что я делаю: ночью я крадусь к ней в дом и лежу у ее порога.
— Она не впускает тебя? — спросил брат с тревогой, ибо этот вопрос касался и его.
— Один раз я был у нее. Там как раз происходила распродажа ее мебели и платьев. Он уже ничего не дает ей. У него больше ничего нет. Он не любит ее, негодяй. Я незаметно пробрался в ее комнату. Я видел, как она плакала из-за одного платья, и я заплатил за него моими часами, чтобы она могла оставить его себе. И тогда она обняла меня. — Мальчик остановился; он побледнел, его глаза были закрыты. — А потом она меня прогнала.
— Почему?
Ганс вдруг ускорил шаг.
— Не знаю, — поспешно ответил подросток, он увидел перед собой Лени в ту памятную минуту, когда она оттолкнула его и крикнула ему вслед: «На что ты мне нужен, у тебя же нет ничего!», но ее брату он сказал — За то, что я выкупил платье. — И, солгав, чтобы защитить честь Лени, Ганс словно ощутил ее поцелуй на своих губах. Внезапно он вспылил: — А у тебя, ее брата, наверно, есть деньги, но ты даже не предложишь ей. Откуда же тебе знать, как ей живется!
Ганс все ускорял шаг и, наконец, побежал прочь. Бальрих, оставшись один, отдался своим мыслям: «Как же я ничего не знаю? Этому юнцу известно больше, чем мне! Послушать его, так он прямо герой Троянской войны, отдающий жизнь за Елену. А какая польза от этого Лени?.. Но все ради нее сошли в подземный мир — Аякс, который был так силен, и Гектор{48}, который был так прекрасен, и, наконец, сама она низвергнута туда. И если я все это делаю не ради нее, — тогда к чему мои усилия?»
Бальрих понимал, как горько служить одной идее долгие, долгие годы, быть может всю жизнь, между тем как в стороне от твоего единственного пути старятся и гибнут те, кого ты должен был бы поддерживать своей любовью. Искуситель являлся по ночам, он неизменно нашептывал все то же: его и ее жизнь важнее всяких вопросов о праве и совести. Но днем, окрепнув духом, он боялся лишь одного — встретиться с нею.
Когда наступил новый, 1914 год, Клинкорум в последний раз проэкзаменовал Бальриха. После этого учитель, против обыкновения, задержал его и даже угостил кофе; и тут он поведал своему ученику, что покровители Бальриха крайне озабочены его изнуренным видом, а ведь впереди — экзамены. За три месяца, что остались до испытаний, Бальриху надо пройти столько, сколько другие прошли за весь последний год. Клинкоруму не хотелось бы слишком обнадеживать его. Из своей педагогической практики он знает… Тут учитель пустился в разглагольствования. И когда Бальрих, наконец, прервал его, тот, помолчав, вдруг заявил:
— Ах, да. У меня есть билет для вас. В театр.
— Что это значит? — удивился Бальрих.
— Вам надо рассеяться и освежиться, — пояснил учитель.
Что касается его, Клинкорума, то он отнюдь не сторонник развлечений в столь неподходящее время, накануне экзаменов, но раз покровители… Какие покровители? Ну, кое-кто из родителей его учеников. Однако Бальрих сразу сообразил, что это адвокат Бук. Вероятно, и сам Клинкорум об этом догадывается.
С площадки лестницы учитель крикнул ему вдогонку: — И новый костюм вас ждет!
Одетый с иголочки, Бальрих отправился в театр «Аполло». Он вошел в вестибюль, сверкавший зеркалами и позолотой; в рисунке орнамента главное место занимали короны и рога изобилия. Билет, выданный ему в кассе, после того как он назвал свою фамилию, оказался на место в бельэтаже, и притом одно из самых дорогих, так что он сначала даже смутился, словно это какая-то издевка или искушение. Лестница была устлана мягким ковром и такая пологая, что как бы сама несла тебя наверх. В теплом воздухе коридора, куда выходили ложи, пахло духами, и благовониями веяло от дам, сбрасывавших меховые шубки с обнаженных плеч.
Мягкие руки бережно снимают с тебя пальто. Неслышно открыв дверцу, вылощенный капельдинер усаживает тебя в бархатное кресло. И сидится в нем спокойно и уютно, словно в теплой ванне. Все держатся непринужденно и вместе с тем уверенно. Господа во фраках привычным шагом входят по ступенькам к обтянутым алым бархатом ложам. Они целуют дамам руки в длинных перчатках или без перчаток, — сказочно белые руки. Иная дама так смело перегибается через край ложи, точно не может быть никаких сомнений в безупречности ее обнаженного тела. И они играют своими жемчужными ожерельями с таким ленивым пресыщением, будто во веки веков никто их не сорвет. «Напрасно вы так уверены в своей безопасности», — мысленно говорил им Бальрих и все же уклонялся, когда они наводили на него лорнет. Вероятно, Бук послал его сюда, чтобы Бальрих полюбовался на свои будущие жертвы? Или его хотели еще больше сбить с толку?
Какому-то зрителю надо было пробраться мимо него к своему месту. Бальрих поднялся, чтобы пропустить его, но с непривычки, смешавшись, повернулся к нему спиной. Тот, видимо, обиделся. Глядя через монокль, он дерзко смерил Бальриха своим мертвенным взглядом. Но Бальрих сурово сдвинул брови и показал ему кулак, тогда человек с моноклем, растянув застывшие складки рта в подобие улыбки, проследовал к своему креслу.
«Все вы созрели, как плоды, и вам пора упасть, — размышлял Бальрих. — Но это хорошо, что здесь, среди вас, сижу я, один из тех, за чей счет вы ведете вашу постыдную жизнь». Оркестр заиграл как бы в тон его настроению, еще больше разжигая в нем ненависть. Свободное кресло рядом с ним кто-то упорно старался передвинуть, но Бальрих, облокотившись на балюстраду, даже не пошевельнулся.
— Послушайте, угодно вам пропустить меня или нет? — раздался над ним чей-то гневный голос, и он обмер от ужаса, — это был голос Лени. Она отстранила его так энергично, что кресло затрещало под ним.
— Вот нахал! — сказала она и прошла к своему месту. Но вдруг ахнула и метнулась в сторону, точно желая бежать. В это мгновение поднялся занавес.
И тут он увидел, что сцена была только продолжением зала. Среди красивой мебели двигались такие же господа и дамы; у них были такие же манеры, и они так же разговаривали, как и люди в зале. Их речи были столь же изысканными, как и мебель, может быть еще более изысканными, чем те, которые он слышал в доме Геслинга, а судя по тому, как они обменивались быстрыми репликами, им было легко и приятно беседовать, и они отлично понимали друг друга. Бальрих с трудом следил за тем, что происходит на сцене, боясь потерять нить действия, и едва подумал об этом, как на самом деле потерял ее. «Я держу экзамен на аттестат зрелости, — размышлял он. — Я не только учился, но и многое пережил. Пережил ли столько тот господин с застывшими складками у рта? Однако ему ничего не стоит следить за пьесой. Да, у них есть что-то такое, чего я при всем желании не могу приобрести». Он притих, вконец оробев. Между тем сидевшая рядом с ним сестра выказывала все больше нетерпения. Наконец она обернулась к нему, затем опять посмотрела в сторону и сказала громко, как бы обращаясь к самой себе:
— Что здесь идет сегодня? А где же американцы?
— Какие американцы? — спросил, не успев подумать, Бальрих.
— Эстрадники. Какая скука! Они что, хоронят там кого-нибудь?
— Может быть, — проронил Бальрих и умолк.
Но Лени, видимо, считала, что разговор только начался. Она в упор взглянула на брата.
— Удивительно! Я являюсь сюда в надежде, что здесь еще… варьете, иначе я бы, конечно, не приехала, — и вдруг вижу тебя…
И он находил это удивительным, даже более удивительным, чем она, — ибо что может она понять при своем легкомыслии! Но он не шевельнулся, и Лени попыталась снова завязать беседу.
— Как жизнь играет нами, — промолвила она с робкой улыбкой и тотчас же, чтобы разговор не оборвался, спросила — Ты все еще сердишься на меня?
Теперь он заглянул ей в лицо, которому она постаралась придать обаятельность. Но тут же в нем появился испуг: она увидела, что он плачет.
— Карл! — с тоской окликнула она его. Никогда еще она не видела его слез и с мольбой и отчаянием продолжала: — Если бы я знала, что так огорчу тебя, никогда бы я этого не сделала!
— Неправда, — сказал он, не отрываясь от ее лица. — Но другое мучит меня. Меня убивает то, что я не в состоянии помочь тебе!
Теперь она поняла, что он знает все и он видел, какое это для нее унижение.
Оба растерянно стали смотреть на сцену, где тем временем господин и дама бурно объяснялись; потом господин ушел, хлопнув дверью, а она упала без чувств.
— Чего им надо? — вполголоса сказала Лени. — Ведь они же богаты.
Вместо ответа упал занавес, и, когда в зале зажегся свет, слева от него кто-то вскочил с кресла, и он увидел даму, уже немолодую, но красивую, какою теперь была Эмми Бук. Такой же расстроенный и страдальческий вид бывал, наверно, и у матери Ганса… Лени легонько дернула брата за рукав и шепнула:
— Посмотри, вон тот, с глазами мертвеца…
Действительно, господин с моноклем уставился на него.
— Он приехал сюда ради меня, — чуть слышно продолжала Лени. — Стоит мне только свистнуть… — произнесла она уже громче и действительно вытянула губы, повернувшись к господину с моноклем. Лицо, похожее на маску, улыбнулось, а Лени задорно сказала брату — Как видишь, поклонников у меня хоть отбавляй.
Но Бальрих прервал ее:
— Ты не любишь Геслинга?
Лени испуганно отшатнулась. Что-то дрогнуло в ее чудесных золотистых глазах, и не успела она ответить, как Бальрих почувствовал мучительную жалость к ней. Смиренно, точно служанка, она сказала:
— Любить кого-нибудь — нет, этого я еще не могу себе позволить. Потом — да, если буду богата. — Тут она впервые за весь вечер потупила глаза. — Жизнь многому научит, — пробормотала она.
Он молчал. Прошло немало времени, прежде чем она заметила, что музыка давно прекратилась и спектакль продолжается. Мужчины и женщины толпились на сцене, повертывались и встречались, как слаженные части одной машины, устройство которой, однако, надо было знать. Между всеми существовала какая-то связь; и хотя все происходило только на словах, этих людей всюду подстерегали какие-то опасности и непреодолимые трудности. Послушать этого господина с дорогой сигарой во рту или ту даму, увешанную драгоценностями, так кажется, что для них жизнь не в жизнь.
— Но почему? Чего им не хватает? — допытывался Бальрих.
Однако Лени уже нашла объяснение:
— Это у них душевный зуд, они щекочут друг другу нервы.
При этих словах она язвительно рассмеялась, и Бальрих тоже. Дама слева, похожая на Эмми Бук, наклонилась и зашикала ему в лицо. Лени в отместку ответила ей тем же. Брат и сестра потихоньку смеялись над соседкой, пока не кончился второй акт; дама поспешно удалилась.
Ее бегство развеселило Карла и Лени.
— Хороша я? — спросила Лени и прошлась перед ним в этом платье, которое было точной копией с туалета богатых дам; слегка отставив руки и откинув голову, неторопливо и плавно покачиваясь, она прошлась перед ним, будто по Гаузенфельду в воскресный день, когда все ее поклонники были на улице. Брат рассмеялся. Хороша ли она? Разве в этом могло быть сомнение? Стройные бедра и колени, обтянутые платьем, затканным серебристыми цветами, пышная грудь, горделиво вздымавшаяся под пеной кружев и фальшивыми жемчугами, а лицо — никогда еще не играл на нем столь вызывающий румянец! Брат шел с ней рядом, гордо подняв голову, и невольно раскачивался в такт ее шагам. Несколько гусынь, плывших им навстречу, пытались состроить презрительную гримасу, а сопровождающие их гусаки — загоготать. Но брат грозно сдвинул брови, выставил локти, и те молча прошли мимо.
Сестра сказала:
— Пойдем выпьем пива. Я угощаю. Та вон старуха с массированным бюстом явно имеет виды на тебя. Они думают, что ты у меня на содержании. Ты мог бы сделать карьеру.
В ответ брат залился беспечным смехом.
— Мы должны стать такими же подлыми, как они, — сказала сестра, когда они ходили по фойе, среди зеркал и богатой публики. — Ты хочешь изучить их право, чтобы отнять у них потом богатство. Ведь и я веду себя так же, как их собственные жены. Племянница генерала…
— Анклам?
— У той коготки поострее. — И она беглым взглядом окинула свои накрашенные ногти. — Таких счетов, как за нее, клянусь богом, он за меня не оплачивал. В наказание себе я стащила у него квитанции и иногда любуюсь ими.
Второй звонок. Публика схлынула, остались только брат с сестрой. И вдруг он увидел, как задрожали ее накрашенные губы и светлая капля блеснула на темных ресницах. Она схватила его руку, словно моля о помощи. Этот трепет, прерывистое дыхание, торопливость движений — все говорило об одном: она любит Горста Геслинга. Что бы она ни делала, что бы ни вышло из нее — всему виною этот человек. Только его она любила, из-за него ее сердце теперь полно ненависти.
Как схожи их судьбы! Это страшное предзнаменование! Молча, прижавшись друг к другу, прошли они поспешно по коридору и добрались последними на свои места. И тут сестра снова спросила его:
— Ты все еще сердишься на меня?
Но на этот раз он услышал в ее вопросе и другое: «Теперь, когда ты видишь? Теперь, когда ты даже предвидишь, на что я обречена?..»
Брат сжал ее руку. А на сцене герои уже изображали глубокую скорбь после всех пережитых страданий, которые так трудно было понять. Да и стоило ли задумываться над этим? Моя сестра любит богатого. Она принадлежала ему. Но он бросил ее, потому что она бедна… И вдруг у него вырвалось:
— Пусть он женится на тебе. Иначе…
— Иначе — что? — Она улыбнулась своей всепонимающей улыбкой. — И я уже хотела застрелить его… сегодня утром. А вечером я здесь. Вся жизнь — игра, — бросила она небрежно.
Он строго посмотрел на нее.
— Но мы не позволим им играть нами. Пойдем! Ты должна вернуться домой!
— А ты, разве ты вернулся бы на фабрику? Я уже не могу стать такой, как Малли.
Он попытался возражать, но она прервала его:
— Женись на Тильде!
Он стал уверять ее, что непременно женится, но она, казалось, уже не слушала.
— Вообще мы можем пожать друг другу руку. — И она надменно протянула свою. Он сердито отвернулся, и не успели они опомниться, как спектакль кончился.
— Что ж, — воскликнула Лени, — актриса на самом деле утопилась?
— Да, в меховой шубе, — ответил Бальрих, — чтоб не озябнуть.
Он-то знал, как люди топятся; но богатым это не под силу…
Когда брат и сестра поднялись со своих мест, Бальрих заметил на местах под ложами ту самую даму, которая напомнила ему фрау Бук. Она убежала от них и теперь, оставшись одна в безлюдном зале, все еще смотрела на опущенный занавес. И хотя они прошли совсем близко от нее, она их не заметила. Ее глаза были закрыты, и по щекам катились слезы.
Он усадил Лени в такси. На прощанье она сказала ему:
— Что ж, было очень приятно. Все-таки разнообразие. А ты не поедешь со мной?
Но так как брат отказался, Лени опять смиренно проговорила:
— Ну, в другой раз. Значит, не судьба.
Она почему-то медлила. Заглянув ему в глаза, она, наконец, сказала:
— Знаешь, если тебе когда-нибудь понадобятся деньги… — Но, прочтя ответ в его глазах, быстро добавила — Хотя только вчера у меня был судебный исполнитель.
Она рассмеялась. И чтобы облегчить ее душевную боль, рассмеялся и он. Тогда Лени уехала.
Бальрих один побрел домой, в Гаузенфельд. Морозный ветер обжигал ему лицо. «Почему та женщина плакала, — размышлял он, — ведь в пьесе утопилась молодая? Или она плакала оттого, что в молодости сама едва не поступила так же, а может быть, напротив, пожалела, что у нее не хватило мужества на этот шаг? Чего ей недостает? Судьба не дала ей счастья, хоть она и богата? Их мир совсем другой. Он недоступен моему пониманию. Одно мне ясно: и они там страдают; значит, неправда, что они живут в счастливом неведении, что их жизнь сплошной праздник. Что бы они ни делали и как бы ни поступали, если они страдают, то даже для них — это оправдание, и тебе теперь будет труднее желать их гибели».
Мысль эта глубоко потрясла его: «Теперь ты знаешь, что ближние покинули тебя и что тебе невозможно слиться с ними воедино. Ты понял уже, что победа, — та победа, ради которой ты живешь, сомнительна и ничего не даст. Ты знаешь, что борьба не сделала тебя лучше. Тебе пришлось узнать, что враги твои имеют тоже право на жизнь, как и ты…»
Он вернулся к себе в комнату, но не зажег света и, хотя было темно, закрыл лицо руками. Вот как обстоит дело, вот с какими помыслами предстанет он в ближайшие дни на экзамене, на том школьном испытании, которое для большинства является обычно подготовкой к дальнейшим жизненным испытаниям.
Отныне ученье давалось ему труднее, но с тем большим пылом он работал. Он старался не думать ни о боли, тисками сжимавшей голову, ни о часах бессонницы, полных смертельного страха. «Я не хочу оказаться беззащитным. Я не дам им обезоружить себя. Пусть они страдают. Они слишком долго жили припеваючи! И одного страдания недостаточно. Они обязаны загладить свою вину! Изгнанные из своих роскошных лож, пусть станут как все! И тогда жизнь станет лучше для всех Может быть, даже для той дамы, которая плакала там, в театре».
Но, несмотря на свои угрозы и тот вызов, который он бросал всему миру, Бальрих однажды все же не выдержал одиночества и, склонив голову, заплакал. Как и та незнакомка, он плакал о том, что нам не хватает мужества умереть и даже нет желания умереть, хотя мы и прозрели. Оплакивай же и нас, бедных, и тех, богатых. Тебе не изменить их участи, наше несчастье бессмертно. Изгони сегодняшних хозяев жизни из их гордых лож, завтра на их место сядут другие. Бедность — это нечто большее, гораздо большее, чем закон экономики, — она пожирает душу.
Никогда еще Бальрих не чувствовал себя таким ослабевшим. И вот однажды во дворе с ним заговорили товарищи. Они были очень озабочены.
После первых щедрых получек они зарабатывали теперь, даже при участии в прибылях, меньше, чем до того. Предприятие быстро приходило в упадок. Они были обмануты и бедствовали, как никогда. Гербесдерфер настаивал на стачке, Польстер еще питал какие-то надежды. Но подстрекателем на этот раз оказался Геллерт:
— Благодарите Бальриха! Это вам из-за него навязали участие в прибылях! Еще и не того дождетесь!
Бальрих вздрогнул, ему хотелось крикнуть: «Старик только и думает о том, как бы вас продать!» Ну, а он сам? О чем только не думал он сам?., И робко проговорил:
— Я, кажется, ошибся и не так взялся за дело. Хотите, я пойду и попрошу Геслинга, чтобы все было по-старому?
— Очень это нам поможет, — услышал он ропот товарищей.
— Да еще издеваться над нами! — зарычал, как дикий зверь, Гербесдерфер.
Толпа рабочих двинулась на Бальриха и стала оттеснять его к проселку, где во время факельного шествия стояла машина главного директора. Яунер был тоже тут, он напирал изо всех сил. Они швырнули отверженного об стену и, отбежав, вооружились камнями. Фанатик Гербесдерфер и шпик Яунер потянулись за одним и тем же камнем. Бальрих молча ждал. Но, когда они уже замахнулись, Польстер и Динкль схватили их за руки.
Бальрих снова подошел к ним с той решительностью, какую они привыкли видеть в нем.
— Даже сейчас я с вами, хоть вы и отреклись от своих прав и покинули меня.
— Какие там права, когда наши дети голодают!
Польстер стоял перед ним, широко расставив ноги. С присущим ему благоразумием он облек все эти беспорядочные крики в нужные слова:
— Ты, Бальрих, смотришь на все уже не так, как мы. Ты получил кое-какие знания, вот тебе и горя мало. Прешь — напролом к своей идее, а мы ради нее должны голодать.
— Неправда! — воскликнул Бальрих.
— Если б ты хоть одному из нас помог сейчас, мы бы уважали тебя больше, чем если бы ты всем нам дал богатство через двадцать лет.
— Верно! — подхватили остальные. — Бери что дают!
Тут и Бальрих сказал:
— Да, это верно! — И в подкрепление своих слов пошел с ними выпить.
Выйдя первым из закусочной, он столкнулся с Наполеоном Фишером. Тот напустил на себя, как обычно, многозначительный вид человека, умудренного житейским опытом.
— Что, доигрались? — заметил он. — Теперь мне приходится все исправлять, а во всем виноваты вы, молодое дарование…
Он осклабился, а Бальрих опять увидел Фишера на трибуне: вот он деловито пыхтит, а в душе у него лед, и он ни во что не верит.
— Вам тоже как будто пришлось кое-что пережить за эту зиму? — спросил депутат, с притворным участием поглядывая на Бальриха.
Бальрих кивнул. Как будто! Значит, все, что он пережил, в порядке вещей, — сознание своей миссии, измена, отчаяние, увольнение; и ему остается только покориться, сказав себе: «Живи для себя, только ради собственного благополучия, серенький ты человек!..» Все существо его вдруг восстало.
— А вы лгун! Обманываете нас, бедных, пустыми обещаниями! Все ваше дело — предательство! Иначе вы бы сказали: «Не верьте ничему, а действуйте!»
— Но тогда я не был бы сознательным социал-демократом, — спокойно возразил Наполеон Фишер, — а каким-то анархистом.
— Анархист — это я! — сказал Бальрих.
VII Ultima ratio[6]
Перед огромной рабочей казармой неистово орали дети; они отчаянно бегали, возились, дрались; но теперь они уже не барабанили в забор виллы Клинкорума, ибо доски были опутаны колючей проволокой. Уже отработавшие свое старики, стоя у стены, грелись в лучах предвесеннего солнца. Но тени постепенно удлинялись, уходили старики и дети, возвращались с фабрики те, кто еще мог работать; только Бальрих бродил по сырым дорожкам сада, останавливался, задумывался, к чему-то прислушивался. Малли и Тильда сидели в подвальной квартире, жаловались на свою судьбу и сердились на детей, когда те своим смехом заглушали их разговор. Старик Геллерт веселился заодно с малышами и заливался старческим смехом.
Но вот Бальрих высунул голову из-за куста; на дорожке действительно показался Горст Геслинг. Без монокля, тупо глядя перед собой, шел он неуверенной походкой, словно запинаясь на каждом шагу от смущения. Минута была подходящая! Бальрих бесшумно шагнул вперед и неожиданно вырос перед ним.
— Вы меня ждали, — сказал он хрипло, — рано или поздно! И вот я здесь, и я требую: женитесь на моей сестре!
Горст Геслинг вяло усмехнулся, как бы говоря: «Вот еще не было заботы!», затем собрался с силами, даже вставил монокль и заявил:
— Смешно! Она сама, кажется, прежде всего должна была об этом подумать!
— Или вы! — отрезал Бальрих. — Ведь виноваты вы, — продолжал он, не давая себя прервать. — Только вы! Хотя она и не была невинной: богатый не может требовать невинности. Но что бы с ней ни случилось и что бы из нее ни вышло, за все ответите вы, потому что вас… — Он поднес судорожно сжатые кулаки к самому лицу Горста. — Вас она любит.
Горст Геслинг отшатнулся.
— Вы невменяемы! — воскликнул он и уже вознамерился бежать, но Бальрих подскочил к нему, схватил за плечи и повернул лицом к себе. Горст Геслинг побагровел и оттолкнул противника.
— Внимание! Вот шпага. — И он вытащил ее из своей трости. — Я вынужден прибегнуть к самозащите.
— Негодяй! — сказал Бальрих. — Трус! — И с бранью начал отступать перед натиском врага — дальше, все дальше, до самого забора. И вот удар, но шпага, звякнув, упала, и Горст напрасно старается вырвать руки, которые стиснуты руками противника.
— Хватит! — сказал Бальрих. — Не вздумайте толкнуть меня на колючую проволоку! Кто вынужден теперь прибегнуть к самозащите? Если я напорюсь затылком на колючки, я имею право вас убить.
Горст Геслинг понял, что Бальрих прав; он перестал сопротивляться и, задыхаясь, прохрипел:
— Ваши условия!
После этого Бальрих отпустил его. А у богача морда снова стала надменной.
— Сто тысяч! — бросил он.
— Жениться, — ответил Бальрих, задыхаясь от ярости.
— Сто тысяч! Я начинаю с того, чем кончил мой отец.
— Ваш отец далеко не кончил. Он еще предложит мне весь Гаузенфельд.
— В таком случае — весь Гаузенфельд, — с любезным ехидством сказал сын.
— Если бы даже это было в ваших силах, то этого отнюдь не достаточно. Жениться! — повторил, задыхаясь, Бальрих.
— Неужели ваша сестра стоит дороже всего Гаузенфельда? — При этих словах Горст Геслинг вытянул шею, чтобы в сумерках разглядеть лицо рабочего.
— А вы еще сомневаетесь? — крикнул Бальрих. И вполголоса, торопливо, чуть не скрежеща зубами, продолжал — Если не знали до сих пор, так еще узнаете! И если вы не женитесь на Лени, то вся ваша жизнь — поймите меня правильно, — вся ваша жизнь будет отныне сплошным страхом. В ближайшем будущем я стану студентом, я вызову вас на дуэль. Но я не дам вам умереть, я только сделаю вас калекой. Напрасно вы смеетесь! Я знаю, вы не такой уж трус, но против меня вы бессильны, потому что я хочу — вы слышите, — я требую, чтобы вы женились на Лени!
И так как враг в ужасе отпрянул, Бальрих двинулся следом.
— Вы будете встречать меня всюду, где бы ни ступала ваша нога. По частям будете вы околевать от моей руки. Тогда вы узнаете, на что способен человек, который живет только ради того, чтобы вам мстить!
— Хвастун! — пробормотал богач, однако шарахнулся в сторону, как от огня. — Но и вам, — пролепетал он, — придется кое-чем поплатиться.
— Я отомщу за сестру.
— Какая вам от этого польза?
Бальрих выпрямился:
— Вы не способны любить по-настоящему, и вам не понять меня.
Тут Бальрих заметил, что враг его, стоявший в тени забора, вдруг растерялся. Чуть внятно молодой Геслинг спросил:
— Но как это сделать?
— Ваше дело — достать денег.
— Вы видели, в каком состоянии я вернулся из города. Ростовщиков вряд ли удастся долго водить за нос.
— Это ваше дело, — повторил Бальрих. — Достаньте денег, уезжайте с ней в Англию, женитесь на ней!
Сделав неопределенный жест, богач ответил:
— Попытаюсь.
— И не воображайте, что вам удастся улизнуть. Я отыщу вас в самых отдаленных уголках земного шара еще легче, чем здесь. Я сбросил с себя ярмо наемного раба, заметьте это себе. И для меня не существует больше никаких преград.
Горст пробормотал:
— Единственный выход — обокрасть кассу.
— И вы уедете лишь тогда, когда в отношении нас уже не сможет возникнуть ни малейшего подозрения.
— В отношении нас, — повторил Горст Геслинг как-то приниженно. Но тут же гордо выпрямился. — А какую сумму требуете вы лично для себя?
— Нет, я не дам вам пинка. Своему зятю я не даю пинков. — И Бальрих решительно пошел прочь.
Он только что хотел свернуть за угол, как чья-то огромная тень встала на его пути.
— Ну и ну! — воскликнул Клинкорум, ибо это был он. — Вымогатель, разбойник и вор! Ну и ну! И это наш пророк!
Бальрих с изумлением увидел, что учитель словно заплясал на месте. Казалось, перед ним качается башня… Но Клинкорум уже овладел собой; он опустил руку на плечо рабочего.
— Сын мой! — возгласил он.
Испуганный своим признанием, он умолк, прислушиваясь: но кругом стоял мрак и глубокая тишина.
— Сын духа моего! Ты унаследовал от меня самое сокровенное, то, что я носил в тайниках души — ненависть к сильным мира сего и смертельную вражду против власть имущих! — И другой рукой он обнял Бальриха за плечи. — Сын мой! Во что превратил меня деспотизм! Я шут, я игрушка в руках богачей, я — интеллигент! Сам разум лишь игрушка в их руках, они его использовали и надругались над ним! Отомсти за меня! Благодаря тебе я буду знать, что жил недаром!
Тут он совсем повис на шее у своего ученика и чмокнул Бальриха в щеку. Бальрих снисходительно принял этот поцелуй. Затем обратился к учителю:
— Допустим, я сделаю это, а вы потом отречетесь от меня?
— Никогда! Клянусь крыльями святого духа, никогда!
Клинкорум стоял, словно башня в ночи… Бальрих ощупью пробрался мимо него и кинулся к калитке. Не успел он достичь ее, как еще кто-то отделился от выступа стены.
— Мне хочется сказать вам… — то был Крафт Геслинг, — что я глубоко порицаю брата. В нем нет ни чуткости, ни благородства. В вас я угадываю родственную душу.
Но так как Бальрих явно усомнился в этом, Крафт поспешно продолжал:
— Верьте мне. Никогда бы я не смог вести себя так неделикатно и обольстить вашу сестру.
Это бесспорно. В этом отношении ему можно поверить.
— Что вам, собственно говоря, угодно?
— Помочь вам, мой дорогой.
«Богачи, видно, сумасшедшие, — подумал Бальрих. — Когда их берешь за глотку, они отдают не только деньги, но и сердце».
Крафт силился придать выразительность своему глухому голосу:
— Вас, наверно, больше устроило бы достать денег, не взламывая кассы? Так вот, я знаю выход. Мой брат Горст зашел в безвыходный тупик, он окончательно продался бабам. А у меня есть сбережения.
— И вы хотите ему помочь, — уточнил Бальрих, — чтобы он мог действовать как порядочный человек?
— Это прекрасно, не правда ли? Я так люблю красоту душевную и… телесную… — При этом Крафт, слегка покачнувшись, обхватил Бальриха за плечи. Тот стряхнул его руку, но Крафт засюсюкал — Разве я не могу надеяться на дружескую награду?
Он получил пощечину и стал тут же грозить своему «другу» донести на него, выступить свидетелем против него, стереть с лица земли. Выкрикивая угрозы, он убежал.
Крафт поспешил домой; идя среди ночного мрака, он обдумывал свою месть. Смелость, которой недоставало старшему брату, Крафт почерпнул в своей неразделенной любви… Он сказался больным и лег спать без ужина. Долгие часы он терпеливо дожидался возвращения брата. Войдя в спальню, Горст сделал вид, что раздевается, то и дело поглядывая на спящего. Крафт мерно дышал, по временам вздыхая во сне. Тогда Горст перестал притворяться, снова надел пиджак и, при лунном свете, тоже стал ждать. Когда в окнах фасада погасли последние огни, он, надев мягкие домашние туфли, вышел из комнаты.
Как только брат начал спускаться по лестнице, Крафт поспешил в другую сторону. Он неслышно вошел в спальню, откуда доносились стоны отца. Лампа горела на ночном столике, освещая сведенное гримасой лицо главного директора. Он невнятно бормотал во сне. Слышались какие-то отдельные слова, какие-то цифры… Внезапная судорога пробежала по всему его грузному телу, скованному сном. Он вдруг приподнялся, опершись на руки, белый как полотно, и уставился перед собой. Чья-то скрюченная черная тень, будто готовясь кинуться на него, притаилась в углу.
— Боже мой! — вскрикнул он и упал навзничь.
Крафт хрипло окликнул его:
— Папа!
Отец пристально взглянул на него, увидел его черную шелковую пижаму, впалые глаза, тень под крючковатым носом. Разгневанный, не помня себя, он, наконец, потянулся к револьверу. Но Крафт, весь поглощенный тем, ради чего пришел, решил довести дело до конца.
— Пойдем, папа, — настойчиво позвал он отца и медленно поманил длинной, костлявой рукой. — Пойдем, папа, ты не поверишь глазам своим.
Главный директор, уже не расспрашивая ни о чем, встал с постели и последовал за сыном. Крафт, неразличимый в темноте, взял его за руку и повел вниз по лестнице. Раззолоченная галерея была залита лунным светом. Крафт упорно держался в тени. Так крались вдоль стен отец и сын, направляясь в обтянутый белым атласом зал в стиле барокко. Здесь, к своему ужасу, директор увидел свет: он падал из притворенной двери его кабинета. Геслинг словно к полу прирос. Но Крафт потащил его за собой. Один высокий, весь в черном, у другого тело словно выпирало из белой сорочки — так они предстали перед Горстом. Горст, оторопев, смотрел на вошедших. Он стоял, наполовину скрытый выдвижной дверью, за которой находилась святая святых его отца — несгораемый шкаф. И сейчас шкаф был раскрыт, а в руках у Горста дрожала пачка кредиток.
Увидев это, главный директор вдруг весь преобразился. Решительно и уверенно он крикнул:
— Руки вверх! — и поднял револьвер.
— Pardon! — отозвался Горст. — Это я!
Главный директор, который в этом не сомневался, подошел к несгораемому шкафу и деловито обследовал его.
— Без взлома, — заметил он. — Как ты его открыл?
Горст, припертый к стене, вынужден был признаться: число, набрав которое можно было отпереть сейф, он подслушал у отца уже давно, когда тот назвал его во сне, в беспокойном сне работодателя, преследуемого врагом.
— Уже давно?
Давно. Ибо Горсту Геслингу давно не хватало легальных источников для получения вспомогательных сумм, и он уже не в первый раз стоял перед тем деянием, которое готов был совершить сегодня. Но он счел неуместным разыгрывать перед отцом раскаянье, а лишь как мужчина посетовал на скудость отпускаемых ему средств. В ответ главный директор достал кассовую книгу, сопоставил несколько цифр и назвал сумму, которая, как он полагал, должна была ужаснуть сына. Но Горст не ужаснулся. А Геслинг без сил упал в глубокое кресло и тяжело вздохнул, как вздыхают только удрученные отцы.
— Что мне до этих денег, пусть их берет кто хочет, но надо же, чтобы взял именно ты!.. Мой сын взломщик! Мой первенец — вор! Тебе остается еще убить кого-нибудь, и твоя карьера преступника будет завершена. А меня ты сведешь в могилу.
Сын слушал его с подобающей почтительностью. Руки отца свисали с кресла, как обрубленные. Он весь утонул в этом кресле, живот вздымался, точно надутая воздухом подушка. Когда Геслинг уже начал повторяться и снова завел речь о том, что пусть бы эти деньги взял кто угодно, Горст счел официальную часть церемонии законченной и принялся укладывать банкноты обратно в несгораемый шкаф. Одна бумажка упала на пол, отлетела в сторону — прямо под дверь, ведущую в квартиру адвоката Бука. Горст предусмотрительно оставил ее там, на случай неожиданной развязки, к которой мог привести гнев отца.
— И все это можно было бы еще простить, — сокрушался отец, — если бы мой сын не избрал известную особу, чтобы с ней спускать отцовское состояние. Не воображай, будто отец твой не знает, до какой степени ты бессердечен. Ради сестры моего злейшего врага, только ради нее ты посягнул на мой несгораемый шкаф, на святыню твоего родного отца.
«Наконец что-то новое, — подумал Горст, — можно будет оставить бесплодную область чувств».
— Я должен предупредить тебя, папа, — сказал он, — что твоя осведомленность, как бы я ею ни восхищался, как раз в самом главном подвела тебя. Статья моих расходов, на которую ты намекаешь, играла в в моем бюджете сравнительно скромную роль. Даю слово. Гораздо большая часть ушла по другим, я бы сказал, более славным путям.
— По каким же? — спросил отец.
Но Горст заявил, что он рыцарь и считает неудобным пускаться в дальнейшие откровенности.
— Я не могу тебе помочь? — язвительно ввернул Крафт.
Одно движение, и Горст толкнул его в самый дальний угол. Сиплый голос Крафта затерялся в грохоте мебели, за которую взялся отец, ибо он уже не стонал, а ревел и, вскочив с кресла, принялся расшвыривать все, что попадало ему под руки. Горсту, напротив, тем легче было блюсти свое рыцарское достоинство. Уже благодаря корректному жакету он выгодно отличался от полураздетых отца и брата. Но тут, привлеченная шумом, в пеньюаре с кружевным шлейфом появилась Густа — жена и мать. Она увидела, поняла и вмешалась.
— Да ведь все дело в маленькой Анклам, неужели ты до сих пор не знаешь, несчастный! — властно заявила она. — Надеюсь, ты теперь посмотришь на все другими глазами.
Отец пытался возражать:
— Он признался, что давал и той особе…
— Неправда! — отрезала Густа.
— Но, мама, я же видела ее обстановку. — Это внезапно появилась Гретхен в длинном халатике; она сладко позевывала. — Я была на аукционе. Ведь Горст давал ей до неприличия мало, этого нельзя отрицать.
Но тут дело обернулось плохо для Гретхен.
— До неприличия? — повторил Горст и сделал движение, словно собираясь ударить сестру.
Мать тоже напустилась на нее:
— А молодой девушке неприлично и знать-то такие вещи. Она не должна верить им, даже если они происходят у нее на глазах. Вон отсюда, негодница!
И Гретхен исчезла так же внезапно, как появилась.
Главного директора вдруг осенило, казалось — небеса разверзлись над ним и перст божий указал ему выход.
— Дело в том, — властно начал он, — что мой сын подвергается подлейшему шантажу.
— Супруг мой! — воскликнула Густа. — Таких вещей не говорят о даме. Наш сын пользуется успехом у племянницы генерала!
Но глаза директора метали молнии.
— Замолчи, иди к дочери! В серьезные минуты женщинам тут делать нечего.
Глаза его продолжали метать молнии, пока Густа не признала, что ее роль сыграна, и, шелестя пеньюаром, не ушла к себе. Главный директор собственноручно запер за ней дверь.
— Ты подвергаешься гнуснейшим вымогательствам, — настойчиво повторил он.
— Так точно, папа, — согласился Горст.
— И притом — со стороны недостойной особы, брат которой готовит против меня мятеж. Эти несметные суммы попадут в его руки.
Горст смекнул, в чем дело:
— Если бы мы могли это доказать…
— Докажем, — категорически заявил отец. — Он оскорбил тебя действием. Он угрожал тебе в случае отказа исполнить его требование.
Горст испуганно пролепетал:
— А ведь так оно и есть.
Главный директор просиял:
— Где твои свидетели?
— Сколько я получу за это? — глухо прозвучал за их спиной голос Крафта. Но главный директор схватил его за шиворот:
— Оплеух сколько угодно, или ты сейчас же расскажешь все, что видел, как попал туда! Я хочу знать, какие у тебя отношения с этим негодяем!
Но Крафт, почуяв опасность, все отрицал.
— Клинкорум свидетель, — сказал он. — После Горста он говорил с Бальрихом.
— Так он соучастник! — Директор ликовал. — Может быть, даже сообщник. Значит, и он у меня в руках. Вперед! Мы сразу уберем их всех! Завтра утром — арест.
Он схватился за сердце.
— Ах, пора, давно пора! Я уже подумал… — И, обратив почти благоговейный взор на несгораемый шкаф, главный директор вдруг снова почувствовал твердую почву под ногами и торжественно кивнул ему.
— Письмо! Письмо, которое должно Лишить меня всего. Вернуть его и запереть вот тут, чтобы оно служило предостережением самым отдаленным моим потомкам, напоминая о страшной угрозе, нависшей над головой их предка. Ради этого я готов на все. — Он выпрямился и еще громче изрек — Клянусь всем святым, я найду это письмо, ибо жестокая борьба за существование, которую мне навязали, оправдывает самые суровые меры. Я найду это письмо, даже если бы мне пришлось извлечь его из пылающих развалин… — Он умолк.
— Три часа мы еще можем поспать, — заявил он. — Мне сон необходим.
Впереди шел Крафт, затем главный директор, за ним Горст. Так они двинулись в обратный путь через белый зал и золотую галерею. На лестнице Геслинг повторил:
— Я готов на все.
Но Горст вдруг остановил его. Крафт исчез, еще когда они были наверху.
— Позволь тебе сказать, отец, — как бы невзначай бросил Горст. — Только для твоего личного сведения. Он потребовал от меня лишь одного: чтобы я женился на его сестре.
Директор свирепо посмотрел на сына:
— У меня нет никаких оснований верить тебе. Мы же с тобой порешили на том, что он требовал у тебя денег. Видимо, ты еще не знаешь истинную цену деловым соглашениям.
Горст замялся.
— Как мужчине, — заговорил он снова, — мне неудобно…
— Ха-ха! Честь фрейлейн Бальрих… Не ее ли ты намерен восстановить?
— Вот именно! — сказал сын. Он побледнел. — В случае моего отказа от женитьбы мы ничего не выиграем, а наоборот…
Главный директор опять пристально посмотрел в глаза сыну. Какая здесь таилась угроза для его отпрыска, какие еще козни замышлялись против них обоих? Он предпочел не спрашивать. Быть может, это дело можно уладить без огласки, мирным путем, более верным и действенным, чем недолгое тюремное заточение вымогателя. «Для меня будет тяжким ударом, — размышлял главный директор, — если с моим мальчиком случится несчастье. Но расплачиваться приходится каждому из нас, и бывают положения, для ликвидации которых даже пожертвовать сыном — не слишком высокая плата. Таким путем можно лишить врага его прав, и власть по-прежнему останется у того, у кого она была». Отец замигал, сын понял его мысли; ледяная дрожь пробежала по его телу… Оба вдруг отшатнулись друг от друга, после чего главный директор с некоторой поспешностью удалился к себе.
Хотя огромный зал был совершенно пуст, все же Горст после ухода отца вставил в глаз монокль и, едва держась на ногах, направился к двери. Как ни важно было то, что сейчас произошло, он не забыл об упавшей ассигнации. Она все еще лежала на том же месте. Но едва он дотронулся до нее, как бумажка выскользнула у него из рук и очутилась под дверью — у Буков.
Новая опасность. Он продолжал сидеть на корточках, боясь пошевельнуться. Вдруг за дверью раздался свист, зловещий свист, такой можно услышать в темную ночь из оврага или из кустов, когда ты один в пути. Горст понял, что это Ганс Бук и что он угрожает ему. Ганс мог разболтать все, что здесь говорилось. Уж лучше дать ему возможность улизнуть с этим банкнотом. Горст в своем теперешнем положении не видел никакого смысла участвовать и впредь в опаснейшей игре отца. Все еще сидя на корточках, он неслышно подался назад.
Ганс Бук, наблюдавший в замочную скважину, отскочил от двери и со всех ног пустился бежать. За ним могли погнаться, поэтому скорее прочь отсюда, черным ходом через парк, «рабочий» лес, через Гаузенфельд — прямо к ней! В город, на ту улицу, в тот дом, где живет она, к ней! Ее руки, ее губы! Теперь у тебя есть деньги. Беги же, беги с ними к ней, к твоей любви!
Он уже промчался через ворота, между корпусами рабочих казарм. Вот луг, вот шоссе. Тут он приостановился, рванулся вперед, опять замедлил шаг и все же вошел в огромный дом — убежище бедноты. Ворота только что открыли. Светало. Люди были уже на ногах, сновали по коридорам и лестницам. Ганс Бук останавливался, здоровался со знакомыми. Тут слово, слово там… Но теперь быстрей на виллу Клинкорума! Лампа в комнате Бальриха тускло желтела в предрассветной мгле. Стук в окно, быстрый шепот, — сообщить только самое главное. Вот он спешит дальше, и гравий взлетает у него из-под ног. Ничто их больше не разделяло, только скорость, с какой он добежит.
И он мчался, но сердце опережало его. Оно уже было у цели, оно видело ее, его сердце смотрело ей в лицо, которого так боялось — слишком оно было прекрасно. «Вон она раскидывает белоснежные руки…» Вдруг он увидел себя все еще на шоссе, он пробежал только дом Клинкорума. По светлеющему небу скользили ласточки, пролетали над городом, над ее домом и возвращались, трепеща, как его сердце.
«Когда же я доберусь? — думал он. — Только бы добраться! Ничего больше. Потом все равно что — хоть конец». Он спешит к ее дому, а из иного мира к дому спешит смерть — они должны встретиться в ее объятиях! Ликуя, спешил он навстречу смерти, ибо смерть — это была любовь.
Но не прошло и часа, как он, обессилев, плелся обратно. Крылья его сердца поникли, по запыленному лицу текли слезы. Так добрел он до виллы Клинкорума. Сад был полон полиции, — семью Динклей, высыпавшую из подвала, жандармы также не выпускали за ограду. Ганс Бук заявил, что его ждет учитель, и ему разрешили подняться наверх. Там он наткнулся на людей в штатском, с еще более мерзкими рожами, чем у тех в полицейских мундирах; они искали кого-то или сидели в засаде. Начальник находился в кабинете Клинкорума. Главный директор Геслинг даже взгромоздился на письменный стол и рылся в бумагах, видимо разыскивая что-то. Оба напустились на Клинкорума. Но тот с достоинством отражал их натиск. Бальриха, которого они искали, он не видел. Ни о каком покушении Бальриха ему ничего не известно. Он, Клинкорум, его сообщник? Да он расхохотался бы им в лицо, если бы не боялся встретить еще большее непонимание своих верноподданнических чувств. — Ваши верноподданнические чувства будут проверены в другом месте, — резко сказал главный директор. — У нас есть свидетели… — И Геслинг указал куда-то в темный угол, но там ничего нельзя было разглядеть.
Клинкорум непоколебимо стоял на своем, он шагнул в глубь комнаты и положил руку кому-то на плечо. Затем вывел из угла Крафта.
— Свидетели, — сказал Клинкорум не без иронии, — найдутся у каждого, даже у господа бога. И самые затаенные порывы человеческого сердца не так уж глубоко запрятаны в нем! Итак, вперед, цвет немецкой молодежи! — И он слегка подтолкнул Крафта к отцу, причем Клинкорум усмехнулся своей акульей пастью столь многозначительно, что главный директор, недолго думая, сполз со стола. Правда, он пробурчал еще несколько угроз, но уже начал отступать в сопровождении Крафта и полицейских чинов.
Опасность миновала; Ганс Бук, стоявший за дверью, крикнул «гу-гу», предвкушая удовольствие увидеть испуганную физиономию учителя. Но тот не испугался, а лишь пригрозил пальцем своему ученику и назидательно изрек:
— Теперь ты сам убедился, мой мальчик, во что превращаются жалкие властолюбцы, когда против них восстает наука. Мы, интеллигенты, несем в своем духе ту взрывчатку, которая их всех погубит.
Напутствуемый этими словами, юный Ганс Бук выбрался из дома, который был теперь окружен уже не полицией, а народом, главным образом женщинами. Когда они проникли в сад, Динкли все рассказали им, женщины сообщили мужьям, и те уже спешили сюда прямиком через луговину. Побросав работу, они убежали с фабрики, чтобы самим удостовериться, неужели Геслинг осмелится арестовать Бальриха, их Бальриха, их вожака, того, на кого они так надеялись. Ибо теперь они возлагали все свои надежды только на него. Они стояли кучками и разговаривали вполголоса, точно боялись, что их подслушивают.
— Вот это человек, он наперед предсказывал, что Геслинг этим участием в прибылях надует нас. Бальрих наверняка что-то против него затеял, иначе почему его арестовали?
— А что он мог затеять? — волновался Гербесдерфер. — Стачку? Только в ней наше спасение. Но Бальрих всегда был против стачки. Если же он нынче за, значит это необходимо и надо поддержать его.
Рабочие разделились: одни отправились на фабрику за остальными товарищами, другие, которым жены шепотом сообщили о событиях, вернулись в корпуса и рассыпались по коридорам и лестницам. Шпиона Яунера несколько человек втолкнули в чулан и обещали прикончить, если он посмеет хоть пикнуть о виденном или слышанном. Прошло довольно много времени, прежде чем все сошлись перед комнатой № 101. Здесь, в своем прежнем жилище, сидел за сосновым столом Бальрих. Он поднял глаза на вошедших, перед ним лежал револьвер, который он прикрывал рукой.
— Тут мне нужны только друзья, — сказал он, сдвинув брови. — А если меня найдут враги… кажется, я ради вас перестарался, и мне остается только одно…
Как ни взволнованы были люди, они выслушали его молча, пока кто-то не заявил, что теперь все равно, им тоже некуда податься и они готовы идти за ним.
— На жизнь и на смерть, — заявил Гербесдерфер. — И ни один уже не сдрейфит, — добавил Польстер. Тогда Бальрих дал им совет работу бросить и не шуметь.
— Никакого насилия! Ждать, пока Геслинг не выполнит того, что вы требуете.
— Тариф! — закричали рабочие. — Минимальный заработок — двадцать восемь марок!
Но Бальрих возразил:
— Не тариф, а тридцать пять марок… А не пойдет на это — выжидать! У меня есть дело к его сыну… — обращался Бальрих то к одному, то к другому. — Вы же сами понимаете, что Геслинг не пожертвует сыном, если вы от отца потребуете только, чтобы он перестал обманывать вас и сосать из вас кровь. Неужели он откажет в помощи родному сыну и не спасет его? Кто поверит этому?
Старик рабочий положил руку на плечо молодого и сказал:
— Никто не поверит.
— Этого еще не бывало на свете, — повторяли рабочие и поодиночке, украдкой стали выходить из комнаты.
Позади кровати послышался шорох. Бальрих схватился было за револьвер, но перед ним вдруг предстал Ганс Бук. Бальрих бросился его обнимать.
— Ах ты пострел, как я тебе благодарен! Без тебя мне бы уже пришел конец!
Но он неожиданно встретил отпор. Юному богачу было сейчас не до него, он вывернулся из его рук.
— Не благодари меня, — сказал он сердито; его широко открытые глаза были полны слез, как у девушки. — Я только мимоходом, случайно задержался здесь у тебя. Я спешил к другой. — Держась за столбик кровати, он согнулся, словно от боли. — Но она не стоит этого, — проговорил Ганс и зарыдал. Затем он стал перед ее братом и спросил: — Вот она прогнала меня… Можешь ты ей это простить, если ты мне друг?
— Бедняга, — сказал рабочий участливо.
Семнадцатилетний юноша в отчаянии ломал руки.
— Вот какое у меня горе! Неужели девушка не чувствует, когда ее беззаветно любят и что никто, ни один человек не будет так беззаветно ее любить? Я никогда бы этому не поверил. Но для меня теперь все кончено… Я погиб.
Брат взял его стиснутые руки в свои. Он тоже мучился и с болью сказал:
— Забудь ее. Ты лучше всех нас. Я тоже люблю ее. Но мы с ней дурные люди: мы любим деньги.
Тут Ганс вскипел:
— Деньги? У меня были деньги, но она не взяла их. — И он показал Бальриху банкнот с обозначенной на нем крупной суммой. — Даже этих денег она не приняла, а какая женщина отказалась бы от них! Это мы, богатые, приучили вас брать деньги. За что же ты бранишь ее?
На этот раз заплакал Бальрих. Он положил руку на кудрявую голову Ганса:
— Эх ты, несчастный!
Ганс заломил руки.
— Мы бежали бы с ней и были бы одни в целом мире. В людской толпе никто не знал бы нас. Я стал бы работать. Я бы взял самую трудную, самую грязную работу! Я трудился бы для нее, чтобы наряжать ее дивное тело, питать ее сладостный рот. Я жил бы ради ее поцелуев, а если бы мне не дано было жить в этом блаженстве, я умер бы, целуя ее. Мы умерли бы бедными и побежденными; но столько жизни, столько бессмертного счастья излучали бы мы, что наша убогая мансарда еще сияла бы, когда мы стали бы уже трупами.
Ганс опустился на колени возле постели и стал изливать свое сердце, обращаясь к той, чей образ неотступно витал перед ним.
Бальрих за его спиной участливо спросил:
— Почему она не приняла от тебя деньги?
Мальчик поднялся, он потупил глаза:
— Потому что она боялась за меня. Ведь я похитил эти деньги, и она сказала, чтобы я их вернул. Но я знаю настоящую причину… — Он посмотрел на Бальриха и с неприязнью продолжал — Она боялась за тебя… А я? Какое ей дело до меня! И она поцеловала меня, чтобы я передал этот поцелуй тебе. Но ты не получишь его. Я сохраню его для себя, чтобы не потерять желания умереть.
Он стремительно отвернулся. Бальрих снова повернул его к себе.
— Что ты плетешь?
Мальчик скривил губы в горькой старческой гримасе:
— Ты, вероятно, думаешь, что все это пройдет и я со временем забуду ее. Каким же подлецом и трусом ты считаешь меня? Сам-то ты мог бы забыть о том, что является целью и смыслом твоей жизни?
Бальрих молчал. Ганс Бук порывисто протянул ему руку:
— Она отвергла меня. Теперь я твой — до конца! Ты еще увидишь, на что я способен. — Он выглянул за дверь: не подслушивают ли их. — Ты не выйдешь из этой комнаты, Карл; здесь тебя никто не найдет. Я тебя спрячу. Я поведу их по ложному следу. Пусть твои люди опять сплотятся, как в те дни, когда они так дружно хранили тайну и Геслинг боялся показаться на фабрике.
— Ему и теперь есть чего бояться, — заметил Бальрих.
Ганс Бук покачал головой:
— Сейчас он пойдет на все, у него нет другого выхода. Все готовы на всё, и ты, и я. Теперь без насилия не обойтись. Пусть я поплачусь жизнью…
Он был бледен; на лице появилось торжественное выражение. Потом он овладел собой и со своей обычной живостью сказал:
— Предоставь все мне. Я буду сообщать тебе о ходе дела и передавать твои указания. Общаться ты будешь только со мной. Один я могу проникать всюду, и никто не заметит меня.
Он шепнул еще что-то на прощанье, насторожился и выскользнул из комнаты.
На столе перед Бальрихом лежали книги, по привычке он потянулся к ним; но сердце его взволнованно стучало. Вот куда он привел своих товарищей путями, которые должны будут завершиться неизмеримо большим, чем то, к чему он стремился; привел, сам того не ведая. А теперь он даже не может быть с ними. Призывать к бунту и потом смотреть, как твой призыв приводится в исполнение, — вот роль вожака. «Но я больше не вожак, я был им в прошлом. Сейчас мне хочется только одного — нанести решительный удар и перевернуть все вверх дном, — а ради какой цели? Да никакой!»
Он притаился за оконной занавеской. «Вы боретесь за жалкие гроши, и это возмездие. Как дороги вы были мне когда-то, и вот все, что осталось. Высокой была моя миссия, а в результате гроши».
И он видел из своего убежища, как борются его товарищи. С каждым днем бороться становилось все тяжелее. Напротив, на стене одного из корпусов висело обращение дирекции к бастующим. Издали выделялось слово «вымогательство», напечатанное крупными буквами. Рабочие стояли перед объявлением. В первые дни они смеялись над ним. Перед фабрикой ходили пикеты; рабочих арестовывали за то, что они подговаривали штрейкбрехеров не работать — это считалось преступлением, им приходилось действовать тайком, между тем как господа — Геслинг и генерал фон Попп — в открытую, прямо на улице держали военный совет. Геслинг и его приспешники ходили по так называемым «виллам» для рабочих, где жили сейчас штрейкбрехеры, и приносили им подарки. Но стоило только появиться в таком доме двум бастующим, и их приход карался как нарушение неприкосновенности жилища. Суды были завалены делами, и судьи рассуждали так: что делаешь, делай скорей. Рабочий, имевший судимость, стащил колбасу. Ему дают полтора года тюремного заключения. За несколько кусочков угля, которые женщина окоченевшими руками завернула в свой передник, — полгода тюрьмы.
Эти женщины с землистыми лицами плелись мимо его окна, таща за руку детей с ввалившимися глазами. Прошло меньше месяца, но нигде уже не было слышно мужского смеха. Читая развешенные по стенам грозные приказы дирекции, рабочие плевались, предварительно убедившись, что поблизости нет полицейского. Голодай, но будь тверд! Голодай, но отстаивай свое право. Геслинг же на вилле «Вершина» пировал, угощая генерала. За этим занятием дни шли незаметно. А тем временем на фабрике устанавливали новые машины такого образца, которых еще никто не видел. В особом сарае, на самом дальнем дворе, стояли они, как некая тайна, как новая опасность, о которой шептались по углам и которая вызывала беспокойство.
Когда рабочие совсем измотались, явился Наполеон Фишер и предложил свое посредничество. Он советовал принять предложение Геслинга — тридцать марок без тарифа. Это, мол, справедливо, — говорил он. Партия отказывается субсидировать стачку в угоду безответственным смутьянам. Он имеет в виду вполне определенное лицо. Где этот человек? Куда он запрятался? Однако этого Наполеону так и не удалось узнать. Впервые за время его парламентской карьеры избиратели гнали его в три шеи. Он ушел, убежденный в правильности своего предложения, причем в глубине души рабочие соглашались с ним. Тридцать марок минимальной оплаты — это было больше прежнего. Но перед тем их еще обманули с прибылями, люди были озлоблены, они испытали насилие и голод. Произошло и нечто большее: один раз в жизни мы подняли головы, поверили, что близок день справедливости, что он скоро наступит для нас и для наших детей. Дни богатых уже сочтены, и все то, что они выжали из нас в течение долгих лет, теперь будет нашим, мы сами будем теперь богаты; в просторных залах мы будем все вместе есть сытную пищу, и наши машины будут работать на нас. Мы поверили, что и на нашу долю выпадет счастье, и вот оно приближается. А теперь расплачивайтесь за свою мечту, обездоленные!
Карл Бальрих, чье сердце билось в унисон с сердцами всех его товарищей, думал: «Мы расплачиваемся нашей беспросветной жизнью, нашим бунтом, а если так будет угодно богу, то и нашей гибелью. Окруженные врагами, с каждым часом все больше теснимые, готовые начать с ними борьбу, вступить в смертельную схватку, — вот как мы живем. Пришлые штрейкбрехеры идут сомкнутым строем, они вооружены дубинками и хотят сломить нас. Купленные за предательскую мзду, они глумятся над нами и швыряют черствыми корками в наших голодных жен».
И вот однажды вечером механик Польстер становится в воротах фабрики, штрейкбрехеры должны пройти мимо него.
— Мерзавцы! — говорит он громко. Никого нет поблизости, лишь несколько женщин, от слабости прислонившихся к стене, да дети, которые держатся за материнскую юбку. Что ему вздумалось — этому столь невозмутимому человеку? Стиснув кулаки, он дает им подойти поближе, словно так и надо. Он — под защитой своих прав. И вот он стоит спокойно, этот степенный человек, он крепко уперся ногами в землю, так же твердо стоял он и в жизни, которая была сурова. Одежда с недавних пор висит на нем, лицо осунулось и посерело.
— Мерзавцы!
И вот они бросаются на него, сбивают шапку. Польстер молотит их кулаками, но они наваливаются на него, и он исчезает под грудой их тел. Когда они отступают, он лежит распростертый на земле, в груди — нож, из горла вырывается предсмертный хрип.
Бальрих распахнул окно, он хочет крикнуть, позвать на помощь, но чьи-то руки обхватили его и тянут назад. Он захлопывает окно. Перед ним стоит Ганс:
— Тебя видели! Беги!
Бальрих колеблется, но мальчик не отстает:
— Не успеет наступить ночь, как они придут и схватят тебя. Но сегодня начнется… Ты видишь сам — это продолжаться дальше не может. Или ты хочешь удержать своих товарищей, чтобы они так никогда и не выступили?
Мальчик сует ему в руки шапку и выглядывает за дверь. Никого. Все внизу, возле тела убитого. Бальрих встал, и оба вышли из комнаты.
— Ты знаешь куда, — весь дрожа, прошептал Ганс.
Так исчез Бальрих, он поспешил перейти луговину, и вечерние сумерки скрыли его.
Выбравшись на шоссе, он перебегал от куста к кусту, а войдя в город, стал петлять по самым глухим улицам и, наконец, подкрался к дому, где жила Лени… Она сама открыла ему дверь и без единого слова увлекла его в дальнюю комнату. Здесь, указав на окно, она сказала:
— Внизу двор. Ты сможешь спрыгнуть на крышу прачечной и оттуда перемахнуть через ограду — Быстро проговорив это, она обернулась к нему, как будто он только что появился — И все-таки ты пришел!.. — И вдруг отшатнулась — Ты поседел!
Лени упала на стул.
— Карл, родной мой! — прошептала она, прикрывая рот рукой. — Что с тобой случилось?
— Они уже были здесь? — спросил он.
Лени кивнула.
— Все равно я должен был тебя повидать.
— Я знала! Я ждала тебя… Но прежде всего ты должен непременно поесть. — Она вскочила. И, уже сидя за столом против него, сказала: — Все это время я так боялась за тебя! Но теперь спокойна. Пока мы вместе, мне все равно.
Когда он поел, она пододвинула свой стул и прижалась к его плечу.
— Помнишь, детьми мы взбирались на опрокинутую бочку. Мы играли, что это наш дом, и кто-то вот-вот выйдет из лесу и утащит нас. Мне было ужасно страшно, но ты был такой смелый, и я надеялась на тебя. — Лицо ее стало серьезным, как у женщины, уже познавшей жизнь. — Теперь мы опять играем в ту же игру. Страшный разбойник вот-вот выбежит из лесу и похитит меня, или, может быть, уже похитил. Но ты не можешь меня спасти, потому что тебя схватят.
— Нет, меня не схватят!
— Как ты хорош, когда так говоришь. Ты лучшее, что есть во мне. Я, должно быть, никогда больше не полюблю; одного тебя я буду любить всегда, чем бы я ни кончила.
Вдруг Бальрих увидел стоявший посреди комнаты раскрытый чемодан.
— Тебя высылают! Тебе грозит опасность! И все из-за меня!
— А ты? Ты ведь тоже страдаешь из-за меня, — торжественно сказала Лени.
Оба замолчали… Вдруг она вздрогнула, насторожилась, мигом выключила свет.
— Они опять здесь, — и побежала вместе с ним в самую дальнюю комнату.
— Уходи отсюда! — И в лихорадочной дрожи последней минуты добавила — Беги! Но богачи проворнее нас, и я попаду в тюрьму по их милости. Я становлюсь все хуже из-за них. Но хоть ты не забывай, кто я. — Она обвила его шею руками — Я же твоя сестра!.. Скорей, они уже звонят…
Лени бросается к выходу. В последний раз мелькнуло ее лицо, и дверь захлопнулась. Вот он еще видит ее, еще, еще — и вот она уже исчезла.
Он выпрыгнул в окно, перелез через ограду и темными садами выбрался на окраину. Из казармы у городских ворот выступил отряд — Бальрих знал, куда они идут, и пропустил его вперед, а сам поспешил в Бейтендорф. Вдали пылало зарево пожара, в Бейтендорфе звонили в набат. Он свернул, и пожар оказался сбоку. «Если идти на него, то куда я попаду?» Бальрих быстро сообразил куда и со всех ног помчался на зарево. В свете все разгоравшегося пламени он увидел что-то, издали похожее на шагающую ветряную мельницу. Оказалось, что Клинкорум, воздев руки к небу, мечется вокруг своего пылающего дома. Когда Бальрих внезапно вынырнул из-за нового корпуса, кто-то прошмыгнул мимо, точно заяц. В ту же минуту обрушился горящий балкон, и при вспышке пламени Бальрих узнал, кто этот «заяц»: предатель, вор, шпион и поджигатель Яунер.
— Смотрите, как удирает! — крикнул Бальрих Динклям; они сидели на своих спасенных пожитках возле канавы и, уставившись на пожар, даже не обернулись на его голос. Но старик Геллерт, ничего не успевший вынести из огня, кроме бутылки, угрожающе размахивал ею.
— Никто не убегает! Как хотите, а никто не думал убегать! — кричал он.
Бальрих отвернулся от пьяного и сказал подбежавшему растерянному Клинкоруму:
— Геслингу пожар очень на руку. Теперь ему не надо платить вам… и потом письмо… Он воображает, что там сгорит письмо, которое лишит его богатства.
— А разве оно не там? — удивился Геллерт, вдруг протрезвев.
— Будь уж мерзавцем до конца, — упавшим голосом пробормотал Клинкорум, — и ты можешь сделать то, чего не сделает даже святой дух.
Ломая руки, он вновь побрел куда-то, а Геллерт крикнул ему вслед:
— Геслинг не человек, а золото! Он купит все, что от вас останется, он купит даже нас, никому не нужный сброд!
Уходя, Бальрих успел заметить злорадную усмешку, с какой Геллерт поглядывал на догоравшее пожарище.
По пути к вилле «Вершина» Бальрих слышал топот идущих людей, и ему казалось, что это шагает его неистово бьющееся сердце. От топота гудела дорога, это был и его путь, единственный и последний. Туда! Мрак сгустился. Он видит разъяренную толпу, вот она рванулась вперед, словно занесенная для удара рука, словно задушенный вопль: толпа бедных. И Бальрих исчез в ней.
Рабочих были тысячи; позади осталось их нищенское жилье, эти тюрьмы, откуда они убежали, и город с властителями, которые старались их схватить; а властителей защищали солдаты.
Рабочих были тысячи, и все же это был как бы единый порыв бури. Они мчались на приступ, словно выброшенные штормом на неведомую землю, без конца и края простиравшуюся перед ними во мгле, где такие же, как они — их неизвестные братья, — в этот же час, быть может, штурмовали такую же виллу «Вершина», которая все равно останется недосягаемой. Никогда нам не войти в нее, никогда ей не быть нашей! И все-таки мы идем на нее приступом, ибо в атаке мы едины, для нас не существует ничего, кроме атаки, — ни того, что было раньше, ни того, что будет потом.
Стой! Вот она, вилла «Вершина»! Мы чуть не пронеслись мимо. Открыть ворота! Мы больше не можем ждать! Мы ждали слишком долго! Что нам ограда! Мы разбиваемся об нее в кровь, напарываемся на острия решетки, соскакиваем в сад, топчем клумбы. Ой! Стреляют! Пули летят вокруг нас, впиваются в землю. Мы бросаемся врассыпную. И вот уже по одному, ощупью, мы ползем, мчимся вперед, только вперед! Ой! Стреляют! И с дороги — тоже. Мы между двух огней. Мужество — в нем одном наше спасение. Назад! Ворота распахнуты. Врезаться в ряды солдат, биться, колоть, кусаться! В темноте они не разберут — мы ли это, они ли. Они кричат: «Дайте свет!» Но когда над воротами вспыхивает дуговой фонарь, мы уже прорвались, мы далеко, кроме тех, кто остался лежать, сраженный. Но там полегли и солдаты. Пулемет в саду богачей не делал различия между нами и ими.
Отряд выравнивал свои ряды. С опушки леса доносился яростный рев. Отдельные рабочие еще выбегали из-за сосен, они не хотели верить, что дело проиграно. Брань и угрозы оглашали воздух, кто-то выстрелил. Солдаты взяли на прицел. Бежать! Но вдруг в свете прожектора появилась фигура словно одичавшего человека с обнаженной грудью, в очках; он тащил какого-то коротышку, а тот кричал и отбивался, стараясь вырваться. Гологрудый взмахнул руками, и коротышка полетел прямо под выстрелы. Отряд дал залп. В куцего человечка попала пуля, но, уже падая на колени, он забился, задергался и успел крикнуть:
— Не надо стрелять! Я не виноват!
Потом упал на живот, стал скрести пыль ногами и руками и умер. Это был предатель Яунер.
В лесу закричали:
— Молодец, Гербесдерфер!
И, спотыкаясь, рассыпались между деревьями. Бальрих — с ними. Но вдруг, обессиленный, свалился в овраг, рядом с другим, почти на него. Другой застонал, и по стонам Бальрих тут же узнал Ганса.
— Это ты, мальчик? — Бальрих зажег спичку. — Ты шел вместе с нами? Ты весь в крови… — Но, увидев, что Ганс без сознания, пробормотал — За нас кровь проливаешь, а я невредим.
Он взвалил его на спину и стал выбираться из оврага, обходя стволы, чтобы не ушибить его. Из окон виллы «Вершина» лился свет. Она стояла на холме, белая, заброшенная, оцепленная солдатами. «Я отнесу его туда, — решил Бальрих, — пусть меня арестуют». Но не успел он выйти из леса, как Ганс очнулся.
— Что ты делаешь? Беги отсюда! — И подросток из последних сил так оттянул назад голову Бальриху, что чуть не свихнул ему шею. — К тебе! — потребовал Ганс. — В твой корпус!
Но тут рабочий споткнулся, и Ганс снова потерял сознание.
Бальрих покорился и пошел в обход домой. Это заняло половину ночи. Лес, дорога — все было оцеплено войсками, кроме рабочих корпусов. Да и кого им там искать? Никто еще не возвращался; даже ворота стояли настежь. Бальрих бережно опустил мальчика на свою койку и стал перед ним, сложив руки. «Настоящий герой, — думал он. — Кто заставлял его идти с нами, и что ему за дело до нас?.. Так вот каковы они, истинные герои! А нам, бедным, даже это не дано».
И вот он стоял, глядя на мальчика, как будто сам не тащил его на руках чуть не всю ночь и не уложил на эту постель. Он долго смотрел на него из-под сдвинутых бровей и вдруг, опомнившись, кинулся перевязывать. Покончив с перевязкой, Бальрих, глядя перед собой, сказал:
— Семнадцать лет, богат, а идет с нами, бедными, с нами, кому ничего не осталось, кроме отчаяния.
Мальчик, не открывая глаз, слабым голосом спросил:
— Отчаяния? Разве ты не был счастлив, Карл?
Бальрих отвечал:
— Да, как может быть счастлив самоубийца в час избавления, после долгих страданий.
Юный богач улыбался, не размыкая век.
— Это было прекрасно, точно праздник. И как светло! И эта арка в розах! Победа! — бормотал он в бреду. — И мы плывем по небу!
А Бальрих в ответ:
— Нет, тяжела наша жизнь на земле, и мы знаем, что лечь в эту землю — цель нашего пути.
— Все принадлежит нам — свобода, счастье!
— Пустые слова, — ответил Бальрих. — Кто верит им?
Богач открыл глаза. Их горячечный, восторженный блеск вдруг затуманился печалью:
— Вы не верите в счастье даже в такую ночь?
— Пиршество богов не для нас.
— Зачем же вы тогда бунтовали?
— А ты? — спросил Бальрих. Он стоял перед Гансом, укоризненно глядя на него. — Ты уже забыл?
Разгоряченное лицо мальчика побледнело, и он в ужасе прошептал:
— Лени! Я хотел умереть за нее! Как я мог забыть о ней? — Обняв Бальриха, скорбно склонившегося над ним, и прижавшись к его груди, Ганс разрыдался — Какие мы несчастные, — промолвил он.
Сейчас их ничто не разделяло, и они предались своему горю.
Утро едва забрезжило, когда Ганс в испуге очнулся.
— Беги! Тебя будут искать!
Бальрих равнодушно махнул рукой.
— Куда? Бесполезно.
— Там, в моем пиджаке, деньги. Возьми…
Ганс запнулся. Гримаса на лице друга напомнила ему, что это были за деньги.
— Отдай их отцу. Твой отец тебе друг. — И, увидев, что губы мальчика задрожали, Бальрих спросил: — Ты разве не хочешь домой?
Ганс опустил голову, ему было стыдно признаться в этом желании. Все же он позволил Бальриху одеть себя.
— Пошли кого-нибудь узнать, — шепнул он ему на ухо. — Солдаты, наверно, уже ушли, а Геслинг еще не вернулся.
— Разве его не было? Не было там, в эту ночь! — Бальрих расхохотался. — Нам-то, мятежникам, следовало бы это знать!
— Он хитрый, — протянул мальчик, — если встретишься с ним, берегись!
— А теперь он вернется? Ну, что ж, пойду. Твои родные придут за тобой. Прощай, мой милый мальчик, поправляйся и будь здоров!
— И ты будь здоров, — сказал Ганс Бук серьезно и задумчиво.
Они обменялись крепким рукопожатием, как мужчины, которые и без слов понимают друг друга.
Бальрих послал какого-то парнишку к отцу раненого, Ганса, а сам отправился на пожарище. Над развалинами еще курился дым; Бальрих посмотрел кругом. В этих развалинах, в этом запустении, казалось, еще жила ночь мятежа. Забастовщики попрятались, скрылись и Динкли, и лишь Клинкорум все еще стоял над своим погибшим добром, бормоча и размахивая руками, как мельница крыльями. Бальрих прошел мимо, выискивая среди придорожных деревьев такое, на котором мог бы спрятаться.
Взбираясь на дерево, он тотчас узнал его. Вот и сук, на котором он когда-то хотел повеситься. Все это началось здесь, и события опять привели его сюда. А эти два момента отделяли один от другого борьба, испытания, падение и восстание, схватка не на жизнь, а на смерть, продолжавшаяся до столь печального конца. Ты уже тогда предвидел его, бедняк, предвидел свою гибель. Если бы ты все-таки ушел из жизни еще тогда! Теперь это слишком трудно; все, что ты выстрадал с тех пор, бунтует в тебе и противится самоубийству. Если умирать, так умирать в бою, и пусть враг погибнет вместе с тобою!
Он посмотрел на оголенные ветви. Тогда вершины покачивались на ветру, изливая теплый аромат своих цветов.
«Я уж не услышу их благоухания, — сказал себе Бальрих с горечью. — Солнце уже не будет греть меня своим теплом, я уже никогда не испытаю сытости, никогда не буду любить женщину».
Здесь, у последней черты, всего острее вспомнились ему физические ощущения. «Брось все, беги отсюда, спасайся, живи!»
Вдруг послышались шаги.
Далеко внизу, между последними деревьями, показался Геслинг. Он был один. Бальрих приготовился, проверил револьвер. «Внимание! Мужайся! Именно этот человек, и никто другой, стоял на твоем пути. Это он хотел обречь тебя на голод, засадить в сумасшедший дом. Он хотел выставить тебя перед людьми вымогателем и вором, арестовать, утопить в позоре! Но я здесь, внимание, я здесь!» И он прицелился. Но Геслинг исчез.
Он, наверное, стоит вон за тем деревом! Бальрих соскочил на землю. Вытянув руку с револьвером, он ринулся вперед. И вдруг как бы прирос к месту. Он решил, что наткнулся на дерево, бросился в сторону, хотел бежать вперед. Но вдруг понял, что двое держат его с обеих сторон. Третий вырвал у него оружие. Теперь он понял: за каждым деревом стоял человек. Это было как во сне. Вдали показались еще какие-то фигуры, и только когда он очутился в кольце вооруженных людей в штатском и с мерзкими физиономиями, Геслинг вышел из своей засады.
Куда девались его дряблые, отвисшие щеки, мутный взгляд? По-прежнему исполненный надменности и силы, прошествовал главный директор между шпалерами своей охраны прямо навстречу обезвреженному врагу. Вот он, этот человек, который лишил его сна, преследовал и довел до болезни, человек, в своем кощунственном дерзновении посягнувший на высшую святыню — собственность и власть. Вот он стоит, окруженный сыщиками, кисти его рук крепко зажаты в их руках, и тут уже не помогут насупленные брови, — можно подойти и плюнуть ему в лицо!
Но, пока победитель наслаждался своей победой, побежденный резко сказал:
— Прикажите вернуть мне револьвер! Я убью себя.
Взрыв смеха, мерзкие рожи ликуют.
— А еще кого? — насмешливо спросил главный директор.
— До вас мне больше дела нет! Только себя, — буркнул рабочий.
— Я считал вас умнее, — снисходительно заметил главный директор. — Увидеть, что я иду один, пешком, и вообразить, что все так и есть на самом деле. Теперь у вас по крайней мере целый эскорт.
Бальрих смерил его уничтожающим взглядом.
— Вы переоцениваете себя. Вашего сына вы так не охраняли, и я мог бы просто пристрелить его и за это поплатиться жизнью. — Он посмотрел на Геслинга в упор: — Вы на это рассчитывали.
Геслинг отпрянул. Он уже не казался таким самоуверенным; обвел взглядом своих телохранителей и открыл было рот, чтобы приказать им увести его жертву, по вдруг передумал.
— Хотите быть благоразумным? — спросил он, вплотную подойдя к Бальриху.
Побежденный ответил:
— То, что мною сделано, я считаю вполне благоразумным.
— Мне надо поговорить с этим человеком, — властно заявил директор. — Сначала наденьте на него наручники.
Его приказание было исполнено.
— Мне не о чем говорить с вами, пока вы не освободите мне руки.
Директор упорствовал. Тогда Бальрих снова обратился к нему:
— Зачем мне вас убивать? Вы и без выстрела все равно отправитесь туда же, куда и я.
— Напрасно вы мне угрожаете! — воскликнул главный директор. Но все же велел сыщикам на время снять наручники. Он даже отошел с Бальрихом в сторону, за развалины виллы Клинкорума.
Блюстители общественного порядка и спокойствия были изумлены, увидев, что главный директор Геслинг вступает в секретные переговоры с человеком, только что покушавшимся на его жизнь.
— Немедленно освободите меня! — потребовал Бальрих.
— Немедленно отдайте мне письмо! — потребовал в ответ директор.
— Значит, вы все-таки не уверены, что оно сгорело? — спросил Бальрих.
— Геллерт отрекся от него, — ответил вполголоса Геслинг, — он клянется, что знать не знает никакого письма. Я бы рекомендовал ему попридержать язык после его истории с маленькой Динкль. В свое время я перед его отъездом уплатил ему за это письмо сполна. Можете спокойно оставить его при себе.
— А рабочие? — спросил Бальрих. — Они же все знают с его слов, и вы их, господин хороший, надули на участии в ваших прибылях?
— Вы осмелились вымогать деньги у моего сына, — торопливым шепотом перебил его Геслинг.
— Само ваше существование, Геслинг, — сплошное вымогательство.
— Приберегите ваши фразы для ораторской трибуны! А вот покушение на убийство, милейший…
— Сколько народу хотели убить вы, когда подожгли дом Клинкорума?
У директора перехватило дыхание: из-за груды развалин своего пепелища вдруг показался Клинкорум, измазанный, оборванный, с бутылкой в руке. Величественной улыбкой приветствовал он гостей.
— Спас в шлюпке, — заявил он, указывая на бутылку. — Не угодно ли вам, господа?
Но так как никто не ответил, он сам сделал большой глоток.
— Гостеприимство и наука, — сказал он, переведя дух, — в этом была моя жизнь.
Он выпрямился, стараясь принять былую величественную осанку и предстать во всем своем великолепии, с торчащими прядями бороденки и выпяченным из-под расстегнутой фуфайки животом. Но покачнулся и задрожал. Все же, потрясая бутылкой, Клинкорум обратился к Геслингу.
— О вы, главный директор всех и вся! — с пафосом воскликнул он. — Вы показали себя! Я могу только благоговеть и преклоняться перед вами. Вы — порядок. Вы — сила. Вы — само величие. — Он низко поклонился, раскинув руки. Затем, исполненный сознания своей правоты, торжественно продолжал: — Презрения достоин этот бунтовщик! Мир только и может держаться на несправедливости и жестокости! Я готов дать показания против него!
Главный директор от удивления даже рот разинул. И Клинкорум не без иронии заглянул в него. Затем сделал еще глоток и только после этого как ни в чем не бывало заключил:
— Или хотя бы сохранить в тайне имя того, кто улепетывал, как заяц, когда горел мой дом.
Это заявление вполне удовлетворило главного директора. Впрочем, Клинкорум сейчас меньше всего интересовал его. А тот в изнеможении опустился на груду развалин, охваченный глубоким равнодушием ко всему, что происходит вокруг.
Директор опять вполголоса обратился к Бальриху: — Теперь вы поняли?
— Но вы нет, — ответил Бальрих. — Мертвый Яунер может сказать еще меньше, чем погорелец Клинкорум. Поэтому вы все еще обвиняемый…
— Чего вы, собственно, хотите? — хрипло взвизгнул главный директор. — Вам можно предъявить большой счет! Вымогательство! Бунт! Покушение на убийство!
— А на вашем счету, — тяжело дыша, бросил Бальрих, — грабеж! Обман! Поджог!
— А разве эти два счета не покрывают друг друга? — вставил кто-то.
Оказалось — адвокат Бук. Никто не заметил, как он подошел. Машина ждала на улице.
— Я уже забрал сына, — сказал он Бальриху и, обратившись к Геслингу: — Гансу жестоко досталось прошлой ночью… Мне послышалось, что вы, господа, ведете здесь переговоры. Я могу предложить свои услуги.
— В них нет ни малейшей нужды, — оборвал его главный директор и грозно обернулся к своей охране. — Мой последний ответ — наручники!
Но Бук неожиданным маневром остановил его.
— Ганс сидит в машине, — сказал он тихо, но твердо. — От полученной раны у него жар, он бредит… бредит о каком-то сговоре между тобой и твоими сыновьями, который якобы происходил ночью перед несгораемым шкафом… — Геслинг вздрогнул. — И этот сговор якобы был скреплен клятвой, — клятвой найти какое-то письмо, даже ценой пожара и дымящихся развалин…
Главный директор был взбешен.
— Я сотру вас с лица земли, — гремел он, задыхаясь. — Я выброшу вас на улицу!
Но, вдруг присмирев, снова принялся за Бальриха.
— Чего вы еще хотите? — спросил он уже деловым тоном. — Ваше покушение на убийство даже я при всем желании не смог бы вычеркнуть из вашей жизни.
— А я за поджог упеку вас на каторгу, — не менее деловито возразил враг.
Главный директор стал вдруг как-то оседать. Его зять, адвокат Бук, раскрыл объятия, чтобы поддержать его. Геслинг едва внятно выдохнул:
— Что для вас каторга! А вот для меня…
— Вы, господа, слишком далеко зашли, — заметил адвокат. — Убежденные в своем праве на победу, соперничая друг с другом, вы прибегали ко все более сомнительным способам борьбы, — и вот вы здесь.
— Теперь он у меня в руках! — уверенно заявил Бальрих, сделав решительный жест.
— Нет, это он у меня в руках. — И Геслинг повторил его жест.
— В таком случае, господа, вам остается только одно — обменяться тем, что у вас есть, — посоветовал адвокат.
Но враги не сдавались.
— Я знаю про вас еще больше, — грозил Бальрих.
— А я сильнее вас, — утверждал директор.
— Освободите меня, — опять потребовал Бальрих, — иначе и вам придется последовать за мною.
— Это невозможно! — взревел главный директор. — Освободить вас, отпустить на все четыре стороны со всем, что вы знаете, с вашим письмом, с вашими кознями против меня? Нет, лучше сразу на каторгу!.. Оставайтесь здесь и пикнуть не смейте — тогда посмотрим.
— Лучше на каторгу! — сказал Бальрих.
Тут главный директор прибегнул к помощи зятя.
— Я обещаю тебе… — настойчиво продолжал он. — Уговори его! Пусть останется здесь, подле меня, в Гаузенфельде. В своей казарме он может жить по-прежнему, как рабочий, и снова работать на фабрике, у меня на глазах. Иначе я ни одного часа не буду спокоен за свою жизнь. Уговори его!
Бук подумал с минуту, потом, переваливаясь, направился к Бальриху, взял его под руку, стал прохаживаться с ним взад и вперед и начал переговоры. А Геслинг тем временем сидел на развалинах против Клинкорума.
Бальрих слушал, ему хотелось заткнуть уши, и все-таки он не мог не задуматься над тем, что нашептывал ему этот дружественный и неумолимый голос. Уже в голову закрадывалась мысль — не пора ли кончить борьбу и не лучше ли смириться… Но, значит, все было напрасно — и знания, добытые с таким трудом, и силы, растраченные впустую! Вернуться туда, где ты начал! Возможно ли это?
— Да, — сказал Бук. — Вы сами больше не надеетесь победить ваших врагов — богачей. Вам остается только зарабатывать деньги и преуспевать, служа им в качестве сообщника, пособника… — Бук пошевелил пальцами, указывая на что-то, быть может на собственную грудь, — и предателя, — закончил он.
— И всегда в роли побежденного, — возразил Бальрих, — прозябать до своего смертного часа…
Но Бук перебил его, быстро переменив свои позиции в пользу главного директора:
— Власть — это нечто большее, чем дело рук человеческих; это извечный отпор каждому нашему чувству, вздоху, стремлению. Это та сила, которая гонит нас вспять, тот зверь, каким мы некогда были. Это — сама земля, к которой мы прикованы. Наши предки иногда освобождались от нее, и наши потомки некогда сбросят с себя ее оковы. Но мы — нынешнее поколение — нет. Давайте смиримся.
И вот Бальрих вернулся в свой корпус. Для этого достаточно было только пересечь луговину.
Вновь стоит у машины рабочий Бальрих, опять он ест хлеб Геслинга, чтобы быть сильным для Геслинга. В шестом часу, подняв воротник, бежит он по словно озябшему серому шоссе, и сотни товарищей молча спешат рядом с ним. Топот спереди, топот позади, топот отдается в тебе самом, однообразный, как стук машин. Вконец измученный, возвращаешься вечером в свою комнату. Подумать бы, вспомнить, понять! Но, как и раньше, шум огромной казармы заглушает мысли; и кажется, что так даже лучше… Хорошо — уснуть, хорошо — отдаться покою. Уже не работать головой, ведь химеры разъедают мозг. Только трудом наших рук заглушаем мы сознание жестокого смысла нашей жизни. Он кажется нам менее ужасным. Рабочий Бальрих женился на девушке Тильде, взял ее к себе с ребенком и с матерью и кормил их всех.
Теперь он снова стал проводить вечера с товарищами в закусочной, и рабочие, наконец, увидели, что он такой же, как и они, никто больше не сдерживался в его присутствии. И все-таки они отнеслись к нему без ненависти, без вражды. Напротив, он чувствовал, что теперь, когда все оказалось тщетным, они еще более благодарны ему, и подчас простое пожатие руки говорило ему о том, что теперь все в порядке. Мы любим друг друга, и предаем один другого, и боремся, и сдаемся, когда силы изменяют нам. Мы много пережили и многому научились, но постепенно снова забываем то, что осталось позади.
Когда крестили ребенка, Тильда ожидала уже второго. Бальрих говорил: «Мы пролетарии», — и только он один понимал весь горький смысл этих слов. Так как было воскресенье, он достал из ящика стола свои латинские книги, те немногие, которые уцелели во время пожара на вилле Клинкорума. Он посмотрел на них, сердце у него сжалось, и он твердо решил убрать их подальше и забыть. Пусть читает их тот, кому они дадут силы для победы над Геслингом. Ты все-таки попытался это сделать — мог по всей справедливости сказать себе Бальрих. Если бы ты читал их, как читал Клинкорум! Но ты читал их без пользы и себе на горе. Знание, не приносящее плодов, суетно и вредно. Бездействие духа более преступно, чем умерщвление зарождающейся жизни. Тот, кто мыслит, должен мыслить ради счастья людей.
Он смирился… Но вот однажды пришло письмо от Лени. Легкий аромат, каким повеяло от еще не вскрытого конверта, перевернул ему всю душу. Что сталось с нею? Ты виноват, ты покинул ее. Ради нее надо было не сдаваться, а бороться до конца… Но ей жилось хорошо, даже великолепно, как уверяла она. В Берлине она посещала театры и вращалась среди баронов и баронесс… Прошлое вдруг предстало перед ним. Да, борьба есть борьба. И от нужды избавишься только ценою крови. Не такой рисовалась мне ее судьба… Но весь этот блеск, писала она, не радует сердца, лишь только она вспоминает о своем милом Карле., Слова эти сразили его, точно придавила своей тяжестью вся его загубленная жизнь. Он чужой среди своей семьи, и все разбито. Не видимый никем, он плакал, пока близкие не нашли его.
Письмо Лени он спрятал. Как-то, перечитывая его, он опять наткнулся в нем на выражения, смысл которых был ему не вполне понятен. За ними, видимо, таился тот же неведомый ему мир, как и в изысканных разговорах актеров тогда, в театре «Аполло». Она называла виллу «Вершина» — «провинцией». А ведь когда-то его высшей мечтой было — подарить эту виллу Лени. Как же назвала бы она теперь его самого? «Что ж, у каждого своя жизнь, — подумал Бальрих, — у нее — своя, а это сейчас — моя жизнь». С грубоватой прямотой он написал ей, чтобы она откладывала деньги на черный день, ведь веселой жизни тоже когда-нибудь настанет конец.
Но она так и не ответила на это письмо. А он считал недели: вот прошло три, вот уже шесть недель. Что ж, все идет своим чередом. Она там, вдали от него, будет подниматься все выше, а ты здесь, день за днем, отстаешь и опускаешься все ниже. И все меньше будем мы помнить друг о друге. Пятьдесят лет, быть может, дано нам прожить — достаточный срок, чтобы забыть о том, как ты нес ее на руках, среди пыли, в тот день, когда она плясала вокруг всего света. Вот видишь — ты больше не плачешь.
Вяло потекла жизнь. Борьбу, которая кончилась твоим поражением, ты не забыл и вызываешь вновь ее картины среди мирной тишины наступившего лета. Она еще здесь, в воздухе чувствуется какая-то скрытая тревога. То, что казалось таким отдаленным, вдруг придвигается к тебе вплотную, и ты содрогаешься от ужаса, словно у тебя отнимают жену и детей. Россия! — вот он враг, Франция! Англия! — вот они враги! Кто сейчас думает о Геслинге? До него мы не сумели добраться, так двинемся же вместе с ним на тех, кто на нас напал. Оттуда нам улыбается победа! Война нужна, чтобы мы, бедные, наконец вырвали у жизни то счастье, какое не смогла нам дать никакая борьба. Геслинг выплачивает восемьдесят процентов заработка семьям призванных в армию. Какие там пролетарии, какие буржуа — Отечество, вот что теперь на первом месте. Главный директор давно уже предвосхитил события. Он заблаговременно установил нужные машины. Теперь они работают на оборону.
Бальрих, Динкль и прочие были призваны в числе первых. Великий день свершения настал. Мы выступили. Все взоры были обращены на нас, мы шагали по украшенным флагами улицам; за нами следовали походные кухни; матери несли цветы или колбасы; маленький красный кулачок сестры сжимал ручку нашего сундучка, концом фартука утирала она слезы. А мы пели. Мы пели, и на шлемах у нас пестрели венки. И, когда из-за угла выходил наш полковой оркестр, все окна на улицу распахивались настежь. Машины останавливались и пропускали нас вперед. Вокзал тоже был украшен флагами и венками. Увидим ли мы еще когда-нибудь тех, кто здесь ищет нас? Но где же Тильда?
Вагоны нас ждут. Проезд бесплатный! И юный Ганс тоже здесь, его ясные глаза широко раскрыты, он записался добровольцем и приедет позднее:
— Париж можете брать без меня, а Лондон — не смейте; пожалуйста, подождите меня!
Динкль острит, как обычно, и тянется за второй чашкой бесплатного бульона, который раздает дама-патронесса.
А Тильды все нет. Какая давка! Если не взяться под руки, еще навсегда потеряешь друг друга. Груды багажа навалены вдоль вагонов — «без гарантии за доставку». Из поездов несутся крики: «Господин лейтенант, похлопочите, чтобы дали отправление! Ох, и всыпем же мы этим негодяям!»
Сейчас нас отправляют, смех и слезы, бравада и сердечная тоска; паровозные свистки; медленно отходит первый поезд. Кто-то уже лежит под колесами вагона — «без гарантии»! И даже весь этот хаос рождает подъем, даже горе воодушевляет. Но куда провалилась Тильда?
На мешке сидит старушка. Она одета бедно, но опрятно; ее согнутая спина похожа на гриб. Она ломает руки;
— Я так и не видела его!
Бальрих знает кого! Гербесдерфера. С ним порешили сразу. Ни одного шпиона не бросит он больше под дула ружей… Бальрих протягивает руку сестре.
— Прощай, Малли!
Но Тильда? Где его дитя и Тильда?.. И вот с подножки вагона он заметил свою жену, а она его. Он уже смертельно побледнел, — таким она увидела мужа. Под коричневым платком осунувшееся, посеревшее лицо, на руках — ребенок, и рядом с его белокурой головкой — ее запыленные волосы; стареющая работница, вот какой он видит ее. Он машет ей рукой. Остается едва ли полминуты.
Вот она, оберегая огромный живот, спеша и задыхаясь, проталкивается к мужу. Он машет ей снова; последние полминуты на исходе, а в груди теснится еще многое, что надо бы сказать: «Я недостаточно любил ее, недостаточно любил нашу бедность, нашу простую жизнь и людей, которые могут быть и хорошими и дурными. Но почему так черствы, так безжалостно алчны те, кто сидит наверху, а по их вине и те, что внизу — и худшие и даже лучшие из нас?» Он чувствует, что истекают последние полминуты, а упущена целая жизнь, как бы яростно он ни боролся, — та истинная жизнь, которая есть разум и добро. Все наши помыслы были направлены на борьбу, мы искали ее, мы жили борьбой еще задолго до этого дня, когда вступаем в войну. В нас разжигали вражду, и вот мы нашли врагов. Я отдал дань своему времени и теперь искупаю его вину.
Их руки встретились. Колеса медленно и неотвратимо сделали первый оборот. Он целует ребенка, в тесном пожатии сомкнулись две жестких руки; прошла секунда, еще одна. Он порывисто наклоняется к Тильде:
— Когда я вернусь, жизнь станет лучше…
Задыхаясь, бежит она за ним, ужас всей жизни отражается на ее лице, и она безутешно повторяет;
— Когда ты вернешься…
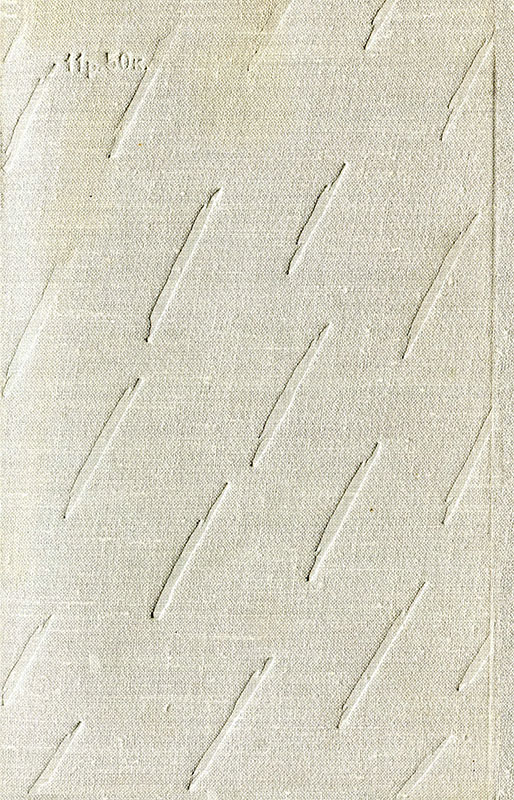
Примечания
1
Искаженное sauve qui pent (франц.) — спасайся кто может.
(обратно)2
Выскочки (франц.).
(обратно)3
Что вы! (франц.).
(обратно)4
Я вас (лат.).
(обратно)5
Вот! (франц.).
(обратно)6
Последний довод (лат.).
(обратно)Комментарии
1
Перевод И. Горкиной под редакцией Р. Розенталь.
(обратно)2
Роман «Верноподданный» — первая часть трилогии Генриха Манна «Империя» — вышел в свет в 1918 году.
(обратно)3
Голландер — машина для измельчения сырья до тончайших волокон, составляющих бумажную массу, из которой производится бумага.
(обратно)4
Слова популярной немецкой народной песни.
(обратно)5
В войне 1866 года Пруссия (в союзе с Италией) нанесла поражение Австрии, а в войне 1870–1871 годов — Франции. В результате этих войн была создана Германская империя. Бранденбургские ворота — триумфальная арка в Берлине, увенчанная статуей богини победы Виктории.
(обратно)6
Штеккер Адольф (1835–1909) — реакционный религиозный и политический деятель, придворный проповедник императора Вильгельма II. Для борьбы с социал-демократией основал христианско-социалистическую партию.
(обратно)7
Тридцатилетняя война (1618–1648) — война между немецкими протестантскими и католическими князьями, закончившаяся Вестфальским миром 1648 года.
(обратно)8
Темпельгофское поле — в прошлом плац берлинского гарнизона. На нем весной и осенью проводились парады гвардии. Теперь — берлинский аэродром.
(обратно)9
Седан — французский город, под которым разыгралось большое сражение во время франко-прусской войны 1870–1871 годов. Битва закончилась капитуляцией французских войск во главе с Наполеоном III.
(обратно)10
Рихтер Эйген (1838–1906) — либеральный политический деятель, один из основателей и руководителей партии «свободомыслящих».
(обратно)11
Гервег (1817–1875) — немецкий поэт, певец революции 1848 года.
(обратно)12
Регирунгспрезидент — административный начальник округа в Пруссии и Баварии.
(обратно)13
«Железный год» — период франко-прусской войны 1870–1871 годов.
(обратно)14
Хаммураби — вавилонский царь, создатель большого государства древности, включившего в себя Ассирию и Месопотамию. Прославился своей деятельностью в области законодательства.
(обратно)15
Шерль Август — крупный берлинский издатель, издававший монархическую «Берлинер Локаль-анцейгер» и другие реакционные газеты и журналы.
(обратно)16
«Тихая ночь» — рождественская песня австрийского композитора, органиста и хормейстера Франца Грубера (1787–1863) на слова Иосифа Мора (1792–1842).
(обратно)17
«Готский альманах» — дипломатический и статистический ежегодник, издававшийся в городе Готе с 1763 года. Впоследствии в него была введена генеалогическая часть.
(обратно)18
Общество ветеранов войны.
(обратно)19
«Побочная дочь» — драма в стихах Гете, главная героиня которой Евгения является побочной дочерью герцога.
(обратно)20
Среди приводимых здесь изречений имеются подлинные высказывания Вильгельма II.
(обратно)21
Общества, ставившие своей задачей пропагандирование и распространение библии.
(обратно)22
Бедекер — известный издатель путеводителей.
(обратно)23
За страсть к путешествиям Вильгельма II называли «кайзером-путешественником» (райзе-кайзером). Он побывал в Риме несколько раз. Предлогом для одного из таких посещений послужила серебряная свадьба итальянской королевской четы.
(обратно)24
Квиринал — один из семи холмов, на которых расположен Рим. Здесь находилась королевская резиденция.
(обратно)25
Зекингенский трубач — герой одноименной эпической поэмы Иосифа Шеффеля (1826–1886).
(обратно)26
Марс-ла-Тур — деревня в северо-восточной Франции, под которой 16 августа 1870 года немецкие войска одержали победу над французской рейнской армией.
(обратно)27
Императрица Фридрих — Виктория-Адельгейда-Мария-Луиза (1840–1901), старшая дочь английской королевы Виктории, вдова императора Фридриха III (1831–1888), занимавшего германский престол в течение всего трех месяцев.
(обратно)28
Принц Уэльский — титул наследника британской короны. Здесь имеется в виду будущий король Эдуард VII.
(обратно)29
Романс, за автора которого выдавал себя Вильгельм II. В действительности этот романс был «написан» императором при участии Эйленберга и Куно фон Мольтке — лиц из его ближайшего окружения.
(обратно)30
Аллея Победы — улица в центре Берлина, где по распоряжению Вильгельма II были установлены памятники его предшественникам.
(обратно)31
Маркграф Оттон Могучий (912–973) — император так называемой «Священной римской империи».
(обратно)32
Обер-президент — административный начальник провинции в Пруссии.
(обратно)33
«Неделя» — берлинский иллюстрированный еженедельник, издававшийся Августом Шерлем.
(обратно)34
Военная песня протестантов. Слова и музыка к ней, как полагают, принадлежат Мартину Лютеру.
(обратно)35
Иена — немецкий город, около которого 14 октября 1806 года Наполеон нанес поражение прусской армии. В Тильвите (Восточная Пруссия) был заключен договор между Наполеоном I и Александром I, по которому территория Пруссии была урезана больше чем на половину.
(обратно)36
«Стража на Рейне» — немецкая милитаристская песня (слова Макса Шнекенбургера, 1819–1849, музыка Карла Вильгельма, 1815–1873). Получила широкое распространение с началом франко-прусской войны 1870–1871 годов.
(обратно)37
Слова прусского гимна.
(обратно)38
В замке Вильгельмсгеэ с 1870 по 1871 год проживал захваченный в плен немецкими войсками Наполеон Ш.
(обратно)39
Перевод Э. Грейнер под редакцией В. Станевич.
(обратно)40
Роман «Бедные» — вторая часть трилогии «Империя» — вышел в свет в 1917 году.
(обратно)41
Консистория — в Германии совещательная коллегия при католическом епископе.
(обратно)42
Тантьема — дополнительное вознаграждение, отчисляемое от прибыли, которое получают директора и члены правления капиталистических предприятий.
(обратно)43
Базельский конгресс — чрезвычайный конгресс II Интернационала в Базеле в 1912 году, посвященный вопросу борьбы против опасности войны.
(обратно)44
Один — в древнескандинавской мифологии верховное божество.
(обратно)45
Монте — подразумевается Монте-Карло, курортный город в Монако, где находится всемирно известный игорный дом.
(обратно)46
Слова немецкой народной песни.
(обратно)47
Пытаясь привлечь на свою сторону широкие массы, Катилина выдвинул демагогическую программу уничтожения долговых обязательств и конфискации имущества своих противников.
(обратно)48
Елена Прекрасная — дочь Зевса и Леды, жена спартанского царя Менелая, из-за которой, по преданию, началась Троянская война. Аякс Теламонид — греческий герой, в припадке безумия покончил самоубийством. Гектор — защитник Трои, убитый Ахиллом.
(обратно)