Романеска (fb2)
Тонино Бенаквиста Романеска
Памяти Елены и Иоланды
В былые времена эти влюбленные, пробродив всю ночь, бросали прощальный взгляд на еще дремлющий мир, словно были за него в ответе. Все в природе казалось им на своем месте. Фауна чувствовала себя как дома. Заря могла заниматься.
Сегодня же они наблюдают за наступлением темноты сквозь шторы, их тревожат окружающие звуки. Им нет никакого дела до состояния мира и до того, что с ним будет дальше, только собственное будущее заботит их.
Тогда они покидают постель, отваживаясь сделать несколько шагов по коридору мотеля. Один из них устраивается под навесом крыльца, другой — рядом с автоматом с ледяными кубиками, потому что сидеть рядом было бы для них слишком рискованно. Время от времени они совершают по очереди вылазки в город — Бейкерсфилд, Калифорния, — чтобы купить чего-нибудь поесть. Опасаясь, что их узнают, они пугаются каждого встречного взгляда и возвращаются в мотель без сил. С приходом ночи они борются с желанием нырнуть в наконец-то опустевший бассейн. Пока один спит, другой просматривает новости на телевизионных каналах. Вчера в шестичасовых новостях владелец французского ресторана «Мсье Пьер» отозвался о них как об идеальных работниках — не слишком общительных, однако не способных на насилие.
Сегодня ни свидетелей, ни антропометрических снимков, предоставленных французскими спецслужбами, ни отчетов о ходе следствия нет. Правда, радоваться тут нечему, если новости быстро устаревают, то закон и его служители никогда не ослабят хватку, у них есть сила, упорство, они всегда готовы привлечь любые средства. Как можно надеяться ускользнуть от них за рулем этой колымаги, которой скоро снова предстоит отправиться в путь, правда не по той дороге, по которой прежде было задумано двинуться.
Их путь лежит теперь только в одном направлении — к изумрудно-зеленому домику под красной крышей, стоящему на берегу реки Святого Лаврентия, в провинции Квебек, в самом устье, там, куда летом заплывают киты. Если беглецам удастся добраться до него, тогда они вновь заживут прежней жизнью, будут греться у открытого огня, брать воду из реки. А когда все вокруг покроется льдом, они впадут в спячку, свернувшись калачиком, как два медведя, и будут ждать пробуждения весны.
*
Они мчатся по белым песчаным равнинам, проезжают сквозь пальмовые коридоры и электрические бульвары Лас-Вегаса, минуют желтые горные массивы, следуют вдоль облупившихся отелей и металлических лабиринтов Денвера. В Чикаго, на скоростной трассе, огибающей озеро Мичиган, их «форд-капри», давно уже нуждавшийся в воде и отдыхе, отказывает. Они толкают его до въезда в какой-то парк.
Устроившись на скамейке, они просматривают социальные сети на случай, если там будет что-то о них, проклиная эту эпоху с ее передовыми технологиями. Завидев поблизости прохожего, они тут же перестают говорить по-французски. Озерная тишина усыпляет их, и они по очереди дремлют. Его внимание привлекает диковинная птица, опустившаяся на камень, — нечто среднее между лысухой и красношейной поганкой. Она же разглядывает не вовремя созревшие ягоды бузины, с трудом удерживаясь, чтобы не начать собирать их. И тут кто-то из них замечает вдали гигантскую афишу, установленную высоко-высоко, на крыше небоскреба. Сегодня в городе идет пьеса одного английского классика, «Супруги поневоле» — последний спектакль триумфального турне. На фотографии исполнители двух главных ролей в исторических костюмах — муж и жена в лохмотьях.
Беглецы с успехом убеждают друг друга не поддаваться искушению. Теперь, после того как они проделали такой путь — от самой Калифорнии, это было бы чистым безумием. Сейчас они ушли далеко вперед, стали невидимыми. Если двигаться и дальше в таком темпе, меньше чем через пятнадцать часов они будут в Канаде. Совершить такую глупость, находясь почти у цели, — об этом не может быть и речи.
В кассе Театра Чикаго аншлаг: мест нет ни в партере, ни на балконе, остается только ложа над авансценой, из самых дорогих, — места для важных персон. Они подсчитывают последние гроши. Нет, это совершенно неразумно. Но разве разум может устоять перед такой афишей: простолюдин и простолюдинка — бедно одетые, слабые, сияющие счастьем — сжимают друг друга в объятиях.
В конце концов, граница никуда не денется, перейти ее они успеют, снег не растает до весны, да и киты подождут, не станут заплывать в реку Святого Лаврентия, пока они не приедут. Пару часов с бегством можно и повременить.
*
В программке дается краткое описание пьесы Чарльза Найта, написанной в 1721 году в Лондоне. Сюжет заимствован из легенды, основанной на реальных фактах: «В Средние века во Франции двое влюбленных оборванцев, не желающих подчиняться законам общины, вынуждены противостоять и деревенским старейшинам, и священникам, и даже самому королю. Что же их ждет — Рай или Ад?»
Сцена залита ярким светом, зрители сидят в полутьме. Реальность колеблется, постепенно склоняясь к другим, сказочным временам, где все возможно, все достоверно, даже самые странные вещи, — именно странные, иначе зачем они сюда пришли? — реальная жизнь подождет, притаившись за дверью, ей нет хода в зал, ей не добраться до зрителей. Мы в лесу, десять веков назад. Вот появляется женщина: корсаж, длинная юбка, сандалии, чепец, корзинка, она наслаждается ласковым солнцем. За ней на сцену выходит мужчина в рубахе и жилете со шнуровкой, в коричневых штанах-кюлотах, с силками в руках и с подвешенным к поясу зайцем. Через мгновение их взгляды встретятся, они увидят друг друга.
Из своей ложи вровень со сценой двое французов вкушают эту неотвратимость, молят Бога, чтобы этот миг не кончался. Еще немного, и они вслух начнут предостерегать двух простаков на сцене: «Вы подожжете Небо и Землю!» Но это ни к чему: никакие кары, никакие проклятия не заставят их сожалеть об этом мгновении. Неотвратимое свершилось, и теперь лучшее, что можно сделать, это крикнуть им то, чего не сделал тогда ни один просвещенный ум: «Спасайтесь! Бегите вместе, но только прямо сейчас, не ждите ничего от цивилизации, бегите как можно быстрее, или она настигнет вас, где вы ни были!»
Актеры изображают беспечность, готовясь начать любовный поединок. Но в реальной жизни этим деревенщинам было холодно и страшно. Их одежда была в лохмотьях, а грязный свет того осеннего утра предвещал худшую из зим.
В ту пору их страной правил немощный человек.
Людовика Добродетельного точила хворь, названия которой никто не знал, но все ее боялись, а потому называли «эта болезнь», после чего осеняли себя крестным знамением. Ибо смерть уже частично овладела телом этого бедняги, телом, потерявшим свою божественную сущность, ставшим телом простого смертного — зловонной плотью с перекрученными нервами, — которое не могли согреть ни драгоценные меха, ни даже прижимавшиеся к нему другие тела. Лекари были бессильны и, стоя у изголовья короля, которому страдания придавали свирепости, больше боялись за собственную жизнь. Каждое утро они удостоверялись, что моча у него желтая, а не красная, а кровь — красная, а не коричневая, а затем отваживались выдать диагноз, и был этот диагноз столь невразумителен, что сам недуг казался на его фоне вполне приемлемым. Обиняком они ссылались на церковников, всегда готовых поведать о чудесах, описанных в Священном Писании, дабы оправдать свое высокое служение, но те, оказавшись перед умирающим королем, полагались лишь на волю Всевышнего. Разум его угасал, и, некогда Добродетельный, он превратился в Безумного, ибо безумие было единственным земным выходом для его ужасных страданий. Случалось, что он карал любого здорового человека, осмелившегося показаться ему на глаза, или предлагал какому-нибудь мужлану потомственное дворянство в обмен на его крепкое здоровье. Он отказывался понимать, как могут его министры, освободившись от обязанности сострадать, возвращаться к своему очагу, ужинать в семейном кругу, а затем спокойно отходить ко сну. Как может народ заниматься обыденными делами, когда ему надлежит бежать в церковь и молиться, молиться о выздоровлении своего государя. Как дофин, его сын, может проявлять нетерпение и даже присаживаться на трон и примерять корону. Выходит, что все пребывающие в добром здравии — чудовища? И стоит королю впасть в агонию, как миллион его подданных тут же вырядятся в поистине королевское равнодушие?
Заболев, Людовик Добродетельный узнал, сколь простодушны короли, думающие, будто их любят или даже боятся, ибо народом прежде всего правят два тирана, от которых не убежишь, поскольку они живут в сердце и нутре у каждого, и имя им голод и страх.
Голод и страх, страх и голод — они вечно состязаются в силе своей власти над человеком, но могут действовать и заодно, передавая друг другу эстафету, ибо, стоит человеку утолить голод, как страх раскаленным углем начинает жечь ему нутро, и единственное, что может смирить этот жар, это иной огонь — огонь голода, который, возвращаясь, вытесняет все другие чувства.
В ту пору в том краю народ днями напролет бился, пытаясь побороть целую вереницу страхов. Едва проснувшись, люди боялись покидать постель из-за холода, который тут же начинал нещадно кусать их, словно наказывая за худобу и скудость одежд. Поднявшись, они начинали пересчитывать детей, опасаясь, что один из них умер ночью, что никого не удивило бы, столько для этой смерти было поводов. Проглотив скудный завтрак, они отправлялись на работу, боясь, как бы их поля не побило заморозками, или их не потравили какие-нибудь дикие животные, или не потоптали проезжие всадники. Орудуя серпом, они дрожали от страха при мысли, что урожая не хватит ни на пропитание, ни на уплату подати, становившейся все непосильнее, но которую никто даже не пытался оспаривать из страха оказаться в темнице. В полуденный час они опасались, как бы не случилось войны, которая усугубит нужду и насилие, не ведая при этом, что за враг и почему вторгся на их землю, потому что войны сменяли одна другую по причинам, о которых простым людям не следовало и знать, достаточно было набата, возвещающего новый ужас на долгие годы. К вечеру просыпались сотни болячек, придуманных только для того, чтобы помешать крестьянину завершить свой труд: колотье в спине, бурав в голове, разлитие желчи; они молили Небеса, чтобы ни одна из них не задержалась надолго и не обернулась болезнью. Вернувшись к домашнему очагу, они опасались, не было ли ими допущено какого-нибудь невольного кощунства, когда, к примеру, они сетовали на Господа за тяжесть креста, который Тот возложил на них, и, дабы избежать адского пламени, признавались в своей нечестивости священнику, который накладывал на них соразмерное наказание. В сумерки, перед тем как лечь спать, они делили с близкими похлебку; и тогда усталость, так пугавшая их в поле, становилась для них единственной надеждой на забвение.
Даже когда возникала надобность создать семью, люди — мужчины и женщины — поддавались искушению и пытались таким образом заговорить свои страхи. Совсем юную девушку родители могли выставить из дома, чтобы избавиться от лишнего рта. И если ей не случилось встретиться с Богом, избежав благочестивой жизни вдали от мира, то она принималась за поиски мужа, дабы оградить себя от печальной участи, уготованной одинокой женщине, предоставленной самой себе, — поруганной солдатами-наемниками, обрюхаченной каким-нибудь бродягой, закабаленной ворьем, нещадно эксплуатируемой злыми хозяевами. Этому ниспосланному Небесами мужу она клялась в верности и повиновении, грела ему постель, утоляла его чувственный голод, и это было единственное дарованное им наслаждение, правда омраченное риском подцепить сифилис. Одержимые идеей размножения, каких бы жертв это ни стоило (на двух жизнеспособных младенцев тогда приходился один мертворожденный), они просили Небо даровать им столько потомства, сколько позволено будет природой. Каждого нового члена семья принимала не как дар свыше, но как рабочую скотину, которая вскоре будет приносить больше хлеба, чем было истрачено на нее.
*
Как-то раз один человек отправился в город, чтобы продать там добытую им дичь, и по пути встретил женщину, забредшую в лес в поисках ягод. Они ничем не отличались от других, ни манерой держаться, ни званием, ни воспитанностью. Не было в них заметно ни тщеславия, ни желания похвалиться каким-либо особым талантом, и ничто не предвещало, что им предстоит такое приключение. В сказках судьба любит возвещать о себе барабанной дробью, поражать слух звоном литавр, но в то утро ничего подобного не предшествовало встрече этого мужчины и этой женщины, мысли которых были заняты самыми прозаическими заботами: почем ему удастся продать этих двух попавших в силки зайцев? Отыщет ли она то местечко, богатое черной смородиной и голубикой, до которых так охочи обитатели замка? Но вдруг издали они замечают друг друга, и ноги у них подкашиваются, и кровь стынет в жилах. Помрачение не продлилось и минуты, но этого времени хватило, чтобы они успели порвать с прежней жизнью, ибо никогда больше не представится им подобного случая, чтобы сбросить с себя груз духовных оков.
Одиночество.
Еще мгновение назад ты навязывало мне свою унылую компанию. Нечего и думать ускользнуть от тебя, говорило мне ты. И будь вокруг меня десяток братьев и сотня детей, ты до последнего дня по пятам следовало бы за мной. Отныне ты само будешь одиноким.
Время.
Ты, что гнетешь меня с первого моего дня, ты, каждый отпущенный мне тобой же миг напоминающее, насколько я смертен. Знай, что отныне я буду медлить, когда ты начнешь торопить меня, и не стану больше терять ни часа, поджидая тебя, когда мне самому будет невтерпеж. С этого дня у меня будет так много времени, сколько у тебя никогда не будет.
Рок.
Всю свою жизнь я видел, как ты подстерегаешь меня в переулке за углом, я представлял себе твое торжество, когда меня одолевал недуг, опасался твоего удара при встрече с каждым вооруженным человеком. Сегодня я знаю, что ты — это всего лишь болтовня. Иди же, преследуй несчастных, которые еще верят в тебя, их немало.
Я.
Еще вчера я не знал, как мешает мне этот маленький жилец, притаившийся в глубине моего существа и считавший себя центром вселенной. Отныне он не нужен мне, чтобы помнить, что я существую.
Будущее.
Чтобы узнать, из чего будет соткано будущее, мне требовался целый день. Глупая осмотрительность! Важно лишь ближайшее мгновение, ибо завтра еще не существует.
Они не чувствовали больше ни голода, ни страха.
Их история могла начинаться.
*
В деревне с населением в три сотни душ мужчине принадлежал каменный домик под соломенной крышей с трубой и навесом, вмещавшим столько дров, сколько нужно, чтобы зимой продержаться в течение целого месяца. Они укрылись там так, что никто даже не подозревал об этом, на время, которое беспрестанно продлевали.
Соседи даже стали беспокоиться по поводу столь долгого отсутствия зверолова, которого в деревне уважали за умение расставлять ловушки на волков и лис, наносивших урон скоту, распространявших болезни и представлявших опасность для детей. Решили, что он умер во сне или был убит сеньором, недовольным вторжением на его земли. Для очистки совести один из селян постучался в его дверь и услышал оттуда стон, не столько предсмертный, сколько сладострастный. Зверолов был, вне всякого сомнения, жив и к тому же пребывал в приятной компании, а потому лучше было оставить его в покое и позавидовать тому прекрасному дню, который ему предстояло прожить.
Назавтра ему всё еще завидовали, но на следующий день — уже меньше, потому что такая скрытность возбуждала любопытство. Кто там у него? Может, куртизанка? Может, недюжинного таланта? А может, целых две куртизанки и обе недюжинного таланта? Если только там вообще женщина…
На какое-то время влюбленные покинули свое гнездышко, чтобы проверить силки и набрать винных ягод. Их заметил мальчишка и тут же рассказал об этом своей матери, которая рассказала соседке, которая рассказала мужу, после чего молва разнеслась по всей округе: если зверолов нашел себе женщину, то кто же она такая, коли он так прячет ее от чужих глаз?
И снова началось брожение умов — прекрасное развлечение для тех, кто гнет спину на тяжелой работе. Благородная дама — шлюха в душе? Ангел с повадками грешницы? Какая-нибудь экзотическая штучка буйного нрава? Или немолодая уродина, при этом весьма искусная в известных делах? Монашка-вероотступница? Неопытная, а потому ненасытная девчонка? Чертовка из публичных? Каждый выдвигал свою гипотезу, и ни одна из них не повторялась.
Чтобы покончить со всеми этими догадками, мужчина представил землякам свою подружку, девушку как девушку, не бродяжку какую, но и не богачку в шелках и бархате, а честную сборщицу ягод, у которой всего и секретов-то было — места, особо богатые редкими травами, о которых она никому не рассказывала.
Соседи решили, что тут дело ясное: как только любовный голод будет утолен, как только побледнеет очарование первой встречи, любовники, как и все, окажутся во власти превратностей обычной жизни. Родится у них первенец, и перестанут они ворковать, покинут свое убежище и заживут по правилам человеческого общества и под его защитой.
*
Однако выходили они из дома все реже и реже. Селяне, которым всем до одного было известно, что такое голод, дивились невероятной воздержанности этой парочки, которой лишения будто придавали сил. К тому же могут ли люди вообще жить вот так, словно заключенные, — без вины, без приговора, без тюремщиков, принуждающих их отбывать наказание? И как им удается не подчиняться закону природы, согласно которому всякая деятельность, даже самая приятная, вроде любовных утех, бесед, прогулок, если предаваться ей с чрезмерностью, неизбежно порождает скуку?
Умы кипели от такого количества домыслов и предположений, и эта работа приносила положительные результаты. Воображение, пребывавшее по причине бедственного положения селян в спячке, стало так обильно плодоносить, рождая плоды как сладкие, так и горькие, что в деревушке и мужчины, и женщины предались тайной жизни, полной фантасмагорий, неутоленных желаний и грандиозных планов. Возможно, в этих бреднях и закладывались основы будущей легенды. Как пробел, нуждающийся в восполнении, как необходимость познать темную сторону самих себя, как коллективное желание ответить иносказаниями на встающие вопросы, дать тревоге выход через прекрасное. Перед отходом ко сну их навязчивые идеи деликатного свойства превращались в сновидения, и они наконец проникали в дом влюбленных, где те хранили свои тайны: сидящих на цепочках эльфов и фавнов, плененных сказочных птиц в клетках, чертиков и гномиков, козу, доившуюся хмельным медом, полки, уставленные банками с чудодейственными травами, необходимыми для приготовления эликсиров молодости, мазей для вечной красоты и прочих колдовских снадобий.
В этот-то самый час влюбленные и решались выйти на свет божий. В лесу, принадлежавшем им одним, они вели себя так, словно были последними жителями Земли, предаваясь делам гораздо более безобидным, чем те, что наполняли мечты односельчан, и в то же время немыслимым для тех, кто посвятил себя звероловству и сбору даров леса. Словно они ночью хотели искупить то, чем занимались днем. Он, с такой ловкостью умевший ставить ловушки на дичь, вел счет редким видам животных и пытался по-своему охранять их. Он учил свою возлюбленную отличать лесную сову от болотной, распознавать следы косули и не путать их со следами лани. Иногда ему случалось отпускать из собственной ловушки слишком молодого зверька, как того кабанчика, которого они стали выхаживать. Его подруга, для которой было одинаково приятно собирать ягоды и не делать этого, пригласила своего возлюбленного на спектакль, который можно увидеть лишь раз в году, когда расцветает «лунный цветок», белый, с остроконечными листьями и красным пестиком, и столь недолговечный, что он увядает с рассветом. Иногда она и сама сажала что-нибудь вроде того семечка размером с орех, привезенного ей одной товаркой, воротившейся с юга, из которого должна была вырасти пальма с огромными резными листьями. Влюбленных забавляла мысль, что лет через сто все будут удивляться, каким образом среди дубов выросло это странное дерево.
Напоенные светом темноты, они возвращались в свое убежище в тот самый час, когда люди расставались со своими бурными снами, чтобы встретить зарю с ее вечным приговором.
*
По воскресеньям, в церкви, селяне пребывали в недоумении, от которого им не удавалось избавиться в течение всего богослужения. Они приходили туда по привычке и из страха перед грехом, но мысли уводили их далеко от этого святого места, как будто переполнявшее их рвение относилось отныне не к литургии, а к чему-то иному, и им надо было следовать совершенно новым, никем еще не сформулированным заповедям. Над этим часом, осененным во все времена ореолом священного благоговения, нависла теперь тень сомнения.
Для очистки совести прихожане призвали из соседнего городка кюре, который редко выезжал куда-либо, разве что на соборование умирающих. Когда ему приходилось это делать, он пользовался случаем, чтобы пожурить маловеров, избегавших его церковь, поскольку, обладая крепкой памятью, он с первого взгляда узнавал своих верных прихожан и тут же подсчитывал остальных. За время нелегкого путешествия через лес он приготовил немало проклятий, достаточно сильных, чтобы произвести на паству должное впечатление: он знал, что его ждут, ибо ввиду исключительности обстоятельств день был объявлен нерабочим.
Стоя перед дверью влюбленных, аббат прислушался, но ничего подозрительного не услышал, и эта тишина встревожила его больше всего. Улови он малейший шорох, он тут же возопил бы о блуде, самый тихий шепот заставил бы его заподозрить заговор, а в первом услышанном смешке он распознал бы дьявольское присутствие. Но как иначе расценить эту тишину, если не как самое настоящее оскорбление? Вся деревня пребывает в крайнем возбуждении, служитель Церкви проделал долгий путь через лес, а эти бесстыжие… спят?
Выйдя на порог, влюбленные обнаружили человека в сутане, возбужденно проповедовавшего импровизированной пастве. Речь в проповеди шла о смертных грехах и об опасностях, поджидающих тех, кто им предается, а также о любви к ближнему, о взаимопомощи, о необходимости делиться и о прочих ценностях, определяемых законами, первой из которых для столь развязной парочки должно стать таинство брака. Лишь принеся соответствующие обеты, любовники смогут разделить ложе на законных основаниях, осознав наконец присущие человеческому существу права и обязанности.
Они заверили аббата, что не имели ни малейшего намерения посягать на столь величественное установление, благодаря которому соединили свои судьбы их родители и родители родителей. Если помолвка и взаимные обеты счастья столь необходимы, такой обряд следует совершать во что бы то ни стало.
Но сами они не испытывают в этом ни малейшей нужды.
Сказать, что кюре был удручен, — значит ничего не сказать. Он был не столько обижен, сколько опечален. Если ему и случалось, как всем служителям веры, сомневаться в некоторых из раздаваемых им благословений и в том значении, которое им придавали, то в этом таинстве он никогда не сомневался. Каждый раз, когда перед его алтарем воссоединялась новая пара, он испытывал глубокое чувство гармонии и завершенности, это была единственная служба, которая легко ему давалась. И вот сегодня эти неблагодарные, которым выпала такая удача — возможность освятить свои отношения, смеют оспаривать священные узы? Нет, это безобразие явно затянулось, их согласие никому не нужно, надо срочно действовать. Если они не хотят подвергнуться наказанию, о котором еще долго будут жалеть, они должны подчиниться… до наступления ночи.
Услышав такой ультиматум, влюбленные решили не ввязываться в битву, которая заведомо будет проиграна. Опасаясь, что их никогда больше не оставят в покое, они объявили аббату, что готовы следовать за ним.
Раздались радостные возгласы. День не пропал даром: будет свадьба, и вся деревня примет в ней участие. Сразу составился праздничный поезд: для женщин с младенцами — конные повозки, для стариков — ослики; к поясам подвесили фляги для вина, женщины украсили себя бусами и надели нарядные косынки, и веселый кортеж во главе с аббатом и сужеными пустился в путь. На смену серьезности пришла радость, заблудшая парочка повиновалась, и, чтобы уж окончательно их убедить, разве это всеобщее ликование не было лучшим доказательством обоснованности законного брака? Бедняки, батраки, крестьяне, торговцы и несколько именитых горожан, шедшие сейчас через лес, желали своими ушами услышать обеты, которые некогда произносили и сами: долгий путь стал для этих людей поводом предаться добрым воспоминаниям о том славном дне. Процессия входила в поселок, к ней примкнули зеваки, ибо, судя по участникам шествия, проделавшим столь длинный путь, и по позднему часу, церемония обещала быть исключительной. Ни один государь не мог бы похвастаться таким стечением народа на свою свадьбу, ни одна пышная церемония с пиром, готовившаяся в течение долгих месяцев, не вызывала столь бурной радости. Какого же звания были эти молодые, окруженные такой заботой, такими почестями? Кто они такие, что сам кюре провожает их в свой храм? Толпа незнакомых людей окружила влюбленных — словно родители, братья, родственники, которых у них никогда не было, и на мгновение им показалось, что они — последние отпрыски древней династии с раскидистым генеалогическим древом. И вся эта новая, многочисленная семья устремилась на штурм храма в надежде занять местечко получше, заполняя все закоулки, чего никогда не бывало, даже в Светлое воскресенье. От всеобщего возбуждения и от скопления такого количества тел во всем здании, от скамей до шпиля, стало жарко. Царила такая неразбериха, что казалось, будто статуи Девы Марии и апостола Иоанна затерялись в толпе, словно простые прихожане. Те, кому повезло меньше, толпились перед порталом, где случайный глашатай, взобравшись на плечи приятелю, комментировал то, что ему удалось разглядеть у алтаря. Как только стих гомон, влюбленных спросили, желают ли они получить друг друга в спутники жизни, и вырвавшееся у них «да» показалось им обоим слишком тихим, чтобы выразить то, что вмещали уже их сердца, — целое королевство счастья!
Целое королевство на двоих, с самого первого дня их встречи, — и они были единственными его государями и единственными подданными. С за́мком в сотню комнат — и во всех они жили. Стоя на крепостной стене и нагнувшись вперед, чтобы разглядеть пределы своих владений, они едва различали за невидимой границей далекие силуэты. Это были те самые люди, что толпились сегодня вечером в церкви.
Так был заключен этот сумеречный брак.
Так и есть, теперь публика полностью на стороне влюбленных. Прежде всего зрителю надо безошибочно определить, кто хороший, а кто плохой. Затем он начинает вспоминать эпизоды своей жизни, похожие на то, что пережили герои пьесы, и тут, в Театре Чикаго, каждый мог назвать по крайней мере один такой случай. Обстоятельства, конечно, были совсем другие, но, если присмотреться, и им, зрителям, были знакомы высокие чувства, и им доводилось сталкиваться с вероломством и ревностью, и они защищались при помощи аргументов, в сущности таких похожих на те, что описал автор. Здесь можно только порадоваться вневременности великих литературных произведений и удивляться, насколько точно язык другой эпохи передает сегодняшние чувства.
Разношерстная публика — театралы, студенты, парочки, члены клубов «кому за…» — сплотилась и стала единым целым. Пол, возраст, социальное положение, этническая принадлежность больше не имели значения. Публика против. Против тех, кто вообразил, будто им все известно про скрытые узы, соединяющие два любящих сердца. Две тысячи четыреста зрителей вдруг обнаруживают, что у любви нет лучшей союзницы, чем комедия, и что она правильно делает, избегая драматической напыщенности. Весь мир становится фарсом, абсурдным и слишком сложным, чтобы даже пытаться к нему примениться. Но сколь радостно видеть, как двое простаков в течение целого часа заставляют этот мир вертеться вспять.
Две тысячи четыреста зрителей минус два. Сидя в своей ложе, французы разрываются между двумя желаниями: вернуться, пока не поздно, к своему «форду-капри» и предостеречь главных героев, этих дураков, поглощенных своим счастьем: «Скорей валите отсюда! Думаете, поженились — и всё? Нет, этого мало! Впереди новые трудности, еще какие!»
Слишком поздно. Занавес поднимается. Начинается второе действие. Что ж, тем хуже для них.
Молодожены решили сбежать — совершенно неожиданно и в очень странное место: в монастырь.
Много дней шли они через поля, через леса, и в течение этого долгого пути жена обучала мужа началам своего искусства — сбору даров природы, нагружая его охапками шалфея, полыни и зверобоя, из которых монахи готовили на продажу целебные отвары. Так что им не составило никакого труда проникнуть за монастырские стены, чтобы предложить братии неслыханный доселе, но соблазнительный обмен.
Дело в том, что молодоженам взбрело в голову обрести редкое благо, пользоваться которым было позволительно лишь горстке высоких сановников, и уж никак не простолюдинам, и это благо, запрет на владение которым они собирались нарушить, было не что иное, как умение читать. Их считали неспособными к учению, а они готовы были вдвоем одолеть такое трудное дело, словно мало им было слияния сердец и тел, подавай им еще и духовное единение.
Один монах, переписчик рукописей, сочтя их просьбу не только безрассудной, но и пагубной, заявил, что они не смогут постичь секреты самого ученого из языков — настоящего французского: это им не грубый просторечный говор, который не понимают даже в соседней деревне. И потом, что за безумие, что за дурацкое желание приобрести ученость, рискуя, если об этом кто-то проведает, навлечь на себя массу неприятностей.
Исчерпав все доводы, он отвел гостей в скрипторий, где хранились рукописи, чтобы они поняли, на какую голгофу им предстоит подняться.
*
Воротившись домой, они занялись освоением алфавита, в том виде, в каком преподал его им монах, привнося в учебу новшества, которые человек благочестивый назвал бы похотливыми: так вместо подставки для книг они предпочитали использовать некоторые изгибы своих тел, а в каждой из двадцати шести букв им виделась заглавная буква одного из тех слов, что шепчут в алькове. Ничего не подозревая об этих ученых утехах, односельчане не могли смириться: таинство, скреплявшее отныне их союз, узаконило их отношения, но — вот насмешка! — оно же усугубило и их безразличие к окружающим. В самые холодные зимние дни односельчане представляли себе, как, уютно устроившись у огня и до отвала наевшись бобов и каштанов, они насмехаются над бедолагами, бившимися снаружи.
Однако, если на них не действовали законы морали, был и другой закон, гораздо более суровый. С приходом тепла пробил час уплаты подати — час, которого боялись все, и те, кто не имел денег вовсе, и те, у кого они водились в достатке, поскольку платежей было множество и взимались они со строгостью. Управляющий владениями местного сеньора и его податной, оснащенные весами и счетными книгами, были в этом году встречены доброжелательно, поскольку селян, казалось, не столько заботила уплата собственных долгов, сколько они жаждали увидеть, как будут расплачиваться эти двое наглецов. Поэтому обычно печальная процедура прошла в веселом расположении духа: люди шли, таща с собой кто мешок зерна, кто кошель с деньгами, будто в уплату за место на предстоявший спектакль.
Супруги явились, не принеся с собой ни гроша, ни щепотки муки, ничего, что можно было бы изъять. Однако неплатежеспособная семья представляла собой особый случай: к ним нельзя было ни применить фиксированные налоги, взимавшиеся с земледельцев, ни взять с них плату за аренду, ни удержать часть полученного урожая. Они не использовали ни мельниц, ни печей, ни давилен, предоставлявшихся в их распоряжение сеньором. Нельзя было обложить их и налогом на открытие бочек, поскольку никаких бочек они не открывали. Однако они пользовались дарами природы, а потому подлежали обложению полевой податью, которую можно было уплатить, отбыв трудовую повинность в пользу землевладельца.
Им назначили шестьдесят дней работ, в течение которых каждое утро они отправлялись в замок, а к вечеру грязными и обессиленными возвращались назад. Она помогала на жатве и в буфетной, он был определен на чистку выгребных ям или же загонял дичь, когда у сеньора появлялось желание поохотиться. И чем больше проходило дней, тем менее тяжелыми казались им эти обязанности. Общаясь с разодетыми в шелка, катающимися как сыр в масле богачами, они радовались своей скудной жизни — единственному, чего сильные мира сего не смогли бы получить ни за какие богатства. Видя, как те, пытаясь одолеть скуку, жадно предаются веселью, глушат себя музыкой, они жалели этих несчастных, уставших от жизни, позабывших, для чего они родились, тоскующих по тому, чем они могли бы стать, и разочарованных тем, что им это уже не под силу.
*
Может быть, со временем односельчане и забыли бы всё, если бы эта история не возбудила любопытство жителей окрестных деревень: а как иначе, ведь они сами предали ее такой дурной огласке? А существовали ли они на самом деле, эти добровольные затворники, эти тихие смутьяны, эти нечестивцы, пребывавшие в лоне Церкви, эти бунтари, платившие налоги, разгуливавшие по ночам и предававшиеся лени в дневное время? Наибольшую настойчивость среди посетителей проявляли врачи, божившиеся, что они разгадали эту тайну.
По их словам, упрямство этих молодых людей, желавших жить по собственным законам, не было причудой, а означало некую недостаточность мозговой деятельности или анатомический изъян: причина скольких странностей крылась в нездоровье? Праздность и отказ от каких бы то ни было сношений с окружающими были, вне всякого сомнения, следствием тяжкой меланхолии, которая в свою очередь проистекала из аномалии сердца, внутренностей или селезенки, что можно вылечить с помощью целебных снадобий и мазей. Что же удивительного в том, что этот мужчина и эта женщина, будучи товарищами по несчастью, страдая от одной и той же болезни, вместе удалились от мира? Разве все мы не видели, как прокаженные парами бредут по пути страдания, деля друг с другом свою беду?
Люди в черном собрались на небольшой симпозиум, который потребовал от влюбленных, чтобы те подверглись осмотру — во имя науки и ради всех больных, которым в будущем доведется испытать те же муки. В те времена — времена эпидемий, необъяснимых смертей, неслыханных болей — великая книга медицины непрестанно пополнялась новыми записями, но в ней оставалось еще столько белых страниц!
Их выслушали, выстукали, им поднимали веки, их заставили присесть, покашлять, им задали сотню вопросов — от самых безобидных до самых интимных. Такой ясный взгляд, такая чистая кожа, глубокое дыхание, сильные мускулы, а главное — ужасающее внутреннее сияние, читавшееся на их лицах, могли скрывать лишь очень опасное заболевание. Каждый из врачей, видя в этом удобный случай открыть новую болезнь и тем самым выделиться среди собратьев, твердо отстаивал свой диагноз. Назывались такие недуги, как разрушающая волю желчная лихорадка, абсцесс мозга, приводящий к летаргии, неизвестная разновидность оспы, разжигающая страсти, поражение того или иного органа, способствующее чувственной инвазии, горячая влага, вызывающая непроходимость путей разума, безымянная железа, вырабатывающая общее томление, новая чесотка, предрасполагающая к слабоумию. Заполнить всего одну страницу великой книги медицины — этого было слишком мало для такого количества практикующих врачей. Которые один за другим стали жаловаться на изжогу и разлитие жёлчи.
Больные же вновь уединились у очага. В эту ночь их занимала вовсе не медицина, а совсем иная наука, ибо их наставник-монах, ставший со временем и их сообщником, доверил им сокровище, которое строго-настрого запрещалось выносить за пределы монастыря, — трактат по астрономии, украшенный множеством миниатюр, где языком аллегорий давалось точное описание небесной сферы. Сидя перед раскрытой книгой, влюбленные по-своему философствовали о бесконечности Вселенной; с помощью бесхитростных слов пытались они обозначить смысл земного существования, но, так и не придя к надлежащему заключению, удовольствовались тем, что взвесили свои шансы пережить то, что приключилось с ними.
Остававшиеся же снаружи доктора сошлись в одном: необходимо как можно скорее содрать с этих двух особей кожу, чтобы посмотреть, как они устроены внутри. Отправляясь за соответствующими инструментами, они предупредили население о заразе, грозившей тем, кто рискнет приблизиться к этим зачумленным.
*
Праведный гнев врачевателей лишь распалил любопытство, особенно среди поэтов, почувствовавших себя облеченными некой миссией. В их обязанности входило воспевание подвигов доблестных рыцарей, развлечение коронованных особ, просвещение простого люда посредством басен, а служение заключалось в передаче человеческих эмоций, в толковании их собственно человеку, слишком обремененному заботами, чтобы воспринимать все эти душевные штучки. Они общались с музами, отличались изысканными манерами, изящно обращались со словом и считали своим долгом описывать нравы своих ближних, в отличие от перегруженных умом философов и ученых, лишавших страсти их возвышенной субстанции. Как-то ночью менестрели, трубадуры и прочие скоморохи собрались вокруг погруженного в тишину дома и, вооружившись флейтами и виолами, приготовились записывать послание любви, недоступное слуху простых смертных.
Увидев такой цветник талантов, любовники догадались, что им выпало невероятное счастье присутствовать на исключительном концерте. Время серенад уже давно прошло, приближался рассвет, а с ним и уникальная возможность в суровый час пробудить крестьян музыкой. «Господа, возвысьте наши души звуками, потрясите сердца песнями, мы ведь так же достойны их, как и король Франции».
Услышав этот призыв, артисты внезапно почувствовали, что вдохновение покинуло их. Однако истинная причина их досады крылась гораздо глубже: история этих державшихся столь вызывающе влюбленных не нуждалась в их стихах — ее не надо было украшать, она и так была прекрасна. Ей не нужны были ни их одобрение, ни поэтический настрой.
Тогда, назло покинувшим их музам, они принялись сочинять глумливые стишки, издеваясь над своим призванием прославлять красоту и справедливость. Воспевая весну, они называли ее уродиной, солнце скаредным, звезды глупыми, небо ничтожным, природу заурядной, лань порочной, а ее детеныша — плутом и обманщиком. И до конца своих дней будут они петь отвратительную балладу о грубых деревенщинах, которые однажды ночью заставили бардов замолчать.
*
Уверенные, что только им под силу разгадать этот феномен, туда съехались специалисты по тайным знаниям. Предсказательницы и каббалисты, маги и прорицатели, ясновидящие и некроманты прибывали и прибывали, кто с гримуаром, кто с амулетом. Однако никому из них, невзирая на мистическую специализацию и произнесенные заклинания, не удалось выманить затворников наружу.
И этому было свое объяснение, совершенно неприемлемое для тех, кто с таким рвением прилагает свои таланты в делах черной магии: влюбленные в это время присутствовали на гораздо более занимательном спектакле в тридцати лье отсюда.
Двумя днями ранее разнесся слух, будто в окрестностях объявилась повозка бродячих комедиантов. Разве можно было упустить такую возможность? Стоя в сутолоке, они аплодировали пантомиме, в которой участвовали пять персонажей — двое стариков и трое их сыновей, все хитрецы и трусишки: колотушки и хохот до слез обеспечены.
На обратном пути они с благодарностью говорили об этих светлых головах, что в незапамятные времена выдумали театр. Странная и прекрасная идея — выставить двоих посреди городской площади, чтобы они смешили целую сотню: для всеобщего веселья всего и нужно-то — маска, ужимка да острое словцо. Они решили впредь не пропускать ни одного представления, пусть даже для этого придется шагать целый день, — это вовсе не большая плата за тот восторг, который они испытали.
Не подозревая, что их дом стал местом эзотерических баталий, они обнаружили там на рассвете целый ареопаг колдунов, разобиженных тем, что им пришлось ночь напролет совершенно впустую распевать свои заклинания. Они гадали, размахивали талисманами, насылали порчу. Было призвано сразу столько духов, что хижина ходила ходуном, будто от подземных толчков.
Любовники вернулись к себе в постель преисполненные сострадания к бедолагам, устроившим весь этот шум и гам: тоже ведь артисты, правда не слишком талантливые. Не надо уметь читать по стеклянным шарам и по звериным внутренностям, чтобы понять их беспокойство: долго ли им еще осталось жить своим оккультным ремеслом? И что с ними будет завтра?
*
Неудача, которую потерпели сначала врачи, потом поэты, а затем колдуны, принесла влюбленным известность, бежавшую быстрее, чем все рысаки страны. В них видели то смутьянов, готовых поднять армию, то героев, оказывавших сопротивление правителям. В обоих случаях эти слухи сильно обеспокоили дворянство и духовенство. Спешно были разосланы эмиссары с целью разузнать, не грозит ли привилегированной части общества опасность.
Влюбленные, со своей стороны, стали свидетелями отдельных деяний, авторы которых, казалось, имели весьма благородные намерения, а вовсе не наоборот, как могли бы подумать некоторые.
Однажды вечером они обнаружили у себя под дверью дар неизвестного — хлеб, круглый, ароматный, еще теплый, поблескивавший золотом в темноте. И тогда они, у которых с самого начала их добровольного затворничества не было ни денег на покупку хлеба, ни времени, чтобы самим испечь его, совершили забытый ритуал — не столько ради утоления голода, сколько чтобы потешить все пять чувств сразу. Им вспомнилось сверкание хлебного поля перед самой жатвой, мягкость свежезамешенного теста, его чудесный подъем, красный отблеск печи, когда из нее достают испеченные хлебы, ароматные, хрустящие, служившие человеку пищей с самого начала цивилизации. Напоминание об этой первой цивилизации и похрустывало сейчас в их руках, и в этом, возможно, и заключалось послание, адресованное им некой доброй душой из их деревни, оставившей это подношение и предлагавшей им, без осуждения и в деликатной форме, одуматься и отказаться от добровольного самоустранения.
Потом деревенский дурачок нанес им странный визит. Этого парня, доброго и смешливого, подкармливали всей деревней, используя его на уборке мусора, за что он ежедневно получал свой кусок хлеба. Однако в тот день вечная улыбка сбежала с его лица, и он, обычно умевший держаться в сторонке (в этом заключался его ум), вдруг выставил себя напоказ, встав на колени перед дверью отщепенцев. Он сложил молитвенно руки и оставался в таком положении несколько часов, возведя к небу глаза, полные слез, и шевеля губами в безмолвной молитве. Все приняли эти его действия совершенно всерьез, сочтя их велением свыше. Когда влюбленные спросили дурачка, что с ним такое случилось, тот прошептал: «Перестаньте, Христа ради…»
Сами того не желая, они лишили беднягу его веселого простодушия, и это-то несчастье и заставило их усомниться в собственной убежденности. А что если эти слова — «Перестаньте, Христа ради…» — были новым, последним знаком, посланным им? Наверно, и к посланию, заключенному в поднесенной им ковриге хлеба, они должны были отнестись серьезно, а не радоваться ей, как некоему символу примирения.
Но оправдываться было поздно, оставался один способ вернуть мир и покой туда, где они невольно посеяли смуту и разлад. Не дожидаясь, пока их принудят к этому, они избрали путь добровольного изгнания.
Изгнание. Само это слово повергало их в глубокую печаль. Кто в этом мире готов покинуть землю, на которой родился? Оба они учились здесь ходить, оба выросли среди этой природы, они умели чувствовать смену времен года, знали, когда пойдет дождь, благодаря чему стал он — искусным звероловом, она — сборщицей ягод, всегда приносившей полные корзины. Этот свет был их светом, они знали каждый его отблеск. Эта тьма была их тьмой, им не нужно было факела, чтобы идти сквозь нее. Они говорили на языке предков, и никакой другой язык не смог бы так точно передать состояние их души. Они так гордились своим краем, что могли бы первому встречному рассказать о том, какое это счастье — быть рожденными здесь.
Они досадовали на себя за то, что стали причиной стольких нареканий и недоразумений, что жили не так, как все, что так долго пребывали в этом полуобморочном состоянии, что занимались самообразованием, что лишь срывали плоды, ничего не взращивая. И однако, у них не было ни малейшего намерения идти против общепринятых норм. Со временем они стали бы уважать обычаи ближних, приняли бы на себя свою долю повседневных трудов, создали бы семью и зажили бы счастливо. Узнали бы и они это чувство принадлежности к общине, старейшинами которой — кто знает? — они однажды стали бы. И им наверняка понравилась бы эта жизнь в этом доме, который, как им до сих пор казалось, уходил корнями в самое чрево земли.
Они решили уйти, оставив его незапертым, с измятой постелью и еще не остывшим очагом, — так, будто отправились на прогулку. Снедаемые тоской, они пребывали в том совершенно особенном состоянии, когда еще ничего не изменилось, но всего уже недостает. Они надели самые теплые одежды, допили воду, затушили последние угли, еще тлевшие под золой. Мало-помалу в них росла убежденность, помогая справиться с горем: нет на свете такого богатства, которым они хотели бы обладать, — в этом и заключался глубинный смысл выпавшего на их долю испытания. Так они и покинут свою хижину — с пустыми руками и с твердой уверенностью в том, что их — двое. Они так горевали при мысли о побеге, что почти позабыли об этом. Но двое — это уже цивилизация, это целая армия. По сравнению с этим привязанность к какому-то жилищу, даже к стране казалась им иллюзорной.
Внезапно изгнание перестало пугать их. Наоборот, оно вселяло надежду. Где-то, в трех лье отсюда или на другом конце света, они найдут свое место, оно уже ждет их — на берегу реки или на вершине горы, где они станут недосягаемы для людского осуждения. Не может быть, чтобы такое место не существовало в этом мире, — ведь, говорят, он так огромен. Скоро они сами убедятся в этом.
Они распрощались с домом в надежде, что однажды он снова приютит кого-нибудь, кто будет его любить так же, как любили они. После чего вышли за порог.
В оранжевом свете зари их ждало внушительное скопление народа.
Селяне со своими семьями составляли лишь незначительную часть этой безмолвной толпы. Владельцы замка прибыли верхом в сопровождении слуг и конюхов. К ним присоединились священнослужители, в том числе два епископа со своими диаконами. Тут же находился бальи с целым штатом управителей. И всюду, насколько хватало глаз, вооруженные люди, готовые начать осаду.
Какой-то зритель, из тех, что так любят делиться своим восторгом, восклицая «ох!» да «ах!», то и дело толкает локтем свою жену. Ему так хотелось бы смеяться вместе с ней, потому что нигде, кроме как в театре, им не удается обрести былого единодушия, которое исчезает, как только они снова оказываются вместе в автомобиле. Но сегодня, похоже, пьеса ее не интересует, не отрываясь смотрит она на пару, сидящую в дорогой ложе, в свете боковой рампы. Какие-то важные персоны, наверняка известные, она могла бы поклясться, что совсем недавно видела их по телевизору. Явно женатые, у нее на это нюх, шестое чувство, она умеет подмечать такие вещи: влюблены или нет, хотят ли еще друг друга, какие чувства испытывают — нежность, ненависть, или просто смирились. Она с первого взгляда может сказать это о любой паре. Внезапно ее осенило, но она не смеет поверить: это было бы слишком прекрасно! И теперь уже она пихает мужа локтем в бок.
Даже не подозревая, что за ней шпионят, француженка читает в программке заметку про Чарльза Найта, автора двух десятков пьес, в числе которых и эта, «Супруги поневоле», считающаяся его единственным шедевром. Действительно, в начале третьего акта он превзошел самого себя с этими постоянными лирическими отступлениями, с этими репликами, звучащими теперь, когда судьба любовников предрешена, словно эпитафии. Перемена тона свершилась безболезненно, зрители ничего не заметили: в этом-то и проявилось настоящее искусство драматурга, не побоявшегося принести комедию в жертву, чтобы перевести спектакль в иную, более серьезную тональность, оттененную своего рода черной фантазией, тонкой, как вдовьи кружева. Раздосадованные неповиновением влюбленных, «докучные»[1] ушли, но над сценой уже нависла величественная, зловещая тень. Дерзость стыдливо отступает, время фарса прошло: на сцене смерть.
Стоя во весь рост, вцепившись в прутья решетки, они проезжали в повозке через деревни под улюлюканье толпы, а в это время Лукавый нашептывал им на ухо: «Ах, вы хотели никогда не разлучаться? Ну так вот, теперь вы скованы одной цепью, видите, как все хорошо уладилось». Однако похоже было, что пристальнее всех смотрели вокруг сами пленники.
В башне замка влюбленных с нетерпением поджидали люди в судейских мантиях: слух о небывалом деле опередил их. Им пришлось подождать какое-то время в приемной, где служащий, ничем не интересуясь, кроме гражданского состояния обвиняемых, зафиксировал их присутствие в книге записей. Когда стемнело, настал момент, которого оба ждали со страхом: их протащили по каменному лабиринту, надели кандалы и бросили в темницы, разделенные общей стеной.
В камере мужа уже был один постоялец, лежавший на охапке соломы. Он давно находился в заключении и ждал, когда будет решена его участь, но правосудие, слишком занятое другими делами, забыло о нем и все продлевало срок его наказания, даже не вынеся еще приговора. Он спросил у вновь прибывшего, за какое преступление того поместили в столь зловещие декорации.
Муж ответил, что не имеет на этот счет ни малейшего понятия, но что ему не терпится встретиться с представителями правосудия, чтобы заявить о своей честности.
«Еще один безвинный!» — усмехнулся его товарищ по камере, повидавший немало таких, как этот. Сам-то он признал свою вину и гордился этим; его обвиняли в том, что он вор, и вполне справедливо, потому что он и был вор, но воровал не только кур, а был искусным взломщиком. Ему с полным основанием приписывали исключительные способности: он мог вынести все из дома богатого горожанина, в одиночку ограбить целую торговую улицу или раздеть до нитки владетельного князя, спрятавшегося в своем замке. Ни больше ни меньше.
Выслушав рассказ о наиболее ярких моментах его трудовой жизни, сокамерник спросил: «А не может ли такой гений грабежа, как ты, освободить меня от цепей, стащить у стражника ключ или сделать так, чтобы я прошел сквозь эту стену, отделяющую меня от моей любимой? Не в твоей ли власти соединить нас вновь, вопреки засовам, дверям и решеткам? Нет? Ну, тогда тебя будут судить не за разбой, а за бахвальство, а это преступление куда хуже первого, потому что от него нет никакого прока».
В соседней же темнице делились в это время иными откровениями. Новоиспеченная узница познакомилась с женщиной, распростертой на камнях, с исхудавшим от слез лицом. Когда-то это была прекрасная крестьянка, только слишком гордая, поскольку все время отражала атаки со стороны молодых дворянчиков, не раз пытавших с ней счастья. Тот, кого ее несговорчивость задела сильнее других, обвинил ее в колдовстве, сфабриковал доказательства, купил лжесвидетелей и даже прибег к услугам экзорциста, который так истязал несчастную, что она взмолилась о пощаде, признав таким образом свою вину. Костра она избежала, но не тюрьмы.
Ее подруга по несчастью обняла ее, стала утешать ласковыми речами и сетовать на несправедливость, жертвой которой стала эта честная женщина, на что та с удивлением сказала: «Ты первая, кто не усомнился в моем рассказе, и мое сердце преисполнено благодарности к тебе за это. Но как можешь ты быть настолько уверенной в моей честности, в противоположность всем тем, кто охотно отправил бы меня на костер, не имея ни малейшего доказательства?» — «Потому, — услышала она в ответ, — что, обладай ты злой силой, ты уже околдовала бы тюремщиков, свела бы их с ума, открыла бы в стенах невидимые ходы, и я сейчас уже была бы в объятиях единственного человека в мире, ради которого поклонилась бы любому колдуну, лишь бы он соединил нас вновь».
Прижавшись к разделявшей их стене, влюбленные беседовали, не слыша друг друга. А их соседи по камере, смирившись с мыслью, что к ним посадили сумасшедших, наконец уснули.
*
Огромная толпа теснилась у дверей суда, волнуясь, словно перед рыцарским турниром. Среди присутствовавших был замечен художник с угольком в руке, готовившийся зарисовать любовников, которые, благодаря своей известности, заслуживали, по его мнению, чтобы их увековечили в рисунке. Был тут и секретарь, разворачивавший еще совсем чистый пергамент, на котором он собирался вести протокол заседания. Спешно посланный судом человек представился обвиняемым как их адвокат и попытался заверить их в имевшемся у него огромном опыте ведения особо трудных дел. Он назвал несколько своих побед, потрясших членов судейской коллегии, в результате которых в законодательство были внесены соответствующие изменения. Среди прочих, дело кровожадного упыря по прозвищу Северный Волк, чьи мрачные охотничьи похождения осиротили два десятка семей и который в настоящее время жил себе припеваючи, торгуя тканями. Кроме того, адвокат защищал супругов, промышлявших похищением детей, при этом он осмелился охарактеризовать их как благодетелей, действовавших исключительно в интересах милых крошек, с которыми родители обращались хуже некуда. Впрочем, добавил он, если тогда у него нашлись слова, чтобы добиться помилования двух обреченных на казнь негодяев, в настоящий момент какие бы то ни было аргументы, позволяющие защищать это заведомо проигрышное дело, у него отсутствуют.
Нет ничего проще, чем представить палача жертвой, а жертву палачом, но как защищать опасную логику, которой подчинялись новые его подзащитные? Люди, ополчившиеся на вековые общественные установления и поправшие нравственные законы, завещанные нам предками, дабы у нас были средства борьбы с первородным хаосом. Возможно ли простить им столь греховные устремления? Поскольку заседание уже начиналось, он поспешил напомнить, что арестованный преступник должен оставить всякое высокомерие, если он желает избежать неотвратимого приговора.
«Неотвратимый приговор» встревожил их гораздо меньше, чем слово «высокомерие», прозвучавшее из уст защитника.
*
Из всех свидетелей, призванных осведомить суд о деталях дела, решающие показания дал последний. Это был крестьянин, который застал однажды обвиняемого за выдергиванием пера у одного из принадлежавших ему, крестьянину, гусей и потребовал объяснений. На что обвиняемый ответил: «Потому что выдрать перо из гуся не так трудно, как из тетерева или ворона».
Этого хищения гусиного пера никогда не случилось бы, если бы не обучение грамоте, признался он судейской коллегии. После того как наставник-монах научил их азбуке, они с женой вбили себе в голову, что в продолжение этой науки им надо выучиться писать. Месяцами упражнялись они в чистописании, выводя слова пальцем по саже или выцарапывая их кончиком ножа на стволе дерева, и только после этого перешли к благородному письму по бумаге, что потребовало новых действий, как то: визит к пергаментщику, сбор чернильных орешков, необходимых для изготовления чернил, освоение искусства зачинки перьев в виде клювика — чтобы нажим был правильным. Эти самые перья надо было еще где-то брать, из-за чего и случилась та досадная перепалка с крестьянином, извинился он.
Читать! Писать! Сколько судья себя помнил, никто никогда не видел, чтобы простолюдин умел читать, а уж тем более писать. Возможно, это и был ключ к разгадке всех их странностей: зачем им было так мучиться, приобретая знания, заботливо сохраняемые монастырями, если они не преследовали неких злокозненных целей?
Подсудимая заявила, что ни она, ни ее супруг не смогли бы написать ни пасквиля, ни памфлета, и, как ни странно это выглядит, они употребили этот год на освоение письма, не имея в виду никакого практического применения приобретенных навыков. Если бы их время не было сочтено, они наверняка нашли бы истинную причину, по которой занялись этим обучением, стоившим им, конечно, немалых сил, но и доставившим немало удовольствия. Теперь они чувствовали себя менее уязвимыми, более независимыми, чем прежде, — обладателями ценного достояния, которое скоро станет общим во имя сохранения памяти рода человеческого. Вот тому доказательство, добавила она, указывая пальцем на писаря, занятого составлением протокола: их проступки заносили в специальную книгу в назидание будущим поколениям…
Один из епископов предложил подойти к данному делу прагматично. По его мнению, достаточно оказаться виновным в совершении одного только смертного греха, чтобы навлечь на себя громы небесные, тут же, судя по услышанным свидетельствам, можно совершенно определенно говорить, что подсудимые виновны в грехе гордыни, ибо они руководствовались одними лишь собственными убеждениями, отринув всяческое смирение и покорность. Вследствие этого они повинны и в грехе чревоугодия, в первом его значении, каковое есть излишества и ослепление. Мучимые постоянной похотью, они возвели сладострастие в ранг догмы, посвящая ему самое светлое время, а составление списка их извращений стало бы оскорблением для суда. Кроме того, они отвернулись от молитвенной практики и вообще от исполнения духовного долга, презрели всяческие обязанности, лелея свою праздность как какое-то сокровище, так что грех лености достиг в них своего апогея. Таким образом были перечислены четыре из всех смертных грехов, то есть на три больше, чем требовалось для их осуждения.
Адвокат влюбленных, хранивший до этого момента молчание, счел своим долгом оправдать свое звание и репутацию. В чем больше всего упрекают его подзащитных? В том, что они совершили названные грехи? Или же в том, что они пробудили еще два греха? Ибо с самого начала дебатов он различает в зале только зависть и гнев.
Епископ в ярости вскочил, чтобы прекратить препирательства: подсудимые совершили самый тяжкий грех — вместо того чтобы славить Господа, они пошли против него! И пока оскорбление, нанесенное Всевышнему, не будет заглажено, на мир может обрушиться множество бедствий!
Адвокат не успел помешать своему клиенту ответить: «Славить Господа — это прекрасно, но разве любить одно из Его созданий больше, чем любит его Он сам, не будет самым совершенным Его прославлением?»
Не сомневаясь больше в приговоре суда, адвокат сделал последнюю попытку смягчить его. Да, его подзащитные, конечно, виновны… если их рассматривать вместе. Но если взять их по отдельности, то разве, прежде чем встретиться, не вели они оба мирную жизнь, почитая Святую Церковь и своих ближних? Соединившись, они пали жертвой ужасного соперничества, из-за которого начисто лишились здравого смысла. Он сравнил их с двумя целебными растениями, которые, если их смешать друг с другом, превращались в страшный яд. Разлучите их, но пощадите.
Возможно, он и выиграл бы дело, не сочти подзащитная нужным опровергнуть его слова. Да, конечно, в одном он прав: когда-то она была обыкновенной женщиной и жизнь, которую ей предстояло прожить, мало волновала ее. Но случайно, а может быть и совсем наоборот, она повстречалась на своем жизненном пути с кем-то, кому она не могла противиться, и в тот самый миг она поняла, для чего появилась на свет. Если бы ей пришлось загадать последнее желание, она попросила бы сделать так, чтобы такого же откровения сподобились все присутствующие здесь мужчины и женщины. И какой бы приговор ни вынесли ей судьи, она будет умолять их не разлучать ее с мужем.
Суд удовлетворил ее просьбу и приговорил их к смерти: на рассвете их сожгут заживо.
*
Еще до света за ними пришли и вытащили из темницы; их это удивило: те, кто накануне радовался случаю присутствовать на их казни, еще спали без задних ног, а дрова для костра были влажны от росы. Им приказали надеть плащи, которые окутали их с головы до ног, затем по тайным проходам их вывели во двор, едва освещенный факелом, где их ждала повозка из кованого железа и кожи, запряженная четверкой лошадей.
Так они и поехали — пленниками кареты, скрывавшей их от посторонних взглядов. Пораженные таким неожиданным поворотом, они промолчали весь час, мчась галопом при скудном свете, пробивавшемся сквозь щель дверцы. Строя неправдоподобные предположения, из которых ни одно не приводило к счастливому концу, они проезжали через шумные города, где с незнакомых улиц до них долетала чужая речь, ничего им не говорившая. Наконец карета въехала внутрь какой-то ограды, и копыта застучали по булыжной мостовой.
Это была крепость огромных размеров, во дворе которой, где сновали конюхи и ремесленники, разместился целый гарнизон. Пленников отвели, но не в темницу, а в покои, где слуги смыли с них грязь, сняли лохмотья и одели их в новые одежды. Затем их проводили на кухню, где их ждала обильная еда: птица под соусом, ячменный хлеб, сыр и фрукты. Они восхищались тонкими тканями и изысканными блюдами, когда один из них вдруг вспомнил, что они приговорены к смерти и что из всех рассказов об этом последнем скорбном пути ни один не походил на то, что они переживали в этом сказочном замке.
Наконец им объявили, что им предстоит держать ответ, и тут их охватил страх, ибо, если каждый человек понимает, что рано или поздно его ожидает встреча со смертью, он никогда не бывает готов к этому свиданию, к которому не стремятся даже самые благородные души. Им внезапно стало неловко в этих одеждах с чужого плеча и тяжело после слишком обильного обеда.
Пройдя по слепому коридору, они вошли в зал, где находилось множество богато разодетых благородных господ и дам, которые разглядывали их, словно нечто диковинное. Один из них вполголоса рассказывал, как однажды, точно так же, как сейчас, в замок привезли пойманного в дальних странах чудовищного зверя с рогом вместо носа. Но тут герольд под звуки труб провозгласил: «Его величество король», и все присутствующие разом умолкли. Пленники, как им велели заранее, преклонили колена, опустили глаза долу и не поднимали их, пока государь не уселся на троне.
Наконец-то он видел их, этих строптивцев, чья темная слава достигла самого сердца королевства, этих нарушителей спокойствия, едва не сведших с ума гарантов веры и знания. Тщетно искал он в них особые черты, извращенность в выражении лиц, — он видел перед собой лишь двух простолюдинов в вышитых рубахах, деревенщин, из тех, кем он правил миллионами, из тех, кто рождался, жил и умирал, не вызывая никаких кривотолков. Он спросил их, вкусили ли они радость оттого, что смерть их оказалась отсрочена, пусть даже всего на день, пробудили ли эти несколько украденных часов в них новые чувства — надежду или сожаление. Про него самого говорили, что он приговорен и смерть его лишь отсрочена, и он не чувствовал себя способным на мудрость и умиротворение. Напротив, он и жив-то еще только благодаря той холодной ярости, которая заставляла его, просыпаясь, выть от боли.
Они отважились поднять глаза и увидели зеленые тени на его лице, черные круги под глазами, впалые щеки. Ужасное зрелище разрушающегося великолепия, величия, с трудом держащегося на ногах. Если государь вправе требовать всего от своих подданных, то подданные вправе требовать от государя, чтобы он сохранил величие при встрече со смертью, в этом заключается его единственный долг. Любили его или ненавидели, был он искусен в государственных делах или вовсе не умел управлять, только смерть, только то, как он будет умирать, покажет, получился ли из него король: вот она, История, ждет в передней. Людовик Добродетельный, съежившийся под своей расшитой золотом меховой мантией, не умел умирать.
Тогда как объяснить, что эти два простолюдина могут бесстрашно ждать встречи со смертью, как вчера бесстрашно стояли перед судом? Никакая экспертиза не смогла разгадать их тайну, никакой закон не заставил их смириться, никаким угрозам не удалось их разлучить. Король не гнушался слухов и, несмотря на скепсис своих советников, захотел убедиться во всем лично. Они действительно излучали что-то, достаточно было поглядеть на них, чтобы отбросить на этот счет всякие сомнения, и какова бы ни была природа этого свечения — божественная или демоническая, — оно наверняка обладало целебными свойствами. И если пленники удостоят своего государя такой милости — подарят ему хотя бы один луч этого света, может быть, чудо и произойдет?
Один из министров, развернув пергаментный свиток, зачитал акт, гарантировавший осужденным помилование, а в придачу немалое состояние и поместье, где уже никто и никогда не обеспокоит их. Король поставил под документом свою подпись, после чего с ним ознакомились все присутствующие.
Еще час назад они были приговорены к смерти, а теперь оказались в числе самых влиятельных людей королевства.
И у них есть пристанище, о котором они так мечтали.
В едином порыве бросились они к королю и схватили каждый его руку. От этого рукопожатия по всему его телу разлилось тепло, и на миг всем его существом овладел покой. Эти ладони не лгали, они не стремились сбежать от него, они излучали братскую любовь, они были щедры, горячи, они поддерживали его. В этот миг король понял, что с самого первого дня приближенные лгали ему.
«Рука моего родного брата, холодная, отчужденная, кажется мертвее моей собственной. Рука моего лекаря только того и ждет, чтобы убедиться в остановке моего пульса.
Рука моего духовника ложится мне на лоб, словно в знак последнего причастия».
Ко всем изъянам человеческой души, с которыми столкнула его смерть, король теперь должен был прибавить предательство. И весь его двор начал опасаться за свои привилегии.
Удостоившись доверия и благодарности самого короля, влюбленные могли теперь спасти свою жизнь. Для этого нужна была всего лишь маленькая ложь — ложь во спасение: да и то, разве солгать умирающему не есть долг милосердия? Почему бы им было не взять пример с его министров, лекарей, кардиналов, наперебой старавшихся сказать больному именно то, что он хотел слышать? Все они находили то объяснение недугу, то средство от него — новую мазь, древнюю молитву, безвестного целителя из варварской страны, молодильный камень, — и больной верил им, ждал чуда, а тем временем появлялся новый интриган и вселял в него новую тщетную надежду. Ибо каждый ждал дня, когда король настолько обессилеет, чтобы больше не бояться и открыто радоваться, глядя, как он подыхает в страшных муках.
Влюбленные, ничего не знавшие об этих политических тонкостях, признались, что не обладают ни одной из приписываемых им способностей. Кроме разве что безграничного сострадания, но его было явно недостаточно. Они просили простить их за напрасную надежду, которую невольно вселили в него, ибо, обладай они подобным даром, они принимали бы больных, исцеляли бы прокаженных, утешали бы умирающих. И возможно, именно в этом видели бы Божий промысел, соединивший их в этом мире. Но увы, они лишь простые смертные, не обладающие ни даром волшебства, ни сверхъестественными способностями, и единственное, что они могут, это молиться за своего государя до его полного выздоровления.
И тогда король понял, что ничто не спасет его от неминуемой смерти. Двор оскорбился за своего монарха. Значит, всё, в чем обвиняли пленников, было правдой: развязность, эгоизм, кощунство — они дошли до того, что оскорбили умирающего короля. Неизвестно, каких еще гнусностей они натворят, если и дальше откладывать исполнение вынесенного им приговора.
*
Король проявил милосердие, заменив полагавшееся еретикам сожжение на костре обезглавливанием. И еще одна чрезвычайная мера была применена в ответ на ходатайство осужденных: они погибнут в один и тот же миг. Для чего были установлены две плахи и призваны два палача. На самом деле, это было сделано не из милосердия, а скорее от суеверия. Если их ничем не испугать, так уж лучше исполнить их последнее желание, а то как бы чего не вышло.
Чтобы все могли насладиться зрелищем казни, пришлось надстроить эшафот. Трактирщики расставили столы, а трубадуры принялись воспевать печальную судьбу дерзких влюбленных.
Оглядывая толпу, пленники в последний раз вкусили ужасающую иронию окружавшей их заботы. В тысячах смотревших на них глаз читалось столько же злобы, сколько и сострадания: таким они и запомнят род людской, в котором для них больше не было места. Вместо ужаса они испытывали наконец умиротворяющее чувство благодарности. Жизнь, это вечное испытание, из которого человеку никогда не выйти победителем, преподносила им неоценимый дар: умереть, познав ее полноту и красоту. А ведь она могла преподнести им и войны, и эпидемии, но нет — она сделала их избранниками, позволив прожить неслыханное доселе приключение, которое через много-много лет после их смерти будет названо счастьем. Конечно, их союз длился не дольше вздоха, но если верить бесконечному перечню злодеяний и прочих небылиц, составленному их обвинителями, они прожили больше ста лет. С обычным самообладанием ждали они встречи со смертью; им было даже любопытно повстречаться с ней, а может, и пожалеть ее: ведь если она действительно такая, какой ее принято изображать, эта вечная скиталица с косой, ей должно быть очень одиноко и горько.
Они опустились на колени и положили голову на плаху. Палачи в один и тот же миг взмахнули топорами.
Наступившая вслед за этим тишина была необыкновенна: что может быть чище молчания десяти тысяч немых свидетелей? Те, кто так опасался бедствий и проклятий, которые могли обрушиться на них, если бы этих упрямцев оставили в живых, испугались, что эти бедствия и проклятия обрушатся на Землю именно теперь.
«Му own brother’s hand, coldly distant, is yet more dead than mine.
My Physician’s hand waits but to feel the stopping of my pulse.
My Confessor’s already rubs extreme unction upon my brow»[2].
Знаменитый «монолог о руках». Король понимает, что его приближенные не испытывают к нему ни малейшей жалости, и только чужим людям удается согреть ему руки своими ладонями. Эта мимолетная поддержка рождает безумную надежду в душе умирающего, который срывает свое разочарование именно на тех, кто ее заронил. В конце третьего акта они погибают. А зрителям наплевать. Кому интересны предсмертные стоны на сцене, когда в зрительном зале сидят преступники, объявленные вне закона? По всему залу загораются экраны мобильников, люди просматривают фотографии, которые сто раз показывали в новостях на Си-эн-эн: точно, это они, та самая парочка, которую разыскивает федеральная полиция. Друг другу пересылают видео с камеры наблюдения, на котором сотрудники одного музея в полном составе мечутся по территории, спасаясь от ярости двух орущих теней. Было сделано несколько выстрелов, но обошлось без жертв. Возможность теракта отвергли сразу, однако обстоятельства нападения по-прежнему остаются неясными. Ввиду особой агрессивности преступников приказ об их аресте был отдан еще во Франции, где, говорят, они буквально порвали на куски перевозивших их жандармов.
Там, наверху, в ложе ни о чем не подозревают, потому что потрясения, разыгрывающиеся на сцене, заглушают волнение в зале. Бурный четвертый акт вдруг оборачивается какой-то оперой: любовники гибнут и отправляются прямиком на Небо.
На первом представлении пьесы под звуки арфы на сцене появлялся актер в белой тоге, подпоясанной бечевкой, и с бородой из белой пряжи. Это был Бог, и играл его тот же актер, который во втором акте исполнял роль врача, а в третьем — короля. Этот Бог внушал скорее симпатию, чем страх: немного скандальный, но славный, несмотря на грозные речи. Сегодня же режиссер-постановщик не рискнул доверить эту роль человеку из плоти и крови, положившись исключительно на технологии. Теперь Бог — это целое шоу. Бог — это звук и свет, нечто электронно-симфоническое. Это фейерверк видеокадров, каскад спецэффектов. Бог искусно экуменизирован: каждый узнает в нем своего. Таким воображают Его, когда молятся; таким представляют Его себе атеисты, когда отрицают саму мысль о Его существовании.
Двое беглых французов поддаются соблазну и зачарованно смотрят на это видение загробной жизни. Что неудивительно для тех, кто сам побывал там.
Место, куда они попали, кишело душами, освободившимися от земной оболочки и ожидавшими теперь решения своей участи навечно.
Хотя влюбленные и перестали быть существами из плоти и крови, они сразу нашли друг друга, да им и не пришлось искать, потому что они остались во всем совершенно такими же, какими были в прошлой жизни, — с теми же сомнениями, теми же убеждениями. Стоя на пороге самой великой из тайн, они не задавались никакими вопросами, их не терзало никакое беспокойство, а все муки, которыми им угрожали при жизни, утратили здесь всякий смысл.
*
И вот голос без образа, без лица, голос, который они тотчас узнали, хотя никогда прежде его не слышали, обратился к ним с речью, наводящей ужас своим гневом и категоричностью.
Изначальное Слово отчитывало их с неистовым красноречием.
Влюбленные отдались друг другу, не возлюбив Господа, не поблагодарив Его за то, что Он соединил их. Они даже не пожелали Его таинства, совершив его вопреки своей воле. Ни разу не задумались они, не свершилось ли их счастье по Божьему промыслу, столь беспредельному, что людские умишки не способны постичь Его, по промыслу, выбравшему их Своими посланниками. Они же довольствовались тем, что просто жили, нетерпеливо, эгоистически пользуясь данным им счастьем, не задумываясь о тайне их союза — тайне, которая так и останется неразгаданной для тех, кто будет помнить о них на Земле.
Влюбленные почувствовали не столько страх, сколько глубочайшую грусть. В порицании Всемогущего Господа слышалось разочарование. Его возмущало не попрание ими человеческой морали, а их страшная неблагодарность.
*
Между тем они не покушались ни на чью жизнь, ничего не украли, не совершили никакого преступления. Более того, за безобразное попустительство самим себе они заплатили своей, такой короткой жизнью, и это в конце концов тронуло Бога.
После чего Он принял их в Свое лоно, и они стали навеки избранными. Им предстояло познать новое состояние, непостижимое для человеческого разума: и для тех, кто не чужд мистики, и для тех, кто особо чувствителен к обещаниям райской жизни, и для тех, кто проникается аллегориями духовного плана, и для самых эрудированных, прекрасно разбирающихся в Священном Писании, но при этом не имеющих достаточно развитого воображения, чтобы представить себе такую общность душ.
*
Тысячи и тысячи смертных — мужчин и женщин, — страдавших, боровшихся в земной своей жизни, но при этом никогда не забывавших возблагодарить Господа, пребывали здесь, свободные от суеты, от конфликтов, от всяческих подлостей, от смехотворных искушений, от низких мыслей. Постыдные воспоминания не загромождали больше их память, хранившую отныне лишь самые славные моменты их жизни, которыми они охотно делились, ибо все души отныне были связаны между собой, все они сообщались, образуя единое сознание, бесконечное, совершенное, постоянно обогащающееся вновь прибывшими, привносившими в него все, что было в них самого лучшего. Здесь были собраны все эпохи, все цивилизации, всё знание мира, и в этом вселенском сплаве ближе всех к Богу оказались души тех, кто своей жизнью способствовал тому, чтобы человек стал немного лучше, кто помогал ближнему, бескорыстно протягивал руку помощи, кто просвещал нищих духом, защищал слабых, утешал скорбящих; эти души были гордостью Творения.
*
Для тех, кто переступал порог этого пантеона, наставала эра блаженства. Состояния, которое, если сравнить его с человеческими эмоциями, могло бы соединить все самые благородные чувства в одно. В нем была и радость выполненного долга, и чувство покоя от обретения пристанища, и радость выздоровления после долгой болезни, и гордость быть избранником Всевышнего. Только это потрясающее состояние — высшая награда — и позволяло принятым здесь душам безбоязненно встретить вечность.
Непримиримые любовники, избавившиеся от своей дерзости, были теперь достойны познать высшее блаженство. После земных испытаний они обрадовались этой безмятежности, и их души влились в райское сообщество.
И пусть теперь проходят тысячелетия.
*
Но вскоре эту чудесную гармонию нарушило одно любопытное явление. Это было что-то вроде фальшивой ноты в божественном хоре. История этой пары и неразрывных уз, столь прочно связавших их когда-то, стала известна всем душам, соединившимся в этом месте еще на заре времен. И вместо того чтобы влиться в конечное сознание, эта история неожиданно его взволновала.
Можно было подумать, что те узы по-прежнему связывают их — прочнее, чем любые другие. Что великому духовному братству эти двое все еще предпочитают свое былое согласие. Что все приобретенное ими здесь знание, весь опыт выглядят для них весьма бледно по сравнению с их земными воспоминаниями.
*
Но и это было не самое тревожное.
Под их влиянием избранники стали возвращаться к своим историям. И мало-помалу вернулись к худшему из человеческих чувств. К самому неожиданному на столь безмятежной территории.
Некогда они трудились, чтобы сделать мир менее жестоким. Их любовь вдохновлялась Божьей любовью к своему Творению. Движимые самой прекрасной из добродетелей, они посвятили себя общему благу. Им никто ничего не внушал — они сами примкнули к самым щедрым, самым великодушным, и их доброта и чистосердечие не имели себе равных.
Но любили ли они хоть одного из своих ближних больше, чем себя самих? До потери рассудка? Знали ли они, как пылает любовью сердце? Как загорается все тело при одном только прикосновении другого человека? Умирали ли от нетерпения, когда этого человека не было рядом? Готовы ли были пойти против самого Бога, против людей, против смерти ради одного-единственного человека?
Небесные избранники все как один усомнились, что когда-либо знали, что означает слово «любить».
Хуже того: они усомнились в том, что когда-либо были живыми людьми.
Может быть, они упустили что-то во время своего мимолетного пребывания на Земле? Это «что-то» могло длиться не дольше мгновения, но им его уже никогда не наверстать, и даже вечного блаженства не хватит, чтобы утешить их.
*
И весь рай затосковал.
*
Пришлось Богу принимать исключительные меры. Разве можно допустить, чтобы эти двое неблагодарных, не умевших распорядиться Его милосердием, нарушили покой и великолепие Эдема?
Уже второй раз наносили они обиду Всемогущему, и Он придумал для них тяжелейшее испытание.
Он отпустит их, пусть снова живут в мире живых, но по отдельности: это станет для них настоящим наказанием и единственным шансом искупить свою вину.
И Господь отправил их на край земли — каждого на свой.
После чего окончательно от них отвернулся.
Спектакль в Театре Чикаго прерывается как раз перед развязкой: вернувшись на Землю, влюбленные осуждены разыскивать друг друга. Но внезапно сцена превращается в зрительный зал, а зал — в сцену, когда в партере, откуда ни возьмись, появляются вооруженные люди. Вооруженные, но очень осторожные: подозреваемые, как известно, опасны.
И тем не менее они кажутся такими слабыми, беззащитными там, наверху, да и бежать им некуда. Всё, конец гонке. Скоро им наденут браслеты на запястья и на щиколотки, переоденут в оранжевые робы, запрут в разные камеры. Они это уже проходили, только на этот раз им не выжить.
В партере кто-то из смельчаков интересуется у полицейских, почему прервали спектакль, в ответ ему велят сидеть тихо, максимум через пять минут все будет в порядке и спектакль продолжится.
Среди зрителей слышится свист, тут и там кто-то встает с места, словно классик английского театра позволил себе какой-то нежеланный оборот. Все следили за печальной судьбой осужденных, злобный король, казнь, палач, ликование черни и все такое. Сегодня им дадут шанс. Ведь так редко бывает, чтобы зрителям, пришедшим на спектакль, представился случай переписать финал по-своему. Некоторые даже пытаются помешать властям; спроси их в эту минуту, зачем они это делают, они не смогли бы ответить. Конечно же, это высокие идеалы, задействованные автором пьесы, взбудоражили умы: ведь тот, кто, доверившись рассказчику, с головой уходит в его рассказ, естественно начинает примерять на себя добродетели его персонажей. Конечно же, рефлекторное недоверие к любому авторитарному вмешательству, тем более в таком священном пространстве, как театр, сплотило ряды недовольных. И хотя никто не смог бы четко назвать причину такой солидарности, общий порыв становится неудержимым, и зрители, которые, бывает, встают ради оваций, сейчас поднимают такой шум и гам, которого не пережил бы и худший из актеров; они вскакивают со своих мест, заполняют проходы, так что полицейские вскоре растворяются в этом потоке. А ложа беглецов уже опустела, они сбежали, как того и хотела толпа. Сбежали, унося в памяти последнюю картину происходящего на сцене действа.
Исполнители двух главных ролей, превратившись в зрителей, аплодируют беглецам. Какое-то мгновение все четверо разглядывают друг друга, узнают, улыбаются, машут рукой. Происходит передача эстафеты. Отныне сборщица ягод и зверолов из легенды будут иметь лица этих актеров, вложивших столько страсти в исполнение их ролей.
Влюбленные мчатся вниз по лестницам, устремляются в коридоры, которые указывают им билетерши, и вот они уже в переулке, где громоздятся мусорные баки соседних ресторанов. Слышится вой сирены, они бегут прочь, теряются в толпе, замедляют шаг, идут словно простые горожане, затем снова пускаются бегом, совершенно не ориентируясь в незнакомом городе. Но Бог XXI века — весь из света и музыки — на этот раз не может их разлучить.
Она очнулась на зеленом газоне, пригвожденная к нему земным притяжением, снова при каждом движении ощущая тяжесть. Глаза ее до краев наполнились солнцем, и мало-помалу знакомые ощущения — ветер в волосах, тепло на коже, свежий травяной запах — успокоили ее.
Она поднялась на ноги, сделала несколько неловких шагов до ближайшего дерева, чтобы уцепиться за него. Дерево было незнакомое — с мощным, толще, чем у дуба, стволом, с устремленными к небу, будто факелы, ветвями. Отпустив его, она рискнула пройти по тропинке, дрожа, как ребенок, делающий первые шаги, опьяненная своим успехом. Постепенно она приходила в себя, вспоминала свою историю: как попала на небо, как возвратилась в этот, шумевший вокруг нее мир.
Однако окружающий пейзаж, состоявший из грязных канав, поросших странными коричнево-красными растениями, был ей совершенно незнаком. Неужели природа так изменилась? Сколько веков прошло с ее небесного путешествия? Радость ощутить себя вновь живым человеком понемногу отступала: в каком бы месте, в какую бы эпоху она ни находилась сейчас, она чувствовала какую-то незавершенность, ей словно не хватало какой-то части себя самой, и притом лучшей части.
Нечто похожее на ящерицу, весьма упитанную и не зеленого, а желтого цвета, заставило ее ускорить шаг. Живот у нее подвело от голода, и она направилась к склону холма, усаженному деревьями с дивными красно-золотыми яблоками, будто ниспосланными свыше. В ней проснулась сборщица ягод, и она представила себе, как наполняет яблоками корзину, но ограничилась лишь несколькими плодами, засунув их себе под блузу. Затем она пошла по склону, который показался ей рукотворным и состоял из террас, покрытых коротко стриженной травой. Воздух был теплым, она подумала, что сейчас май, и улыбнулась, услышав кряканье целой стаи уток. Она вознесла молитву, чтобы ее возлюбленный очутился в таком же благодатном краю, как и тот, по которому скиталась сейчас она. Искать его где-нибудь поблизости не стоило: где бы он ни находился сейчас, его отделяло от нее самое огромное расстояние, какое когда-либо преодолевал человек, — в этом и состоял главный смысл проклятия. Чтобы как можно скорее найти дорогу, которая приведет ее к нему, она отправилась на поиски цивилизации.
*
Он проснулся будто после кошмарного сна. Еще в темноте ощупал он свое тело, проверив все его сочленения, и открыл наконец глаза.
Нарождающаяся заря окрашивала пышную природу в молочные тона. Совершенно сумасшедший лес рос, казалось, во все стороны. Неподалеку на охапках листьев спали люди с красной, дубленой кожей, рядом с ними на расстоянии вытянутой руки лежали луки и копья. Он поспешил отойти подальше, боясь конфликта, из которого явно не вышел бы победителем. Остановился на берегу реки и окунулся в прохладную, кристально чистую воду, чтобы смыть с себя пот и страх. К нему наконец вернулась память, а вместе с ней — внезапная тоска. Ему не хватало чего-то самого главного, и тело, похоже, поняло это раньше разума.
Живший в нем зверолов очень скоро почувствовал себя бессильным среди этой враждебной природы: он не мог ни раздобыть конского волоса для силков, ни загнать дичь в этих джунглях с непроходимыми, словно стена, зарослями. Перед ним возник дикий кот с длинными, украшенными кисточками ушами, на редкость свирепый, — с таким без оружия лучше не встречаться, да к тому же и мясо у него явно несъедобное. Отважившись откусить кусок от торчавшего из земли жирного, продолговатого корня, он тут же выплюнул его. Он решил двигаться строго на север, и вскоре его путь осветился появившимся в прогалинах небом, растительность стала редеть, а духота сменилась легким ветерком. Вдали послышался крик чайки, а почва под ногами стала наполовину песчаной.
Его ждал океан.
Первая мысль, посетившая его, когда перед ним открылся этот чудесный вид, была о ней — о той, которая, вне всякого сомнения, была сейчас там, на другом берегу. Рожденный на суше и никогда в жизни не встречавший моряков, он понял наконец прекрасную одержимость путешественников, отправлявшихся на край света на поиски сокровищ; теперь и он знал такое сокровище, ради которого стоило переплыть семь морей.
Идя вдоль берега, он обнаружил в одной из бухточек следы стоянки, судя по всему, это были военные: на забытых холщовых мешках и ящике виднелись штампы одного далекого королевства. Наверняка это был тот самый отряд, который он увидел двумя днями позже: человек десять той же расы, что и он, в красно-белых мундирах плыли на баркасе. Он не стал махать им, предпочтя отступить в лес, поскольку по опыту знал, что во время военных действий лучше избегать встреч с войсками, откуда бы они ни взялись. В своей первой жизни он встречал немало солдат, и всегда ему казалось, что они действуют по команде, поступающей из одной и той же высшей инстанции. Один раз его пытались силой записать в рекруты, в другой — приняли за врага и стали по нему палить, и только благодаря своему знанию природы и леса он избежал участи пленного, заложника и прочих жертв из числа гражданских лиц. Впрочем, сколько на Земле случилось войн, крестовых походов, нашествий за время его отсутствия? Сколько раз перечерчивали на ней границы и перераспределяли власть? Сколько народов, некогда бывших союзниками, стали противниками, сами не зная почему? Сколько стран сменили названия, язык, способ правления? Кто эти люди в красно-белой одежде, на кого нацелены их мушкеты? Пока у него нет ответа на этот вопрос, он будет держаться опушки тропического леса.
Обследуя местность, он научился распознавать съедобные побеги, залезать на огромные деревья и спать среди ветвей, чтобы не стать добычей зверья. Но однажды, слезая с такого дерева, он увидел, что внизу его поджидают несколько воинов-туземцев, и выглядели они гораздо опаснее любого хищника. Пока ему стягивали сплетенной из лиан веревкой горло и запястья, он размышлял, кто же из людей для него страшнее — те, в военной форме, или эти, в боевой раскраске?
*
Через два дня пути она увидела бамбуковую хижину, за ней другую, потом еще десяток. Ей давно уже не терпелось встретить живого человека, прикоснуться к нему, и она приблизилась к деревеньке, перерезанной каналами с пришвартованными на них узкими лодками с острыми носами. Перед каждой хижиной стояла на коленях женщина и нарезала на узкой колоде траву и тонкие полоски мяса. Они переговаривались между собой, обмениваясь короткими веселыми возгласами, напомнив ей прачек из ее родного села. Их язык, состоявший сплошь из причудливых гортанных гласных, казалось, был создан для того, чтобы в конце фразы на губах говорящих появлялась улыбка. Но улыбка эта сменилась испуганной гримасой, а потом и тревожным криком, когда одна из женщин заметила вдруг непрошеную гостью.
Женщины толпой обступили ее, они трогали ее волосы, щупали ткань ее блузы и юбки. Старшая из них потащила ее за собой и спрятала в закутке, где сушился собранный урожай. Чужестранка не сразу поняла ее поспешность: с полей вот-вот должны были вернуться мужчины, которых ее появление могло озадачить и, может быть, даже рассердить. Тем более что она, возможно, принадлежала к тому племени, которое по два раза в десять лет являлось с запада, сея повсюду разорение.
На следующий день ей задали тысячу вопросов, на которые она не смогла ответить. Ее раздели, чтобы посмотреть, как она сложена, затем надели на нее длинную рубаху из небеленого холста, сплели ей широкополую шляпу из листьев. Не имея иного выбора, она целиком отдалась в руки этих женщин с одинаковыми миндалевидными глазами и медовой кожей, которые говорили все разом. Ее научили основам языка — так она узнала, что находится в «королевстве Сиам», — приобщили к работе на рисовых полях, чтобы она могла внести свою долю в общее дело. Мало-помалу чужестранке открывалась истинная ее роль. Скрывая ее от глаз мужчин, женщины сделали ее своим секретом, своим утешением от власти отцов и мужей. Ее тайное присутствие стало выражением их солидарности и, возможно, самым первым актом независимости.
«Гостью», как ее называли, приняли как родную, всячески ласкали, а она, глядя на мир глазами своих новых подруг, задумывалась, не станут ли из-за этого и ее глаза такими же миндалевидными, как у них. Все же ей не хватало языка — не для общения, не для выражения своей благодарности, а для того, чтобы рассказать, кто она такая, откуда и как скучает по мужчине, с которым каждую ночь видится во сне. Поведав им историю, связывавшую ее с ним, она смогла бы оставить им перед разлукой хотя бы частицу своего утраченного счастья.
Вопреки всем ожиданиям, ей представился такой случай.
Однажды она проходила мимо окон одного деревенского старейшины, который занимался вопросами собственности, и увидела лежащую на ивовой циновке аккуратную связку чистых свитков светло-бежевого цвета, чуть поуже тех, что были ей знакомы, но ровных и гладких. Ей охотно подарили несколько листов этой бумаги, изготовленной из коры тутового дерева, а когда она спросила перо, ей протянули чернильную палочку, обращаться с которой ей пришлось учиться.
По несколько часов в день или даже ночью при свете свечи она взывала к своей памяти из глубины гумна, где обитала, заново проживая эпизоды прошлой жизни, стараясь уместить их на ровных строчках, ибо все они, даже самые горестные, стоили того, чтобы о них помнили. В том и состояло назначение этого документа — сохранить правду об их истории, чтобы другие вдохновлялись ее рассказом. Возможно, только тут ей открылся подлинный смысл ее обучения грамоте, ставшего в свое время причиной такого недоверия к ней.
Закончив свой труд, «гостья» стала готовиться к уходу. Ей было грустно покидать этих женщин, ставших для нее сестрами. Они приняли ее, спрятали, кормили, проявляя в этом особую деликатность, чтобы тело ее привыкло к местной пище, они одели ее так же, как одевались сами, чтобы ее фигура растворилась в окружающем пейзаже, они научили ее своим словам — теперь она знала их вполне достаточно, чтобы самостоятельно добраться до ближайшей гавани. Взамен она оставила им увесистый том размером с небольшой гримуар в надежде, что однажды какой-нибудь эрудит, владеющий и ее, и их языком, прочтет им вслух ее записки. И в тот день все они поймут, кто была эта чужестранка, и обрадуются, что приютили ее.
*
Пленника уводили все глубже в джунгли. У него были связаны руки, а спина исколота копьями, которыми то и дело тыкали его шестеро туземцев, гордые своим военным трофеем. Наконец перед ними открылся коридор из посаженных в ряд деревьев, обозначавших вход в деревню. Вдали вырисовывался высокий — выше холма — храм в форме пирамиды, сложенный из огромных камней, каждый размером с церковный неф. Устремленная вверх лестница, занимавшая середину храма, терялась в облаках, словно приглашая занять место среди богов. У ее подножия несметное число скромных домиков, выстроенных из такого же камня, давали приют шумному люду, где мужчины и женщины выполняли одинаковые работы, а старики и дети играли в одни и те же игры. Белый человек, опутанный веревками, как пойманная дичь, изнемогая от усталости, преклонил колени перед колодцем, как будто это была статуя. Ему протянули миску чистой воды, и он залпом выпил ее под хохот самых юных жителей деревни. За храмом возвышалась бамбуковая клетка в рост человека, сквозь прутья которой можно было просунуть только руку и где могло разместиться человек десять, хотя на тот момент там сидел только один узник.
Он принадлежал к белой расе и был одет в старые, изодранные и черные от грязи китель и штаны явно военного образца, о первоначальном цвете которых теперь можно было только догадываться. Ниспадавшие ему на грудь борода и спутанные волосы красноречиво говорили о времени, проведенном несчастным в этой клетке. Он вскочил на ноги, приветствуя нового жильца, который своим появлением сразу рассеял его тоску и отчаяние.
Альваро Сантандер, уроженец Кастилии и профессиональный солдат, участвовал во всех военных конфликтах, сотрясавших Старый Свет, в том числе и в попытке свержения Филиппа Орлеанского в 1718 году, что объясняло его отвратительный французский язык с сильным испанским акцентом. Когда его отправили в Новый Свет, он, едва ступив на берег, дезертировал в надежде, что в обеих Америках окажется достаточно места, чтобы о нем забыли, а он тем временем сделал бы себе состояние. Пока стрелка его компаса не пересеклась со стрелами уакани — краснокожих воинов, которые, казалось, с незапамятных времен имели на него зуб — лично на него, абсолютно непричастного к преступлениям, совершенным его единоверцами. Наконец-то француз получил ответы на вопросы, терзавшие его с самого возвращения на грешную землю: оказывается, он находился на Американском континенте и на дворе стоял 1721 год.
Терпя оскорбления от мужчин, насмешки от женщин и издевательства от детей, Альваро в конце концов научился понимать их странный язык и говорить на нем. С этого момента его тюремщики стали развлекаться, в изысканных выражениях предрекая ему самый страшный конец. Товарищ по заключению спросил его, почему дикари, испытывая по отношению к нему такую враждебность, так долго не лишают его жизни: ведь они могли казнить его сразу же.
С самого своего пленения несчастный тысячу раз считал себя на волосок от смерти, так что этот вопрос стал для него навязчивой идеей. В самом начале он вообразил, что его берегут для какого-то жертвенного ритуала. Но день жертвоприношения все не наступал, и он решил, что индейцы считают его не пленником, а неким экзотическим животным и приходят посмотреть на него ради развлечения. Но теперь он знал правильный ответ: сохранив ему жизнь, племя сделало из него нечто вроде дьявольского военного трофея, живое напоминание о полчищах заморских врагов, явившихся, чтобы погубить их цивилизацию. Теперь этот варвар был безопасен и выставлен на всеобщее обозрение, чтобы все видели его бессилие, а значит, меньше боялись его и готовились морально с ним сразиться и победить. Забавная доля для человека, который бросил собственный народ как раз для того, чтобы не сражаться с другим.
Француз удивился: если они оба должны воплощать в глазах местного населения образ ужасного колонизатора, не является ли один из них лишним? Может, второго следует использовать иначе?
Едва он успел задать себе этот вопрос, как сам нашел ответ на него: как лучше всего показать зверство белых варваров? Только заставив их убивать друг друга. Эту битву и ожидали увидеть все вокруг, по-своему разжигая страсти.
*
Она не останавливаясь прошла через несколько селений и наконец достигла порта Пхонпаи на Китайском море. Из всех пришвартованных там судов только два казались достаточно прочными, чтобы пересечь океан; одно из них, под португальским флагом, готовилось к возвращению на родину с заходом на южную оконечность Индии. На нем она и остановила сначала свой выбор.
Появление на палубе женщины заинтриговало матроса, который вызвал лейтенанта, а тот в свою очередь велел разыскать члена экипажа, говорившего по-французски. Она заявила, что хочет вернуться в Европу, и, ничего не зная о таких долгосрочных переходах, сказала, что в качестве платы за проезд готова на любую работу: драить палубу, чистить трюмы, помогать на кухне, прислуживать офицерам. После того как ее длинная речь была переведена на португальский, три десятка матросов разразились таким хохотом, что корабль заходил ходуном, как будто при бортовой качке.
Лейтенант, затянутый в камзол с золочеными пуговицами и в пудренном парике, похвалил барышню за недюжинную храбрость, с которой могла сравниться только ее же наивность: как, в ее представлении, проведет она целый год в море среди сотни громил-матросов с манерами, которые он охарактеризовал словом «грубые»? Кроме того, неужели она не знает, что моряки не терпят на борту женщин, поскольку они приносят несчастье? На ее вопрос, откуда взялось это глупое суеверие, он не смог ответить, но заверил ее, что при малейшем осложнении, как то: нападение пиратов, цинга, кораблекрушение, — ее объявят виновной и без разговоров отправят за борт.
Когда в ответ на это она заявила, что хочет попытать счастья на другой каравелле, стоящей там же в порту, лейтенант оставил свою иронию: уж на том-то судне ее примут с распростертыми объятиями. Тамошние матросы — самые отъявленные флибустьеры, какие только бороздили когда-либо океан, — не боялись никаких суеверий, как и бед, которые могла бы принести им женщина. А вот ей следовало поостеречься грубого обхождения со стороны этих бандитов.
Действительно, подходя ко второму судну, она увидела несколько человек, занимающихся погрузкой каких-то товаров, и были эти люди так грязны, так оборваны, что она посчитала их ненастоящими моряками. Один из них зловеще поглядывал на нее, другой выкрикнул какой-то комплимент, сомнительность которого она поняла без труда. Наблюдая, как они управляются с мясными тушами и бочонками с ромом, она поняла, что, приняв их предложение, сама станет для них пищей, только другого сорта.
Она почувствовала себя судном, выброшенным на мель гигантской волной, и так будет во всех гаванях мира. Она снова побрела прочь, не зная, кем была отвергнута: самим морем или бороздившими его людьми. Значит, она обречена путешествовать по суше? Что ж, ничего не поделаешь. Время отныне не в счет — только расстояние, и с каждым шагом оно будет сокращаться. Нетерпение внезапно покинуло ее: она нашла кратчайший путь.
*
Не дожидаясь начала братоубийственной схватки, француз стал убеждать испанца не попадаться в расставленную им ловушку. Почему бы им вместо бесчеловечности, в которой их обвиняли туземцы, не продемонстрировать своим тюремщикам полную ее противоположность? Что они потеряют, если предстанут в совершенно ином свете, покажут себя не завоевателями, а такими, какие они есть в глубине своей души? Он задумал рассказать уакани, как был когда-то осужден, казнен и как вернулся из страны мертвых.
Слушая его, Альваро терялся в догадках: похоже, его товарищ по несчастью, попав в плен, тронулся умом и страдает каким-то сказочным бредом, на что способен только мощный, но в то же время больной рассудок. Если только все эти умопостроения не были признаком исключительной хитрости, которая, если ею половчее воспользоваться, могла помочь им избежать верной смерти.
Туземцы, относившиеся, естественно, с недоверием к россказням этих поверженных хищников, не смогли устоять перед историей, в которой говорилось о потустороннем мире: тут было чем разжечь их вечное суеверие, ибо они верили в воскресение после смерти, а их легенды изобиловали духами и призраками. Что касается кровавой битвы, то, собравшись в тот вечер всем племенем вокруг клетки с пленниками, туземцы стали свидетелями неожиданного зрелища.
Рассказчик описывал совершенно другую природу и климат, чем здесь: там четыре времени года сменяли друг друга, причем первое было такое лютое и холодное, что люди могли ходить по воде и переходить пешком затвердевшие реки. Отдельный рассказ он посвятил описанию животных, населявших хлева и птичники, изображал их крики и пение, чем привлек множество новых слушателей. Затем он остановился на своем ремесле — звероловстве, поведав, как ловко умеет расставлять силки, как терпеливо умеет ждать, что вызвало немало шуток со стороны настоящих охотников. Наконец настало время для главной истории, ибо все, что случилось в его жизни до того, было лишь прелюдией к встрече с единственным и неповторимым созданием. Описывая ее манеры и изящество, он так увлекся подробностями, что переводчик, исчерпав весь свой словарный запас, прибег к образам, почерпнутым из собственных воспоминаний о Библии. Затем рассказчик описал их первую встречу, изобразив этот миг как свое второе рождение — наделенное всей остротой рождения первого ощущение внезапного возникновения из небытия, когда ты переполнен энергией, когда впервые испытываешь все пять чувств. Индейцам, захваченным столь пылким повествованием, вдруг привиделась тень женщины, явившаяся рядом с тем, кто ее воспевал; вскоре воображаемый силуэт окрасился в реальный цвет человеческого тела, а глаза засверкали во мраке. Не в силах оторвать взгляда от губ рассказчика, туземцы сами превратились в пленников, а узник стал их тюремщиком.
Когда он рассказывал об их жизни в деревне, о неприязни, которую вызвали они у односельчан, и мужчины, и женщины племени представляли себя не на месте последних, а исключительно главными действующими лицами этой истории — пылкими влюбленными, навлекшими на себя всеобщие проклятия. Когда же его рассказ дошел до суда и вынесенного им приговора, утвержденного впоследствии самим королем, они засвистали и загикали, выражая таким образом свое недовольство бесчеловечностью властей, правивших в тех краях. Но все это было ничто по сравнению с главой о небесах, где присутствие рассказчика и его возлюбленной было объявлено нежелательным. Да уж, их бог действительно жесток, раз он прогнал такие миролюбивые, такие любящие души.
Когда рассказ был окончен, индейцы поняли, в чем состоял глубинный смысл появления среди них этого белого человека. Они перестали видеть в нем чужака, нет, это был как бы разведчик, пришедший к ним, чтобы увидеть истинную цивилизацию, гуманную и развитую, а затем рассказать о ней своим погрязшим в варварстве соотечественникам. И его приход должен быть отныне записан в историю их рода. Каменотес сразу приступил к работе.
Пленникам позволили свободно передвигаться по деревне, их стали прилично кормить, им выделили хижину, чтобы они могли отдохнуть в темноте, перед тем как уйти. Сушеное мясо, фляга с водой, копье с кованым наконечником, золотой медальон с выгравированной на нем эмблемой племени — вот что бывшие узники унесут с собой, кроме воспоминаний об уакани, жестоких, но способных внять голосу искренности. Проходя мимо храма, они узнали на одном из барельефов знакомые обоим сцены — одному, потому что он их прожил, другому, потому что он их переводил. Там были изображены мужчина и женщина без одежды с отрубленными головами, их окружало несметное число символов — крест, солнце, руки, пламя, — большей частью непонятных для непосвященного. На другой плите фигурировали двое мужчин в клетке, а затем они же, вооруженные копьями, среди деревьев и диких зверей. «Кто бы это мог быть?» — спросил испанец у своего напарника, на что тот ответил: «Это два белых дьявола, у которых было сердце».
#runninglovers.
Минут через двадцать после полуночи она ведет машину по восьмиполосной автостраде в направлении Кливленда, он в это время обнаруживает через свой смартфон, что в социальных сетях им уже присвоен хэштег. Фото с ними из Театра Чикаго выложены в Сеть. Отрывая глаза от дисплея, он всматривается в небо — не сверкают ли среди звезд огни вертолета.
Если бы их не объявили в розыск, они ехали бы сейчас в противоположном направлении, в Колумбию, на поиски пирамиды — последнего следа цивилизации уакани. Никогда уже ей не увидеть своими глазами барельефы, испещренные символами, значение которых науке до сих пор неизвестно. Конечно, она видела их в Интернете, но только стоя перед самим камнем, можно испытать это чувство, которое столько раз описывал ей муж.
Он ведь уже отказался от мысли прочесть однажды тот манускрипт, написанный на коре тутового дерева, который несколько веков хранился в библиотеке одного буддистского монастыря, а сейчас является собственностью консульства Франции в Чиангмае, в Таиланде. До сих пор не было опубликовано ни одного его списка.
Та, что написала его, испытывает от этого факта скорее облегчение, чем сожаление. Те времена, когда влюбленные стремились рассказать свою историю, давно прошли. Сегодня они все отдали бы ради того, чтобы их следы чудесным образом исчезли как из людской памяти, так и из письменных источников. Забредя в театр, они совершили ошибку: им захотелось повернуть время вспять, они стали умиляться на самих себя. Что это было — тоска по прошлому или гордыня, — они не знали, но, возгордившись своим хаотичным прошлым, они подвергли себя опасности.
Пришло очередное сообщение с хэштегом #runninglovers. Какой-то француз заявляет, что он на их стороне, и призывает их ничего не бояться. Он может быть спокоен: слишком много чести этому современному миру, чтобы его еще и бояться.
Странствуя по Китайской империи, путница предпочитала останавливаться в городах, где надеялась остаться незамеченной. Если торговцы не выказывали к ней неприязни, она находила себе местечко на рынке, чтобы продать то, что насобирала в пути, затем на свой страх и риск шла в кварталы, считавшиеся опасными, в надежде встретить там какого-нибудь искателя приключений, прибывшего из ее страны, и удостовериться, что страна эта все еще существует. Она не встретила ни одного.
Проходя через гористую и очень зеленую местность, она нанялась вместе с другими сезонными рабочими на сбор неизвестного ей прежде растения, из которого готовили терпкий, душистый напиток, намного крепче всех других отваров, которые ей доводилось пробовать. Днями напролет она наполняла корзины чайными побегами, пачкавшими руки, раздражавшими глаза и ноздри. Вечерами, проглотив свою чашку риса, она делила короткие минуты отдыха с компанией сборщиц. Те спросили женщину с белой кожей, светлыми глазами и длинным носом, неболтливую и трудолюбивую, откуда она родом. При помощи нескольких известных ей слов она ответила: «Я ищу мужа». Что страшно развеселило всех присутствовавших.
Несколько молодых людей, решив, что она хочет выйти замуж, подошли поближе. Но она быстро охладила их пыл: у нее уже есть муж, сказала она, «он сейчас на другом краю света, бог знает где». Что снова вызвало взрыв хохота и взбодрило тех, кто уже падал от изнеможения. Когда ее спросили, не сбежал ли ее дорогой муж с другой, помоложе, побогаче и покрасивее, она ответила: «Я ничего не знаю о нем с тех пор, как мы упали с неба». В тот вечер все позабыли об усталости, о ломоте в натруженных спинах: если чай обладал бодрящими свойствами, то у этой свалившейся с неба женщины этих свойств было не меньше. Она отважилась продолжить свой рассказ, тщательнее подыскивая выражения, ей стали помогать, заканчивая за нее фразы, несмотря на их невероятный смысл. Особенно восхитило слушателей то место, когда супругам пришлось заплатить сборщику податей, чтобы их оставили в покое, и еще больше — эпизод, в котором сам король потребовал, чтобы они его исцелили. Когда ее спросили, как они выпутались из этой скверной истории, она ответила: «Очень плохо, нам отрубили голову!» Чужестранка порадовала работников своим захватывающим рассказом, и на следующий день, на плантациях, с корзиной за спиной, они повторяли их как удачные остроты. Все полюбили эту женщину, пришедшую издалека, чтобы повеселить их, и, независимо от того, верили они или не верили ее небылицам, все были тронуты тем нежным чувством, которое связывало ее с супругом, существовавшим лишь в ее мечтах.
Когда урожай был собран, а деньги за работу получены, все уговорились встретиться через год. Один юноша сообщил женщине, упавшей с неба, ценные сведения: менее чем в десяти днях ходьбы отсюда находится город Шиньсяо, откуда берут начало торговые пути на Запад. Он сам работал у именитых купцов, которые подумывали нанять гувернантку из западных стран. Там, проявив немного терпения и выдумки, чужестранка могла бы найти способ вернуться на родину, отправившись туда по Великому Шелковому пути или Дорогой Пряностей.
За время странствий она научилась управляться с тремя кусками ткани, из которых состояло ее одеяние: один закрывал ей ноги (или открывал — когда ей приходилось переходить вброд реку), другой охватывал стан и грудь, а третий то покрывал голову, то прикрывал макушку, то скрывал лицо. Шагая в таком виде, она напоминала гравюру из Библии — то ли странствующий апостол, то ли пророк, открывающий пути своему народу.
*
Испанец и француз добрались наконец до цивилизации, уже порядком подзабывшейся им за время многомесячного плена. В порту Тейягуэка теснились военные и торговые суда, толпились моряки, радуясь, одни — что ступили наконец на твердую землю, другие — что скоро ее покинут. Не имея ничего, что можно было бы обменять на деньги, приятели вынуждены были избавиться от драгоценных медальонов, подаренных уакани, продав их ювелиру, который тут же их переплавил, чтобы продавать на вес. Побрившись, одевшись и поев, они отправились на поиски кабачка, который собирались покинуть лишь после того, как напьются до потери сознания.
Первый же стакан рома привел их в отличное расположение духа, но пересохшая глотка требовала продолжения. После третьего стакана они позабыли про все невзгоды, про плен, про джунгли. После четвертого сама мысль о несчастьях вылетела у них из головы. После пятого Альваро, охваченный тоской, разоткровенничался.
Он признался, что, покидая родину, оставил там женщину, нежную и простодушную, которая отдалась ему, обесчестив себя в глазах добропорядочного общества. А он, вместо того чтобы вернуть этой донье Леонор попранное достоинство, попросив ее руки, предпочел завербоваться, и сделал это не из жажды приключений, а попросту сбежал от собственной низости, от стыда, что так легко поверил в безнравственность своей юной возлюбленной. Единственным, кто из них двоих утратил достоинство, был он: ведь она уступила его страсти, он же — требованиям морали. Он уже думал, что позабыл об этом бесславном эпизоде, но только до той бессонной ночи, когда, переводя рассказ своего товарища, чтобы разжалобить туземцев, понял, сколько людской злобы пришлось тому вынести ради любимой.
Его приятель, достаточно пьяный, чтобы разделить его горе, предложил вернуться вместе с ним на старый континент. Если он чувствует себя таким виноватым, почему бы ему не попытаться искупить свою вину? Не столько перед добропорядочным обществом, сколько перед этой женщиной, которая, вероятно, все время думает о нем и вовсе не так плохо, как он себе это представляет. Испанец поблагодарил его, но наотрез отказался. Бывшая возлюбленная наверняка нашла себе мужа, который смог ее утешить и избавить от печального прозвища, которым наградили ее после бесчестья: Сольтера — одиночка, старая дева.
Альваро поклялся тем не менее искупить свою вину, обозначив таким образом цель своей скитальческой жизни. Может быть, ему удастся восстановить где-нибудь справедливость, помочь какой-нибудь презираемой всеми женщине, выступить против предрассудков: наконец-то перед ним открывалась перспектива настоящего приключения.
На следующий день, все еще с затуманенной хмелем головой, они распрощались. Один собирался отправиться в северную часть Американского континента, который еще предстояло завоевывать и завоевывать, другому путь лежал за океан, в родные края. Они пожелали друг другу исполнения желаний, по-братски обнялись, затем один пошел по направлению к порту, другой — к причалу, где швартовались торговые суда. Там он нашел корабль под французским флагом, который как раз готовился поднять якорь.
Пузатый галион под названием «Божья Благодать» обычно перевозил хлопок или табак, но за приличную плату брал и пассажиров — купцов, сопровождавших свой товар, или помощников нотариуса, в чьи обязанности входило оформление прав собственности на заморские концессии. Одна каюта была свободна, и единственный, кто, благодаря проданному медальону, имел достаточно средств, чтобы претендовать на нее, стоял сейчас на палубе. Однако, прежде чем предоставить ему место, капитан выдвинул одно условие:
«Сударь, пассажиры, уже находящиеся на борту, производят весьма жалкое впечатление. Болтовня этих стряпчих и лавочников просто невыносима. Я бы предпочел не видеть их за столом, пусть сидят у себя в каютах, падая в обморок при первом шторме. Плаванье и так будет долгим, мне же оно покажется вдвое длиннее, если по вечерам я буду вынужден коротать с ними время. Я плавал с великими путешественниками, ходил смертельно опасными курсами и устал от всех этих россказней, которые гуляют по морям с допотопных времен. Так вот, я готов предоставить это последнее место у себя на судне тому, кто сумеет развлечь меня разговором, и чтобы этот разговор был оригинальным, а главное — нескучным. Убедите меня, что вы и есть тот человек!»
«Я расскажу вам о том, как повстречал женщину и как меня с ней разлучили», — ответил тот. Его собеседник сразу приуныл: «Нет человека, который не пережил бы такую историю, — сказал он, — весьма печальную для того, кого она коснулась, и совершенно невыносимую для того, кто вынужден ее слушать».
Но рассказчик уже начал свой рассказ — неслыханный и богато сдобренный яркими подробностями, прервав его на том самом месте, где два палача одновременно заносят топоры, чтобы казнить несчастных влюбленных. Продолжение он приберег на потом, чтобы рассказать его во время путешествия, конечно, если его возьмут в плавание.
Капитан немедленно принял на борт человека, обладающего столь богатым воображением, что все моря и океаны ему нипочем. Ему и правда не терпелось поднять якорь, чтобы поскорее узнать, что же приключилось дальше с влюбленными, оказавшимися в таком неприятном положении — с головой на плахе.
Увы, никакого продолжения пассажир ему не расскажет, он и сам не знал его. К тому же он, похоже, собирался все плавание провести в каюте на койке, казавшейся ему после стольких ночей, проведенных в клетке и в джунглях, мягчайшей из постелей. За столом в кают-компании его сочтут обманщиком. Но слишком поздно — не поворачивать же из-за него обратно.
*
Прибыв в город Шиньсяо, она без труда нашла дом тех богатых купцов, которые нанимали и увольняли людей по своей прихоти. Хозяйка, которую очень заинтересовала эта белая женщина, сама явившаяся к ней, действительно искала компаньонку, воспитанную в хороших западных манерах. Ей были любопытны нравы и обычаи Французского королевства, и она хотела знать, как тамошние владетельные сеньоры содержат дом и ведут хозяйство.
Француженка, которая одно время служила в замке, поведала ей о том, чем занимались благородные господа, как проходила их жизнь, особенно подчеркивая их высокомерие и грубость. В промежутке между занимательными историями хозяйка дома снабжала ее ценными сведениями о торговых караванах, отправляемых ее мужем в Европу.
Их разговоры стали ежедневными, приобретая все более задушевный характер, и вскоре хозяйка стала поверять компаньонке свои сокровенные мысли. Она жаловалась ей на равнодушие мужа, из-за которого ее и заинтересовали так манеры мужчин в дальних странах. Их брак был устроен родителями, но, несмотря на это, ей повезло: муж оказался довольно красивым, обходительным, веселым юношей. Однако теперь, после двадцати лет совместной жизни, она говорила о нем как о человеке расчетливом, занятом исключительно своими делами, которого не дождешься ни за столом, ни в постели. Конечно, у всех так — девушка выходит замуж, становится матерью, и юноша, ставший ее мужем, а затем отцом ее детей, в конце концов теряет к жене интерес. Потому что все молодожены мира постепенно понимают, что мужчинами и женщинами движут противоположные интересы, несовместимые желания, и время лишь обостряет эти противоречия, которые становятся опасными, как удар клинка. Самые рассудительные умеют избегать раздоров и лжи, они появляются на людях рука об руку и слышат, как при их появлении все говорят: «Вот удачный брак».
Не ей судить о долговечности супружества, сказала француженка, ведь ее брак, увы, погубили в самом начале, когда для них с мужем все было ново, когда они только учились подчиняться друг другу. Кто знает, может быть, и она через двадцать лет совместной жизни, тоже познала бы такое же равнодушие, такое же постепенное ухудшение отношений? Правда, как может надоесть мужчина, который так тебя уважает, так внимательно слушает, смотрит с таким восхищением, во всем поддерживает тебя и утешает?
От нее потребовали разъяснений, и она рассказала свою историю, чем вызвала ярость хозяйки: она-де так искренне поделилась с ней своими женскими горестями, а в ответ услышала одни насмешки, ибо как иначе назвать бредни этой чужестранки, изображающей из себя какое-то исключение, лишь подтверждающее правило?
«Врунья! Обманщица! Плутовка! Вы все сейчас же повторите моему мужу, который нажил свое состояние, торгуя, помимо прочих товаров, еще и рабами!»
Муж, привыкший к жениным причудам, выразил неудовольствие оттого, что его втягивают в эту пустую болтовню. Однако, слушая рассказ чужестранки, он забыл о своем раздражении. Он даже попросил ее подробнее рассказать об эпизоде, когда на суде она выступила в защиту своего возлюбленного. И о том, как они вместе бесстрашно воспротивились самому королю. Когда она закончила, он горячо поблагодарил ее, после чего обернулся к супруге: «Теперь вы видите, чего муж вправе ожидать от своей жены?»
Что так удивляться этим чужеземным нравам? Может, не нужно дожидаться, пока они дойдут сюда из такой дали, а пора взять их на вооружение? Когда-то он женился на доброй девушке, подчас наивной, но такой остроумной! Однако, когда семья встала на путь процветания, он вдруг обнаружил рядом с собой женщину суровую, озабоченную соблюдением всех условностей этикета, страстно желавшую ввести всю эту чушь у себя и злившуюся, что у нее это не получается. Теперь их разговоры сводились только к этому. Из них двоих она была главной, она вела счет всем их раздорам, быстро подсчитывая, сколько дает сама, неблагодарно забывая, сколько получает, суммируя промахи, забывая при этом вычитать знаки внимания, оценивая чужую нерадивость, забывая про свою собственную. Ах, если бы у его жены были такие же убеждения, как у этой чужестранки, он, несомненно, не стал бы так рьяно заниматься своими делами!
Лишившись внезапно статуса жертвы, супруга тут же начала войну — не на жизнь, а на смерть.
И эта война показала, с какой страстью ненавидят они друг друга. Долго сдерживаемые обиды сыпались как из рога изобилия, это было похоже на вулкан, который веками пережевывал свою лаву и вдруг в одну ночь извергнул ее наружу. Они проклинали поженивших их родителей, уродовали общие воспоминания, осмеивали самые интимные подробности совместной жизни, раскрывали темные тайны, о которых до сих пор предпочитали молчать, мало того: они опошлили и разорили все, что построили, и едва удержались от рукоприкладства, не решаясь нанести последний удар, который навсегда избавил бы их друг от друга.
На смену бешенству — которое странным образом напоминало страстность первых лет — пришла горечь, когда каждый из них с холодной головой признал, что их супружеская жизнь рухнула окончательно. Доводам не было числа, иногда они оба соглашались с ними, с удивлением обнаруживая в противнике прежнюю искренность. Затем, когда казалось, что все погибло, их сердца сжались от незнакомого чувства, имени которого они не знали, — что-то между тоской по прошлому и раскаянием. Ссора постепенно перешла в самокопание, во взаимные признания, каждый принялся обвинять самого себя. На рассвете они составили список необходимых решений, подписали пакт и бросились друг другу в объятия.
Чтобы отблагодарить чужестранку — которая никогда больше не будет считаться таковой в их доме, — они попросили ее высказать какое-либо пожелание, что она немедленно сделала, настолько безотлагательна была эта просьба.
Хозяин начертил ей точную карту маршрута до Франции, научил ее пользоваться компасом, а затем снарядил повозку, сказав, что отныне она не будет путешествовать в одиночку. Она решила, что ей дадут осла, вечного спутника рабочего люда и путешественников. Но, к ее удивлению, из сарайчика появились два молодых пса — крепкие, как два маленьких льва, рыжие, с короткими лапами, острыми, торчащими вверх ушами, пушистым хвостом, густой шерстью и синими языками. «Это братья чау-чау; мы используем эту породу как для перевозки товаров, так и для охраны — уж очень они свирепы к чужим. А эти отличаются от других щенков большим умом: чего не надо видеть, не видят, чего не надо слышать, не слышат. Тот, кто попытается подчинить их себе, никогда не дождется от них преданности: уважайте их, относитесь к ним как к спутникам, а не как к скотине, ставьте не на послушание, а на доверие, и они довезут вас куда надо».
Хозяин в последний раз проверил упряжь, сказал несколько слов псам, обращаясь к ним как к путешественникам, отправляющимся в неведомые страны, и пожелал француженке счастливого пути. Глядя им вслед, он не смог бы с уверенностью сказать, кому кого препоручил — женщину собакам или наоборот.
*
Гигантская волна высотой с замок обрушилась на «Божью Благодать», ломая одну из мачт. После второй волны матросы заметались по палубе, словно пассажиры «Корабля дураков». Капитан, пытаясь восстановить контроль над судном, орал команды помощнику, который умел отличить страх от властности.
Теперь, когда они были посреди океана, опасность однообразного плавания и скучных разговоров их больше не пугала. Шторм, сравнимый по силе с описанными в мифах бурями, крутил судно, как листок, снося леера, смывая с палубы людей. Одни из пассажиров, вцепившись в койку, искали укрытия у себя в каюте, другие прибежали на мостик, чтобы вверить себя заботам капитана.
Среди всей этой суеты только один человек сохранял спокойствие, полностью владея своей волей и поступками; ухватившись обеими руками за фальшборт, он с вызывающим видом ждал следующую волну. Странная ирония: на всем корабле он был единственным, кто никогда не выходил в море. Чем же объяснить его невозмутимость, граничащую со слепотой, и это в то время, когда самые бывалые моряки осеняли себя крестным знамением?
Утром он проснулся от сильной качки, из-за которой боцман даже приказал убрать часть парусов. К полудню шторм усилился, и обеспокоенные матросы стали вспоминать опасные прецеденты: шторма у берегов Греции и неподалеку от Сен-Мало, бурю в Целебесском море. Около пяти часов, когда горизонт исчез во мраке, капитан с помощником тщетно пытались справиться с паникой на борту. Вечером, когда судно закрутил смерч, экипаж вышел из повиновения, начался бунт. Вскоре примеру матросов последовали офицеры, и капитан, оставшись один у руля, смирился: с Божьим гневом не поспоришь.
Тут-то и настала очередь человека, никогда не выходившего в море. Услышав, как капитан поминает «гнев Божий», он сам впал в такую ярость, по сравнению с которой бушевавший вокруг шторм мог показаться легким дождичком. «Что знаете вы, капитан, о гневе Божьем?» Этот разыгравшийся ветер, силу которого они испытывали на себе, ни в коей мере не означал, что на них обрушился гнев Божий: Господу Богу и без них есть чем заняться, — к примеру, покарать слишком пылких влюбленных, разлучить их, чтобы восстановить свое достоинство. Плевать Ему на моряков, на хлопок, который они везут, на ром, которым они накачиваются, на треплющие их бури. Так что полагаться на Него — последнее дело! И потом, это просто нескромно — при малейшей неприятности кичиться тем, что на тебя обрушился Божий гнев. Ах, если бы смертные перестали все время ожидать Божьего суда и чувствовать себя под присмотром всевидящего ока, возможно, в один прекрасный момент они достигли бы такого трансцендентного состояния, что сами смогли бы отводить от себя удары судьбы! Раз Бога так часто не бывает на месте, почему бы человеку на часок не взять на себя Его обязанности, чтобы потом снова стать простым смертным, слабым и беззащитным?
Волны хлестали ему в лицо, но пассажир всё осыпа́л капитана упреками, заставляя его снова взяться за штурвал и доказать, что один полный решимости человек стоит сотни павших духом. Ибо никогда больше ему не представится такой случай — добавить свое имя к списку легендарных имен отважных капитанов, вступивших в схватку с разбушевавшейся стихией и победивших.
Возможно, именно этот последний довод и оказался решающим.
В ответ на призыв вспомнить о долге, капитан вскинул голову и принялся громовым голосом отдавать команды рулевому, затем как следует встряхнул помощников и несколько раз обошел судно, приводя людей в чувство и клянясь, что еще до рассвета они выпутаются из этой передряги и о них заговорят от Азорских островов до мыса Горн.
На следующий день корабль легко скользил по волнам дремлющего после бурной ночи океана. Люди лежали на палубе, удивляясь, что выжили после такого стихийного бедствия, которому скоро будет дано название. Измотанный за ночь капитан пытался снова принять командование судном, хотя командовать ему было особенно нечем: мачты вырваны с корнем, руль сломан, корпус поврежден, снасти от носовой части до кормы уничтожены. «Святая Благодать», терпящая бедствие повелительница морей, отдалась на волю океана. Капитану было одиноко, он не знал, что делать, и задавался вопросом, куда подевался этот ниспосланный Провидением пассажир, чей голос давеча перекрывал рев бури. Тот, кому все, сами того не ведая, были обязаны своим спасением. Он спас корабль, не дал ему погибнуть в морской пучине; может быть, теперь он поможет вернуть его на верный курс?
Человек, о котором он думал, томился на своей койке. Накануне буря возмутила его, но теперь, когда судно легло в дрейф, он ощущал полную беспомощность. И только крик впередсмотрящего, завидевшего землю, заставил его покинуть каюту.
Сгрудившись у левого борта, матросы и пассажиры вглядывались в затянутые дымкой очертания берега. Капитан, смущаясь, сказал, что, судя по всему, они добрались до африканского побережья и находятся сейчас в двух с половиной тысячах миль южнее первоначального места назначения.
Он заливает на тридцать долларов бензина: до Кливленда хватит. У них остается восемь долларов, на которые она может взять два больших кофе и белую футболку из тех, что вывешены на витрине мини-маркета при автозаправке. На телеэкране над кассой, передающем новости нон-стоп, она видит мчащийся в ночи серый «форд-капри», зарегистрированный в Нью-Мексико, с правым передним крылом другого цвета. Тот самый, что стоит сейчас у бензоколонки номер два. Словно в подтверждение этому на экране появляются фотографии двух французов, объявленных в розыск как особо опасные преступники.
Кассир напускает на себя безразличный вид, но его движения становятся судорожными. Он даже заставляет себя улыбнуться, давая сдачу этой особо опасной покупательнице и напряженно думая при этом, лежат ли дубинка и home gun на обычном месте — под рулоном бумажных полотенец. Он ничего не предпринимает, ждет, когда она выйдет, и только потом, не сводя с нее глаз, берется за телефон.
В машину преступники не садятся, а просто исчезают. На часах четыре ночи.
*
Они перелезают через дорожное ограждение, чтобы нырнуть в заросли кукурузы, понимая, что перестали быть невидимыми. Часом раньше они радовались, считая, что им «везет». Теперь им приходится расплачиваться за то, что они посмели произнести это запретное слово. Им почти стыдно от этого, стыдно и горько, они действительно устали, ведь с самых первых дней они отбросили все мысли о везении, о судьбе, не желая даже допустить, что их выбор, их действия зависят от произвола и случайности. Мыслимо ли это, чтобы человеческой жизнью на всем ее протяжении управлял лишь случай и чтобы человек ради мимолетной удачи пожертвовал бы сразу и здравым смыслом, и своими убеждениями? Что до них, то они выжили только благодаря своей решимости. Ни разу — они особо настаивали на этом «ни разу» — Провидение не помогло им выпутаться из сложной ситуации.
Долгие дни одиноких скитаний, страхи — все позабыто. Теперь она могла положиться на своих чау-чау, неутомимых маленьких товарищей, серьезных, большей частью молчаливых, зорких, как орлы, серьезных, как китайские мандарины. Когда наступал вечер, они сами заботились о своем пропитании: эти жестокие хищники охотились на любую дичь, даже превосходящую их размерами, поскольку вдвоем они были неуязвимы. Это зрелище напоминало балет: вот они гонятся за добычей, вот настигают ее и разрывают в клочья. Несколько разбойников с большой дороги и пьяных солдат испытали их хватку на собственной шкуре: и ноги, и самолюбие у них были изодраны в клочья. Глядя, как они мчатся вперед, бок о бок, поглощенные своим немым диалогом, можно было подумать, что это они — путешественники, а долговязое существо, замотанное в белую ткань, которое путешествует вместе с ними, только помогает им не сбиться с маршрута и общаться посредством языка со своими сородичами. Не выпуская из рук компаса и карты, она знала теперь кратчайший путь от одного города до другого и временами, когда, слегка отстранившись, смотрела на свой драгоценный документ издали, непрерывная линия, соединявшая точку отбытия с пунктом назначения, представлялась ей нитью Ариадны, которая вела ее к любимому.
Прошло два месяца, прежде чем они добрались до Бенгальского залива. На одном из рынков, где торговали цветами и травами, она продала корзину белого жасмина и еще одну, полную зеленых листьев карри, редкого растения, из которого получали изысканную пряность. Затем заночевала в лачуге, где ютились семьи батраков. Одна мать, окруженная целым выводком ребятишек, удивилась, увидев одинокую женщину, и без обиняков спросила ее, кто она: незамужняя, вдова или брошенка. Рассердившись, что ее причислили к одной из этих категорий, француженка решила поразить воображение окружающих и заявила, что разлучена с супругом по воле тирана, решившего, что они колдуны и смогут исцелить его от неизлечимого недуга. Она достигла желанного результата: все вокруг в изумлении уставились на нее, а затем наперебой принялись расспрашивать, чем закончился для нее этот скверный оборот. Она раскрыла было рот, чтобы произнести фразу, имевшую уже когда-то успех у слушателей, но ее опередил раздавшийся из глубины помещения голос: «Очень плохо, нам отрубили голову!»
Один из присутствующих заявил, что слышал уже эту историю от какого-то солдата, которому ее рассказал кузнец, а тому — сезонный рабочий. Это нимало не смутило француженку: в основе легенды всегда лежат реальные события и люди передают ее из уст в уста, делая общим достоянием. А если кто-то приукрасит ее, избавит от шероховатостей, добавит эффектных деталей, так это для того, чтобы сделать доступной для людей всех культур, чтобы она прошла через границы, через поколения. Ее истории предстоит проделать длинный путь, прежде чем она обретет окончательную форму.
Остановок до самой Индии не было предусмотрено, и несколько следующих дней она ехала, не делая привала. Вскоре она прибыла в город Куньямар, который миновала бы без приключений, если бы правящий в нем князь не поддался давлению своих советников, опасавшихся угрозы нашествия со стороны сопредельного государства. Появление в городе чужеземца не оставалось незамеченным, ему тут же предлагалось покинуть территорию, либо его задерживали и подвергали допросу. Так случилось и с путницей, утверждавшей, что она намеревается добраться до Запада, не имея иных провожатых, кроме двух собак. Она клялась, что, если ее отпустят в течение часа, она дотемна навсегда покинет королевство. Но совершить этого подвига ей не дали.
За ней пришли стражи в сверкающих одеждах. В сопровождении этого эскорта она прошла через город, затем ее повели по горной дороге, где за одним из поворотов ей открылась крепость в рубиновых отблесках, украшенная резными зубцами и расписанная яркими узорами. Ее подвели к крылу, куда было запрещено входить мужчинам; служанки приготовили ей душистую ванну и расчесали щетками волосы. Такая обходительность не внушала оптимизма: чем больше о ней проявляли заботы, тем сильнее пугали ее будущие муки. Что ж, если ей и суждено мучиться одной, думала она, зато она будет чистой и ухоженной.
В длинной трапезной множество женщин в разноцветных сари напоминали написанную яркими мазками фреску. Всех сюда доставили когда-то силой стражники куньямарского князя, полновластного хозяина этого города, требовавшего все новых и новых женщин. В обмен на проведенную с ним ночь они получали статус наложницы и обещание содержать их в гареме, где их ждала беспечная жизнь, лишенная забот о хлебе насущном. Француженка смотрела на этих позабытых женщин, утративших вкус к счастью, не знавших утешения в надежде, потерявших уважение к себе и к другим. Одна из них обратилась к ней: «Вечная ненасытность государя — это и наше проклятие, и наше счастье. И если то, что вам предстоит, вы считаете пыткой, радуйтесь, что она будет недолгой».
*
Шлюпки смыло во время шторма, и людям — экипажу и пассажирам — пришлось добираться до берега вплавь. Капитан предусмотрительно бросил якорь в небольшой, пустынной на вид бухте: он опасался встречи с местным населением, которое могло быть настроено враждебно или, наоборот, слишком обрадоваться появлению в их краях судна водоизмещением в девятьсот тонн. Люди неловко ступали по песку, словно крабы, рожденные в море и внезапно ощутившие на суше свой вес. Моряки привычно подождали, когда их перестанет шатать, остальные заново постигали законы земного притяжения. На скалистой гряде, естественным укреплением окаймлявшей берег, выставили часовых с мушкетами. Офицеры уже настраивали компас и секстан, а пассажиры, благословляя твердую землю у себя под ногами, радовались спасению. Капитан подозвал всех к себе.
Судно имеет серьезные повреждения, а потому вернее всего будет пройти вдоль берега двести миль к северу, до фактории Сен-Луи, где хозяйничают французы, а там договориться о переправке пассажиров в Европу и о получении материалов и инструментов, необходимых для ремонта «Святой Благодати». Поднялся возмущенный гвалт, каждый стремился быть услышанным, в том числе и матросы, после крушения гораздо меньше склонные к повиновению. И речи быть не может о таком рискованном походе, а уж тем более о возвращении в Европу без груза. Спор обещал быть бурным, долго сдерживать волнение вряд ли удастся.
Единственный, кто не стал высказывать своего мнения, решил покинуть эту прекрасную компанию до новых осложнений. Устав от жалоб и разных колкостей, он уже ничего не ждал от этих людей, которые только-только спаслись от верной смерти и вот уже снова проявляли недовольство. Ему следовало поостеречься этой неприятной людской наклонности сеять вокруг себя страх, чтобы оправдать собственную трусость. Оставив их дальше пугать друг друга, он покинул лагерь, вышел к скалистой гряде и пошел, прокладывая себе путь среди бесчисленных пингвинов, не обращавших на него ни малейшего внимания.
Забавные двуногие, в черно-белых одеяниях, словно маленькие кюре, ходили вразвалочку всей своей гигантской колонией, образуя отдельные группы согласно только им известному порядку и перемещаясь по только им ведомым траекториям. Одни неотрывно смотрели в морскую даль, словно ожидая прибытия своих собственных моряков. Другие перекатывали яйца столь же прилежно, как это делают юнги, перекатывающие бочки. Третьи ныряли в море, и изящество, с которым они двигались в воде, красноречиво указывало на то, что это-то и есть их родная стихия. Удивительное единообразие этих существ делало совершенно невозможным отличить самца от самки, и, однако, тут и там по совершенно неуловимым признакам угадывались пары, как это бывает между старыми супругами, которые давно уже все сказали друг другу, но чья мимика все еще выдает их близость. Среди них мелькали другие птицы совершенно иного строения, похожие на павлинов, только с длинными ногами, настоящими крыльями и розовым оперением, чьи гортанные крики напоминали гусиный гогот. Иногда им приходилось перешагивать через пингвинов, которые не обращали на них никакого внимания, пропуская их, словно то были тени. Мужчина, карабкавшийся теперь на довольно высокий холм, чтобы осмотреть бухту, удивлялся сосуществованию двух столь разных видов и размышлял о мирных нравах этого гигантского сообщества, живущего, несомненно, по своим законам, имеющего свою иерархию, но где каждый, похоже, действовал по доброй воле, не нанося никакого ущерба окружающим.
Со своего наблюдательного пункта он увидел «Святую Благодать», лагерь, кишевший, как потревоженный муравейник. А напротив — яркую зелень терявшегося за горизонтом леса. И здесь, между морем и землей, он обрел наконец то, что искал, — убежденность.
Когда он вернулся в лагерь, конфликт, которого он так опасался, окончательно обозначился. Пассажиры надеялись снова взять контроль над «Божьей Благодатью», подкупив кое-кого из матросов, те же готовы были перерезать пассажиров, чтобы завладеть их товарами. Офицеры с помощью мушкетов попытались призвать всех к порядку, но это только распалило всеобщую злобу. Капитан принялся умолять красноречивого пассажира вмешаться. Тот ответил, что если он и в состоянии противостоять стихийному бедствию, то бороться с людской глупостью не в силах. Он уже сделал свой выбор между человеческой дикостью и дикой природой и немедленно отправляется в путь — на север Черного континента.
*
Француженку провели в покой, созданный специально для любовных утех, этакий шелковый ларчик, посреди которого возвышался единственный предмет меблировки — завешанная вуалевым пологом кровать. Через узорную звездчатую решетку она увидела внизу город Куньямар с его островерхими строениями из коричневого камня, напоминавшими гипсовые розы.
Вошел князь, который только что отделался от своих докучливых министров и теперь был решительно настроен позабыть свои монаршие обязанности в обществе незнакомки. Ему было около пятидесяти, и приземистость его фигуры скрашивали тонкие черты лица и ясный взгляд. Сняв тюрбан, он показал свою пышную, подернутую сединой шевелюру и коротким жестом велел незнакомке обернуться. У нее возникло опасение, что князь не знает других языков, кроме родного, и что он объясняется со своими наложницами посредством универсального языка тела. Но вскоре у нее отлегло от сердца, когда он на изысканнейшем французском велел ей обнажить плечи: князь, которого готовили править с молодых лет, прекрасно знал историю различных государств, их языки и уклад жизни.
Обычно процедура заключалась в том, что он раздевал каждое незнакомое тело, чтобы убедиться в его абсолютной банальности, затем тискал его самые интимные части в последовательности, остававшейся неизменной от встречи к встрече, после чего, не умея придумать ничего более изощренного, овладевал им. Его постель давно перестала таить в себе обещание услады: он снова и снова требовал приводить туда женщин, одну за другой, чтобы снова и снова срывать с них покров волшебства и карать их за то, что он не чувствует в них больше никакой тайны.
Новенькая стала умолять выслушать ее рассказ об ужасном пути, который ей пришлось проделать, прежде чем она попала в этот дворец, уверяя, что просит об этом не для того, чтобы разжалобить его, а чтобы предупредить об опасностях, которым он подвергает себя, держа в заточении женщину, невольно поколебавшую иные троны, и не только на Земле, но и на Небесах.
Князь поторопил ее с раздеванием, перечисляя кары, которые ждут непокорных и среди которых бичевание и застенок были самыми скучными. Однако она не унималась: он так гордится своими познаниями в истории разных империй, так неужели он не слышал о печальном конце Людовика Добродетельного, некогда правившего во Французском королевстве?
Князь, собравшийся уже кликнуть стражу, остановился: разве Людовик Добродетельный умер не от гангрены, причем после длительной агонии, ставшей предвестником другой агонии — всей страны, для исцеления которой понадобилось целое столетие?
Неожиданно он расхохотался: эта дерзкая женщина, в надежде избежать его посягательств, решила прикинуться колдуньей, которая своими чарами якобы отравила кровь короля и обрекла его таким образом на смерть, столь ужасную, что она осталась в анналах. Князь велел ей продолжать свою историю, придумывая ужасную и медленную смерть для этой фантазерки, ночь с которой обещала, однако, быть забавнее, чем обычно.
И действительно, он, не перебивая, слушал ее до рассвета.
Странно, но его меньше взволновала достоверность ее повести, чем та сила страсти, с которой она рассказывала о потерянном муже. Конечно, эта сумасшедшая все выдумала, но что не подлежало сомнению, так это ее нерушимая вера в любимого. Она сгорала от страсти, и страсть эта была сильнее любого из известных ему чувств, сильнее фанатизма, сильнее страха любой кары.
И князь понял, что перед ним враг гораздо более опасный, чем те, что угрожали его границам и которых так боялись его министры.
«Сударыня, я признателен вам за урок. Вчера вечером я собирался лишь украсить свой сераль новым трофеем. Сегодня же я вижу, какая исключительная женщина переступила мой порог, вне всякого сомнения, вы уникальная представительница вашего рода, поскольку все другие образцы в моей коллекции уже есть. Я никоим образом не желаю знать, существует ли этот потерянный муж на самом деле, или все это для вас лишь предлог, чтобы избежать моих притязаний. Единственное, что имеет значение, это тот безумный риск, на который вы пошли, воспротивившись мне ради сохранения верности. Ах, верность! Любопытное чувство, оно считается достаточно сильным, чтобы обуздать мужскую ненасытность, женщины же, не имея возможности получить другие мужские привилегии, похоже, тоже берут его на вооружение. Как же надо быть ослепленным перенесенными лишениями, чтобы сделать верность своим кредо! Если он когда и существовал, этот ваш муж, он сгинул в пути, смерть уже тысячу раз могла освободить вас от него, а вернее всего, он давно утешился с какими-нибудь девками. Знайте же, что перед вами стоит принц крови, верховный властитель этого города, который богаче всех своих подданных, вместе взятых. Если вы примете мое предложение и станете моей, я осыплю вас почестями, которых не удостоился никто. Я буду призывать вас к себе чаще, чем других, ибо, когда ваши прелести утомят меня, вы будете воспевать свою тоску по любимому, с которым вас так несчастливо разлучила судьба, я же буду наслаждаться вашим томлением, беспрестанно благодаря богов за то, что они избавили меня от такого рабства, от этой прекрасной исключительности, влекущей за собой столько горя».
В этот миг она поняла, как он должен был страдать, чтобы вот так поносить верность или, вернее, то, что он понимает под этим горьким словом. Не успела она ответить, как он добавил: «А теперь раздевайтесь, или я велю страже раздеть вас, после чего вы навлечете на себя позор в их глазах и в глазах ваших товарок».
И тут, утратив всякое почтение перед этим заблудшим тираном, она заговорила: «Так знайте же, что, как только вы попытаетесь меня обнять, я, как мой пес, вопьюсь зубами вам в горло. Если вам так хочется ради моего вразумления подвергнуть меня какой-либо изощренной пытке, я плюну в лицо вашим стражникам, я умру от голода, и смерть еще до наступления будущей луны избавит меня от вашей низости. Знайте наконец, что мой муж, над которым вы насмехаетесь, ждет меня где-то и ничто и никто не сможет помешать нашей встрече, даже если ей суждено случиться за пределами мира живых. Потому что мы уже прошли и через это».
Князь привык покорять варваров и тигров, но тут перед ним был враг, которого ему было не победить. И это противостояние навсегда останется несмываемой отметиной, напоминанием о том, как он спасовал перед самым неожиданным противником. Чтобы с такой отвагой смотреть в лицо смерти, она должна была пережить, выстрадать, возжелать бесконечно больше, чем он, пусть даже он покорит тысячу новых наложниц.
Ее бросили в подземелье дворца, и там, впервые за все время пребывания в этих стенах, она почувствовала себя свободной.
*
«Отправиться одному на север Черного континента?»
В страхе потерять своего пассажира и вдохновителя, капитан принялся расписывать тысячи опасностей, подстерегавших того в джунглях, саванне и пустынях. Кроме самых свирепых хищников, кроме мастодонтов, обладающих неслыханной силой, тут на каждом шагу попадаются змеи, и все разные. Если он и выживет после тропической или болотной лихорадки, ему еще придется пересечь целый океан песка, где он не найдет ни клочка тени, где солнце высушит его тело, после чего на него нападут скорпионы. А если ему удастся освободиться и от них, то начнется новая напасть — миражи, когда ему станут мерещиться дикари-людоеды, в которых в конце концов не будет ничего сверхъестественного, потому что они будут настоящими! Безумцу, решившему отправиться в такое путешествие, капитан посоветовал бы лучше сразу броситься в пропасть или в океан — там, где течения посильнее, чтобы погибнуть уж наверняка и избежать таким образом долгих мучений.
Тронутый такой заботой, пассажир возразил, что опасности, грозящие со стороны зверей и растений, — это ничто по сравнению с тем мрачным концом, который уготован ему здесь: он так и видит, как ему перерезают глотку или как его продают работорговцам, которые прочно обосновались в этой части мира. После чего он взвалил на одно плечо мушкет, на другое — мешок с провизией, а к поясу привесил три фляги с водой.
Он вошел в лес с гигантскими деревьями, корни которых, будто щупальца, обвивали землю, а ветви были так густы, что их тень казалась бесконечной, как ночь. Он с трудом выбрался из болотистой протоки, кишевшей насекомыми, которые успели искусать ему ноги и затылок. Затем ему встретилось семейство рыжих обезьян, неподвижно дожидавшихся вечерней прохлады. Последовав их примеру, он залез на дерево, чтобы поспать там. Две первые ночи прошли тихо и мирно, но на третью он с воплем проснулся: по телу его ползало целое полчище пауков, чьих укусов ему не удалось избежать. Зловещие предсказания капитана начинали сбываться, и вскоре его сон наполнился кошмарами, в которых он то и дело погибал самым нелепым образом, на другом конце света, вдали от жены, которой ему надо было столько всего сказать.
Заросли становились все реже и сменились саванной с рассыпанными по ней деревьями. Он научился двигаться ползком и, когда вдалеке показывался хищник, который, за неимением антилопы, возможно, и снизошел бы до этого невиданного зверя, тощего и самого медлительного из всех, что он видел, прижимался к земле. Иногда ему случалось наткнуться на змею, затаившуюся в кустарнике и заметно превосходившую его в искусстве ползать.
Он шел теперь не так уверенно, что-то медленно отравляло его изнутри, и он не знал, что это — яд какого-либо гада или угрызения совести. У него кружилась голова, его ноги и руки утратили гибкость, зрение затуманилось, язык вывалился изо рта, и последним в угасающем сознании мелькнул вопрос: от кого получил он эту лихорадку — от комара, паука или от змеи? Вопрос пустой, потому что его уже подстерегал скорпион. Он рухнул у подножия сухого дерева и погрузился в жуткий мрак.
*
Наконец настало время вынесения приговора. Узница готова была увидеть в глазах князя гнев — предвестник неминуемой смерти. Но увидела нечто обратное. Тоска стерла с его лица высокомерие, резче обозначив черты несчастного. Он знаком велел ей подойти к окну, чтобы стать свидетельницей удивительного зрелища.
Внизу по узкой тропинке, спускавшейся с холма к городу Куньямар, тянулась нескончаемая вереница женщин. Каждая несла по узелку с тканями и драгоценностями; они покидали дворец при свете факелов, которые держали солдаты, стоявшие вдоль всего пути. Безмолвные, закутанные в сари, спускались они по склону грандиозной процессией, и не было им числа. Ни одна из них не обернулась, чтобы бросить прощальный взгляд на свое бывшее жилище.
Француженка поняла всю необратимость происходящего. Каждой он предложил сделать выбор, и ни одна не пожелала остаться. Даже самые старые, вышедшие на покой двадцать лет назад, предпочли довольству и безопасности свободу. Иные радовались, что смогут вновь обрести оставшихся на воле отца, брата. Другие, бессемейные, собирались поселиться вместе, сохраняя нерушимую дружбу и учась выживать плечом к плечу. Глядя, как спешат эти женщины покинуть его, князь получал свой первый урок: теперь, избавившись от своего статуса наложниц, они вернули этой якобы привилегии ее настоящее имя — рабство, а их внешняя покорность оказалась просто обреченностью. Стоило только приоткрыть дверь сераля, как все они сбежали. Они бросали в лицо господину его распрекрасную благосклонность, с которой он снисходил до них, приглашая его спуститься с пьедестала и полюбоваться на себя снизу.
Решение отпустить их — которое могло смутить его подданных и пагубно сказаться на его авторитете — было, однако, ценой, которую он готов был заплатить, чтобы угодить той единственной — самой строптивой, самой дикой. Похоже, исключительность — это главная добродетель, а потому только подобное высшее самоотречение способно было убедить ее остаться с ним. Найдется ли в мире другой мужчина (и уж конечно, это не ее пропавший муж), который пошел бы ради нее на такую жертву?
Ей захотелось взять его за руки и сказать, как она за него рада, но она удержалась. Теперь, отпустив этих женщин, он и сам заживет дальше вольным человеком, освободившимся от внутреннего рабства.
Для него же это «дальше» было совершенно четко очерчено: «дальше» — это она, невероятно дерзкая странница, ставшая княгиней. Они будут править вдвоем, ибо она обладает поистине царскими самоотвержением и твердостью. Еще до наступления темноты долина огласится криками ликования. Государи всех сопредельных стран будут приглашены во дворец, чтобы познакомиться с княгиней, включая врагов, которые будут отныне знать, с кем они имеют дело.
Она с волнением наблюдала за метаморфозой, что случаются в дикой природе, но среди людей — крайне редко. Князь сбросил старую кожу — шершавую, заскорузлую, и возродился в другой — еще совсем нежной.
«Принесенная вами жертва говорит о благородстве ваших чувств, которых я, увы, не могу разделить, и вы знаете, по какой причине. Но скоро ваш отказ от сераля обретет свой смысл. Воздержание, которое вы только что взяли на себя, это возрождение, ваше же стремление к исключительности полно надежд. Прекрасное чувство, которое вы испытываете ко мне, станет в тысячу раз прекраснее, когда его вернет вам какая-нибудь незнакомка. Вы жаждете новых ощущений, так приготовьтесь же к настоящему потрясению: ибо тот, кому неведомо взаимное влечение, не может знать, что такое настоящее опьянение страстью. Ваша суженая существует, мне незачем желать ее вам: она не замедлит появиться. И завладеет вашим величеством. И вы будете царствовать вместе».
Князь увидел в окно, как, выполнив возложенную на них миссию, возвращаются во дворец стражники. Он представил себе вернувшихся в город женщин, заново открывающих для себя его новизну, сияние его огней. Некоторые из них уже воссоединились с семьями, и весть об этом облетела их друзей и близких. Он попытался вспомнить, когда в последний раз ему доводилось одним мановением посеять столько счастья, и не смог. И тогда он понял, что История предаст забвению его военные победы, его царствование, всю его жизнь, прожитую на благо его народа, но в памяти людской навсегда останется князь, однажды отпустивший на свободу всех своих наложниц в надежде угодить единственной женщине.
Эту женщину проводили до ворот дворца, где ее терпеливо дожидались собаки. Никакой особой радости при виде ее они не выказали: очевидно, они ждали, что она придет.
*
Целую вечность полз он в непроглядном мраке, и наконец ему открылось волшебное место: сверкающая зеленью поляна, залитая теплым светом, пахнущая росой и перегноем, вокруг которой росли усыпанные плодами деревья, дававшие умиротворяющую тень. Медленными шагами ступал он по этому саду наслаждений, закрыв глаза и протянув вперед руку, в надежде, что та, другая, скользнет в его объятия, и она не заставила себя ждать: вот оно, первое прикосновение сказочного воссоединения.
О, это нежное лицо, эти розовые щеки, сверкающие глаза, улыбка на алых устах, волосы, пышными потоками ниспадающие на хрупкие плечи, которые так и ждут, чтобы их обвили любящие руки. Их объятия длились долго: солнце зашло и вновь вернулось на небосклон, а они все стояли, не двигаясь. Потом они заговорили, но слова лишились смысла, и они оставили эту затею. Затем ему захотелось увидеть жену нагой, совершенно нагой, немедленно, сейчас же, невинно нагой, нагой до неприличия. И тут деревья протянули к ним свои ветви, и те, переплетаясь, свились в прохладный шатер, а под ноги им лег ковер из листьев, и они упали на него, перепуганные таким счастьем.
Два человека стояли в соломенной хижине, нагнувшись над больным, которого била лихорадка. Время от времени один из них наливал воды в глиняную миску и силой заставлял его попить: судя по количеству пота, струившегося по его телу, в день ему не хватило бы и целого кувшина.
Первый был колдун, считавшийся среди соплеменников не только врачевателем, но и духовидцем; его обычно приглашали, чтобы вылечить грудную болезнь, почитать по гадательной книге или пообщаться с каким-нибудь духом, ибо истинный его талант заключался в умении сделать потусторонний мир ближе к человеку, так чтобы он не пугал, а его послания несли добро. Рядом с колдуном стоял поэт, в чьи обязанности входила передача устных преданий будущим поколениям. Он был философ и изъяснялся притчами, которые зачастую были поучительнее пророчеств колдуна.
Их позвал староста деревни, чтобы они объединили свои познания и проникли в тайну путника, что был найден без чувств под деревом вместе с валявшимися рядом тремя пустыми флягами. Обычно о своем появлении (что, к счастью, случалось очень редко) белые люди — не важно, кто они были — работорговцы, миссионеры или открыватели новых земель, — оповещали выстрелами, чтобы посеять страх среди местного населения. На этот же раз одному из них, очевидно, вздумалось в одиночку пройти местами, где даже самые опытные охотники передвигались с крайней осторожностью, унаследованной от дедов. Его надо было вылечить, чтобы он как можно скорее убрался отсюда, и призванные для этого колдун с поэтом, достаточно разбиравшиеся в лихорадках, чтобы отличить излечимую болезнь от смертельной, теперь ломали себе голову над тем, к какому разряду отнести ту, что свалила беднягу. Тем более что бившая его дрожь удивительным образом походила на дрожь желания, а стоны звучали как сладострастные вздохи.
Он прижимался к лону своей прекрасной возлюбленной, найдя наконец утешение после долгой разлуки. Он раздел ее, уложил на землю, несколько раз повернул туда-сюда, чтобы вдоволь налюбоваться каждой пядью ее кожи, ему надо было обонять ее, вдохнуть ее в себя целиком, с ног до головы. Пока они предавались любовным утехам, вокруг них поднялись стены дома, и дом этот был похож на их первое жилище, а тела покоились теперь на их прежней постели, укрытые старым стеганым, украшенным вышивкой одеялом. Это был их мир, тот самый, из которого их так давно изгнали злые люди. И они пообещали друг другу наверстать в этой постели все упущенные столетия, а если на это не хватит одной вечности, они продлят ее, добавив к ней другую.
Поэт обратил внимание колдуна на необъяснимую улыбку, игравшую на губах несчастного, — верный признак скорой кончины, когда, примирившись наконец с полной страданий жизнью, человек готовится к переселению в царство теней. Колдун же отметил странные движения его живота и объяснил их как некий танец, исполняющийся перед отправлением в дальний путь, — медленный, ритмичный, который, казалось, доставлял несчастному радостное умиротворение. Вскоре хижина наполнилась все более и более громкими вздохами умирающего: в этих стонах не было боли, вернее сказать, он стонал от боли, которой никогда не бывает вдоволь. Перед поэтом и колдуном был уникальный случай: если бы все горячки сжигали тела больных изнутри, кто не пожелал бы сгореть от такой?
Любовники совсем разошлись, они неистовствовали, наполняя непристойностью каждое движение, катались по постели, принимая самые разнузданные позы, достигая такой степени осмотического взаимопроникновения, когда части тела партнера кажутся твоими собственными, сердца бьются в унисон, а наслаждение становится общим.
Что же это за лихорадка такая? — гадали колдун с поэтом. Как ее определить, нет, не для того, чтобы искоренить, а наоборот, распространить среди населения?
Он нашел ее, вот она, рядом с ним, сияющая, горячая, готовая воспламениться, более реальная, чем когда бы то ни было. И у сжигающей их лихорадки возможен лишь один конец: их тела сольются воедино в горниле всепоглощающей страсти, готовые запалить все вокруг.
Он очнулся один в диковинной хижине.
Потрогал свой лоб, показавшийся ему прохладным, заметил на полу рядом с собой глиняную миску с водой, сделал несколько долгих глотков, затем смочил водой щеки и шею. Откуда-то доносилась тихая, назойливая мелодия, и, следуя за ней, он решился выйти наружу.
Жители деревни совершали некий обряд: мужчины и женщины приплясывали вокруг собравшихся в центре детей и стариков. Он зачарованно слушал томное пение, сопровождавшее эту любовную пляску. Поэт склонился к нему и стал объяснять на ухо смысл песни и танца, и пришелец, не понимая ни слова из его объяснений, но не желая при этом никого обидеть, лишь кивал, улыбаясь. На самом деле ему объясняли, что это он вдохновил жителей деревни на этот обряд, который получил название «Радостная лихорадка белого человека».
Две порции риса и две чашки бульона, три доллара семьдесят пять центов, в кафе Ли в кливлендском Эйшатауне. Это ей пришла в голову счастливая мысль остановиться в китайском квартале. Учитывая поздний час и почти пустые карманы, ничего другого им не оставалось. На большом телеэкране с выключенным звуком показывают эстрадную программу какого-то гонконгского телеканала. В углу пятеро молодых китайцев играют в карты. Пройдя тридцать миль пешком по промышленным окраинам, французы буквально падают от усталости: казалось, стоит им только коснуться щекой скатерти, как они заснут и проспят до самого утра. Ни денег, ни машины — их точно сцапают, это вопрос нескольких часов.
Вдруг один из картежников, сорвав куш, слишком громко выразил свою радость по этому поводу, и она навострила уши. Кто-то из этих парней наверняка должен знать кого-то, кто ссужает деньги, сказала она мужу. Тот, несмотря на усталость, усмехнулся, заметив, что это очень плохая идея. Во-первых, потому, что намекать местным жителям, что подобные спекуляции могут быть у них в ходу, было бы со стороны белых, тем более не американцев, бестактным. А во-вторых, даже если предположить, что им укажут нужного человека, тот потребует гарантий, которых они не смогут ему дать. Жена решила спросить их об этом прямо, но на языке, на котором говорили на юго-западе Китая около трехсот лет назад.
Отчего картежники тут же позабыли про карты.
*
Старик жил в старом Чайна-тауне, китайском квартале в исторической части Кливленда, опустевшем после того, как на окраине города появился новый Эйшатаун. Эту квартиру купил в двадцатом году его отец, личность легендарная, хорошо известная в квартале: немалое число его родных и близких, а также их родных и близких обосновалось на американской земле с его помощью. Старика заинтересовала эта «носатая», заговорившая с ним на языке его предков — не на том, которому учат нынче в школе, а на настоящем, на котором говорят в провинции Юньнань, где до сих пор выращивают черный чай, тот самый, который он сейчас заваривает, — такого в магазине не купишь, его присылают ему родственники прямо оттуда.
Муж, ни слова не понимая из их разговора, спрашивает, нельзя ли ему принять душ. Хозяин показывает, как пройти в ванную. Он рад возможности побыть с чужестранкой с глазу на глаз.
На его вопрос, почему она говорит на языке провинции Юньнань, она отвечает, что когда-то давно собирала там чай:


Она вдыхает аромат горячего чая, потом подносит пиалу к губам. И, рискуя обидеть хозяина, замечает, что этот чай не из провинции Юньнань:
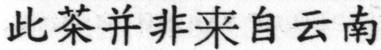
Тот предлагает ей самой отыскать на полке, где выставлены в ряд с десяток глиняных горшочков, чай, который покажется ей наиболее подходящим. Она весело приступает к испытанию, растирает пальцами шуршащие сухие листочки, нюхает их: вот он, тот самый. Старику, думавшему до сих пор, что жизнь ничем не сможет его больше удивить, становится не по себе. Соплеменники называют его достопочтенным, мудрейшим, но перед этой женщиной, внушающей ему не то что уважение — почти веру, он не чувствует в себе никакой мудрости.
Возвращается муж — посвежевший, в прекрасном настроении, — уступив место в ванной супруге. Стоя под струями горячей воды, она чуть не плачет от чувства облегчения. Возвращаясь в гостиную, она задерживается перед стеллажом с книгами — только китайские издания. Взгляд ее привлекает одна из книг с потрепанным корешком: «Легенды любителя чая». Просматривая оглавление, она останавливается на одном заголовке:

Хозяин поясняет: «Это была француженка, как и вы!» И, не в силах удержаться, он рассказывает историю святой — покровительницы сбора урожая, которую китайские дети знают так же хорошо, как дети Запада — сказки братьев Гримм или Шарля Перро. Слушая его короткий пересказ, чужестранка понимает, что ее история обрела наконец окончательную форму, кропотливо сотканную самим народом, в которой правда и вымысел были приведены в равновесие, шероховатости стерты и найдены удачные связки. Она, не перебивая, слушает хозяина и лишь в самом конце восклицает


Похитив эти слова у старика, она снова, спустя триста лет, становится их хозяйкой.
Беглецы не хотят знать о делах старика ничего лишнего, им просто нужна его помощь. Он не даст им уйти в том же плачевном состоянии, в каком они явились к нему. Впереди у них еще такой длинный путь.
Из всех зверей, повстречавшихся ему в джунглях и в саванне, самым занятным был тот, на котором он ехал сейчас верхом, — с большим горбом, объяснявшим, несомненно, исключительную умеренность его нрава, с длинной, изогнутой шеей, с тонкими, но очень проворными ногами и с пастью, приспособленной под удила не хуже, чем у лошади. Кроме того, он, казалось, отлично знал дорогу, что было просто чудом среди этих нескончаемых, однообразных песков, — по крайней мере, двигался он среди них, не замедляя шага и не проявляя никакой нерешительности. Его всадник, закутанный с ног до головы в светлые одежды и с искусно свернутым тюрбаном на голове, отдался на его волю. Он уже усвоил, что в этой безводной пустыне жизнь его зависит как от того, что на нем надето, так и от того, на ком он едет. И то и другое было подарено ему племенем, ухаживавшим за ним, пока его била лихорадка, их песни и танцы до сих пор звучали у него в голове.
Шли недели, и он постепенно становился как бы гражданином этой пустыни: он осознавал ее бескрайность, уважал ее величие, был покорен ее пронзительной философией. Он не сражался с постоянными опасностями, которые таила в себе природа, учась не бороться со стихиями, а повиноваться им, превращая их в своих союзников. Одежда предохраняла его от палящего солнца, маска, закрывавшая лицо, защищала от порывистого ветра: встретив его в таком виде, земляки приняли бы его за призрака, парящего в саване над бескрайними охряными просторами. Он и правда не был теперь существом материальным, а неким блуждающим духом, неуклонно стремящимся к определенной точке в пространстве. Иногда он снова становился человеком, это случалось, когда ему доводилось приветствовать встречный караван или когда бог пустыни посылал ему на пути оазис, где он оставался на три ночи, чтобы вдоволь напиться воды и насладиться тенью. Прежде чем снова отправиться в путь, он благодарил этого бога, самого могущественного из всех, моля его поскорее вновь сделать ему такой же подарок.
Прошел месяц, но в его путешествии ничего не менялось. Он уже не знал, кто именно удерживает курс — он или животное, на котором он едет, но в верности этого курса он ни разу не усомнился.
*
Итак, она думала, будто знает, что такое холод? В юности ей представлялось, что никто на свете не страдал от ледяного ветра так, как страдала она, вставая утром с постели. Кто бы мог подумать тогда, что когда-нибудь она будет тосковать по зимам своего детства — таким мягким, таким переменчивым?
Она прошла из конца в конец несколько стран, не различая их, настолько однообразна была их природа, шесть месяцев шла она по степи, то зеленой и тучной, то бурой и облезлой. Впереди бежали собаки, в руке у нее был компас, ей приходилось проезжать по краям с таким умеренным климатом, что дни и ночи казались там одинаково теплыми. Однако чем дальше на северо-запад углублялась она, тем суровее становилась природа, к которой ей приходилось приспосабливаться и в зависимости от которой изменялась и скорость передвижения, и одежда, и пища. На пути ей встречались народы, привычные к набегам кочевников и к натуральному обмену; у них она научилась способам выживания, освоила их кухню. Однажды она попросила туземцев смастерить ей доху и шапку из шкуры дикого яка, которого загнали ее собаки, пообещав взамен отдать всю тушу. С первым снегом она сделала себе сани, вроде тех, что встречались ей на пути, и удивилась, увидев, с какой легкостью собаки дали себя впрячь в них. Ей вспомнились слова купца из города Шиньсяо, который подарил их ей: «Относитесь к ним как к спутникам, доверьтесь им, и они довезут вас куда надо. Все их достоинства кажутся вам сейчас чем-то отвлеченным, но в пути вы поймете их пользу». И действительно, она пользовалась этими качествами каждый день, а особенно среди снегов и льда. Увидев, как она катит на санках по этой белой пустыне, никто не смог бы сказать, мужчина это, женщина или молодой медведь. Спала она обычно, примостившись между собаками, баюкавшими ее своим ворчанием. Иногда среди окружающего пейзажа возникала сверкавшая серебром лачуга, похожая на маленький замок, — бесценный подарок неизвестного благодетеля, которого путники благодарили от всего сердца. Она устраивалась там на ночлег вместе с собаками, которым было удивительно входить внутрь через дверь и спать не под открытым небом. Она обращалась с ними как с дорогими гостями, вспоминая движения и действия из прежней жизни. Теперь была ее очередь всячески ублажать их в благодарность за преданность и мужество.
Двигаясь вдоль южных предгорий Кавказского хребта, называемого в книгах непреодолимым, она потратила несколько долгих недель на поиски Черного моря: ее карта перестала соответствовать местности. Сама того не ведая, она зашла слишком далеко на север, туда, где бесчинствовали наемники, собиравшиеся в банды, равные числом населению целой деревни. От них не мог ускользнуть ни один путник, случайно забредший в эти края, и уж тем более одинокая женщина, не имевшая иных попутчиков, кроме двух собак.
Казаки, некогда сопровождавшие и охранявшие отдельных купцов и целые караваны, теперь предпочитали сами их грабить. Привлеченные их дурной славой, к ним стекались искатели приключений, беглые преступники и прочее отребье, образуя целые кланы, живущие по своим законам. На свою беду, путница с собаками повстречала троих таких бандитов, везших мешки с награбленным и уже готовых к новому злодеянию. Заметив черную фигурку, катившую на собачьей упряжке, они развернулись и вскоре окружили ее. Глаза их загорелись, когда они обнаружили под меховыми одеждами женщину. Взять с нее было особенно нечего, но они знали, что все равно вознаградят себя за неудачную охоту, вдоволь натешившись неосмотрительной красоткой. И чтобы припугнуть ее, они разразились хохотом, растворившимся в горном эхе, В ответ раздалось тихое ворчание, отбившее у них всякую охоту смеяться.
Собачье рычание напоминало рык хищников, почуявших запах крови. Казаки, собравшиеся было спешиться, тут же передумали. Рука одного из них потянулась к сабле, другой что-то скомандовал, но было поздно. Собаки уже вонзили свои клыки в брюхо лошадям, те заржали от ужаса и взвились на дыбы, грозя сбросить всадников. Ошалев от внезапного нападения, казаки размахивали саблями, тыча ими сами не зная куда, но тут собаки обратили свою ярость на них. Тем временем их хозяйка бежала по каменистой степи, спасаясь от преследования старшего из этой троицы, который, изрыгая проклятия и угрозы, гнался за ней, предоставив своим подчиненным сражаться с двумя страшнейшими противниками, когда-либо ими виденными. Один из казаков бросил саблю и, взявшись за кинжал, попытался было вонзить его в бок псу, но напрасно: тот уже разорвал ему горло, и несчастный, пошатнувшись, схватился за шею, пытаясь удержать хлеставшую из нее кровь. Другой, чья рука была зажата челюстями второго чау-чау, нащупал камень и принялся бить собаку по голове, чтобы та ослабила хватку; это ему удалось, но тут же острые зубы впились ему в самый низ живота, и он взвыл от мучительной боли. В этот миг казак настиг убегавшую от него женщину, ударил ее в лицо, так что она оказалась распростертой на земле в самой уязвимой позе, и принялся расстегивать ремень. Но тут на помощь хозяйке явилось умирающее, исколотое кинжалом, истекающее кровью существо. Из последних сил пес впился негодяю в лицо, вырвал ему щеку, а затем вернулся к останкам своего убитого брата, чтобы умереть рядом с ним.
Посреди степи лежали на земле пять мертвых тел. Два из них вмещали при жизни благородные души, способные на верность, движимые удивительной для их малого роста силой. Остальные трое были просто издохшими скотами.
Женщина попыталась перевязать свои раны, но ей не хватило на это сил, и она побрела вперед в уже сгущавшихся сумерках. Она опасалась, не сломана ли у нее рука. Ей было страшно: страшно умереть от ран, страшно не достичь конца пути, не найти того единственного, ради которого стоило терпеть такие муки. На заре она увидела на горизонте очертания какого-то селения, не зная даже названия страны, в которой оно находится. На всех известных ей языках она стала спрашивать, где можно найти лазарет, лечебницу, пусть даже приют для умирающих. Одна местная жительница, тронутая видом этой изнуренной, израненной женщины в изорванной на бинты рубахе, отвела ее к сурового вида постройке и оставила там у закрытой двери.
*
Однажды утром неизменно песчаный горизонт вдруг окрасился бирюзой. Знойный ветер сменился свежим, напоенным йодом морским бризом, который вдохнул жизнь в тело путника и в его отяжелевший от жары разум.
В городе Танжере, откуда можно было различить очертания испанского берега, он продал своего верблюда, чтобы оплатить переправу до скалы Гибралтар, находившейся в ведении британских властей.
Там он снова оказался в окружении знакомых языков, одежд, промыслов, обычаев, забытых за долгие месяцы пути через Сахару. Войдя в контакт с капитанами судов дальнего плавания, он свел знакомство с группой дворян, состоявших на службе во Французской торговой компании. Их удивило, что какой-то бедуин говорит на их языке, но еще больше удивились они, когда тот заявил, что уцелел после кораблекрушения «Святой Благодати», следовавшей из Америки и сбившейся с курса во время шторма.
«Святой Благодати»? Той самой, что пропала со всем грузом и экипажем год назад? Одни считали судно затонувшим, другие склонялись к версии мятежа, третьи утверждали, что капитан, вступив в преступный сговор с экипажем, изменил курс и отправился в южные моря, чтобы продать там и груз, и сам корабль. Человек из пустыни рассказал им, что случилось с судном, как оно оказалось во власти разбушевавшейся стихии, как было выброшено на берег в нескольких милях от Сен-Луи, вплоть до того бесславного момента, когда офицеры, пассажиры и команда затеяли недостойную войну. Каким бы странным ни казался его рассказ, он выглядел весьма достоверным, судя по представленным им многочисленным подробностям, касавшимся имен офицеров и характера груза. Можно было усомниться в психическом здоровье человека, решившегося в одиночку пройти сквозь джунгли и пересечь пустыню, но нельзя было не признать, что он — единственный, кто мог свидетельствовать о судьбе, постигшей «Святую Благодать».
Один из дворян предложил ему отправиться вместе с ним на борту «Матери Марии» в Сен-Мало, куда это судно отправлялось уже завтра утром, чтобы встретиться там с владельцем «Святой Благодати» и сообщить ему о судьбе, постигшей его пропавший корабль. Таким образом, необходимость разыгрывать из себя моряка отпала для него сама собой. Все, что ему надо будет сделать, это занять место в каюте, где он сможет отдохнуть после своего удивительного перехода.
Преисполненный благодарности, он пожал руку своим благодетелям, которые пригласили его отпраздновать договоренность в одной английской таверне, где он найдет прекрасное пиво и приятную компанию. Часом позже с кружками в руках они распивали уже под открытым небом, на площади, где поставили свою повозку бродячие гимнасты и теперь устраивали сцену для спектакля, обещая, что тот будет веселым и бесплатным. Человек из пустыни слегка опьянел и с трогательной искренностью стал благодарить своих новых друзей, когда его прервала барабанная дробь, возвещавшая о начале спектакля. Труппа была английская, и он боялся, что ничего не поймет из пьесы. Но, увидев актрису, переодетую крестьянкой, с цветами в руках, сразу понял, что ошибался.
Она идет вразвалку, чем страшно веселит зрителей. Появляется бедный зверолов с убитым зайцем в руке. Всем своим видом он выражает усталость, но при виде девицы, которая так и ждет, чтобы ее заметили, чувствует прилив бодрости. Их взгляды встречаются, они начинают ходить кругами один вокруг другого, и все в их поведении, в их подчеркнутых жестах предвещает любовную игру. Мужчина опускается на одно колено и на своем воркующем языке отпускает какой-то комплимент, на который женщина, млея от удовольствия, отвечает с такой благосклонностью, что только раззадоривает своего поклонника. Слово за слово — и дело вскоре доходит до объятий под радостные крики толпы. Пара дает волю страсти, но им начинают докучать непрошеные гости, призывающие их к порядку. Их роли исполняет все тот же актер, наспех переодевающийся за сценой. Один за другим появляются жандарм, сеньор, лекарь, священник, колдун, сборщик податей, каждый из которых пытается их приструнить, но их усилия оказываются тщетными, к вящей радости зрителей. И снова барабанная дробь возвещает о неожиданном повороте сюжета: влюбленные голубки предстают перед королем, восседающим на троне. Щеки его покрыты густым слоем белой муки, которая подчеркивает зеленые круги вокруг глаз. По его усталым жестам, по одышке все понимают, что он хворает и к тому же пребывает в отвратительном настроении. Он соскакивает с трона и вдруг падает наземь в припадке, что вызывает всеобщее веселье. Снова появляется главный актер, теперь в капюшоне палача и с топором в руке. К ликованию толпы примешивается легкий озноб: смертная казнь — это не шутка. Супруги на коленях молят зрителей о пощаде. Одни согласны их простить, другие требуют смерти. Благодаря эффектному трюку, вроде тех, что используют фокусники, на сцену падают две головы, и толпа замирает от ужаса. Под раздающиеся из-за кулис звуки арфы на сцене разворачивают полотно с нарисованными на нем облаками — декорацию. Влюбленные, чьи головы снова крепко сидят на плечах, удивляются, куда это они попали. На троне больного короля теперь сидит другой персонаж, одетый в балахон и с длинной белой бородой; падкая до аллегорий публика встречает его аплодисментами. Милосердный Бог отправляет их обратно на Землю, обещая, что ничто в жизни не сможет их больше разлучить.
Гром аплодисментов. Актеров вызывают на сцену — раз, другой, третий. И только один зритель стоял, опустив руки, медленно приходя в себя и пряча свое потрясение от спутников. У него было такое чувство, будто он заново прожил некоторые эпизоды этой странной притчи, а вместе с ними — испытанный когда-то публичный позор. Кто еще в этом мире мог бы сказать, что видел, как на сцене разыгрывали историю его жизни? Кто был бы готов увидеть, как его душу прилюдно раздевают донага? Какая странная причуда судьбы сделала возможным этот трюк? Как получилось, что самые драматичные события его жизни предстали перед зрителями в виде какой-то басни, какой-то нелепой карикатуры? Его любовь к жене — непристойный анекдот. Ярость умирающего короля — зловещая буффонада. Публичная казнь — мрачный фарс. Гнев Божий — дешевая поделка для ханжей. Эпилог — сплошная ложь.
Все эти вопросы требовали ответа, и безотлагательно. Едва успев разгримироваться, актеры разбирали подмостки и декорации. Их уже ждали в другом месте, так что ночь им предстояло провести в пути. Тем не менее они нашли время, чтобы принять благодарного зрителя, которому спектакль, очевидно, так понравился, что он спросил у них название пьесы и поинтересовался, не является ли кто-то из них ее автором. «Пьеса называется „Супруги поневоле“, — ответили ему, — автор, Чарльз Найт, живет в Лондоне, пишет пьесы для театра „Перл“. Когда там поставили эту пьесу, мы встретились с ним, чтобы получить согласие на турне».
Прежде чем уйти, зритель не удержался и дал им несколько указаний относительно игры. Актеру, любителю пожестикулировать, который исполнял его роль, он сказал, что все описанные в пьесе события герои переживали молча, пребывая в состоянии изумления или сосредоточенности. Той, что играла его жену, он попенял за жеманство и притворное кокетство, ибо подлинная героиня этой истории отличалась примерными манерами и высоким достоинством. Исполнителя роли короля он заверил, что болезнь Людовика Добродетельного не была следствием его жестокости, а наоборот, его жестокость была вызвана болезнью, и в этом — ключ к пониманию его образа. И тому же актеру, игравшему Бога с шерстяной бородой, наподобие Нептуна или Зевса, он сказал, что Бог не может испытывать человеческих чувств, поскольку Он сам их и создал. Или же Он должен воплощать их все одновременно, но этого не смог бы передать даже самый талантливый актер в мире.
За столом дворяне били сбор: было самое время немного отдохнуть, прежде чем подняться на борт «Матери Марии». «Я не поеду», — объявил их новый приятель, тут же переставший быть таковым.
*
Кровать была низкая, колченогая, жесткая, застеленная рваной простыней и замшелым одеялом. Но это была кровать. В палате, длинной, с высоким потолком, находилось около сотни умирающих и столько же больных; многие лежали в постели, остальные ковыляли, плевались и орали, чтобы обмануть боль и скуку. Калеки сторонились золотушных, чахоточные шарахались от чесоточных, словно каждая болезнь определяла принадлежность к особой касте, презирающей все остальные. Сестры милосердия утихомиривали весь этот люд успокоительными отварами или, за неимением лучшего, добрым словом. Посреди комнаты стоял внушительных размеров самовар — объект особого внимания всех присутствовавших. Его почитали как манну небесную, припадая к нему как к источнику живительной влаги или греясь возле него в дни, когда стены палаты поблескивали от инея.
Войны и распри, сотрясавшие земли, расположенные на границе Царства Грузинского и Османской империи, вот уже полвека обходили стороной Свиленскую лечебницу, потому что там принимали израненных солдат независимо от того, откуда они пришли и к какой армии принадлежали. Им был отведен один из четырех корпусов, составлявших это заведение, где они пребывали какое-то время, а затем снова отправлялись воевать. Применительно к этой лечебнице слово «приют» обретало свой истинный смысл, поскольку и солдаты, и мирное население находили там покой, и, кроме того, это место пользовалось неприкосновенностью, наподобие церквей и посольств. Настоящее маленькое государство в государстве, анклав внутри города Свиленска, на протяжении целого столетия сражавшегося против захватчиков.
Рука прекрасной кочевницы еще покоилась на перевязи, раны едва успели затянуться, но она уже готовилась к отбытию. «Останься здесь, несчастная!» — кричали ей умирающие товарищи, выражая тем самым собственный страх перед внешним миром. Из уважения она не скрыла от них ни своих злоключений, ни желания как можно скорее вернуться на родину.
Утром двое санитаров силой отвели ее — нет, не к дверям больницы, а в соседний корпус, самый таинственный и самый страшный.
Там содержались умалишенные, помешанные, припадочные, нервно- и душевнобольные — мужчины и женщины всех возрастов. Это была какая-то какофония безумства — чудовищный оркестр из сотни инструментов, среди которых были и бешенство, и бред, и навязчивые состояния. В отличие от других страждущих, которых распределяли по категориям, эти пребывали в полной анархии, поскольку каждый из них представлял собой яркую индивидуальность, каждый стремился выделиться, презирая особенности остальных, каждый возмущался навязанным ему соседством с буйно помешанными и каждый недоумевал, за что его тут держат. Для них Свиленская лечебница была ни в коей мере не приютом, не убежищем, а тюрьмой, где не было санитаров, а лишь тюремщики и где главного врача, пользовавшегося непререкаемым авторитетом, называли не иначе как человек с ключами.
Забавно, но этого самого врача нисколько не возмущало такое прозвище, в которое он, правда, вкладывал совершенно иной смысл, чем его больные. Он никоим образом не представлял себя всемогущим начальником гигантского застенка, считая себя исследователем, чьи труды по нервным расстройствам скоро облегчат страдания рода людского. И чтобы проникнуть в тайные закоулки сознания, в его хранилища и подземелья, ему надо было отыскать ключи — символические, но дарующие свободу людям. Эти ключи у него были, и не один, в чем он с гордостью признавался своим выдающимся собратьям по профессии: некоторые из них считали его первооткрывателем в своей области, другие — таким же сумасшедшим, как и его подопечные. В ожидании, пока не будет разработана специальная научная терминология на основе греческого и латыни, врач пытался характеризовать своих пациентов одним-единственным словом.
Одного из них, особенно чувствительного к ночным светилам, отличавшегося настроением столь изменчивым, что временами с ним случалось полное помутнение рассудка, он называл Лунатиком. Пребывавшая в состоянии вечного блаженства Иллюминатка указывала окружающим путь к мистическому откровению. Молодой человек с мрачным взглядом поэта, страдавший неизлечимой апатией, из-за которой он не вставал со своего тюфяка, был Меланхолик. Сердитому достаточно было заметить обращенный на него взгляд, чтобы тут же дать волю гневу. Преследуемый подозревал всех и каждого в заговорах против его персоны и пытался расстроить их планы, проявляя при этом поистине удивительную фантазию. Похотливый в любой, даже самой невинной фразе находил развратный смысл. В Переменчивом жили одновременно два человека: один, обладавший веселым нравом, постоянно пребывал на грани эйфории, другой же был раздражителен, и обе эти ипостаси постоянно боролись между собой.
Не имея особого желания быть объектами научного исследования, больные тем не менее соглашались на присвоенные им прозвища, ибо все они, попадая в лечебницу, теряли свое гражданское состояние.
Попав к сумасшедшим, новая пациентка стала волноваться, не случилось ли тут недоразумения. Чем дольше тянули с ее освобождением, тем больше она нервничала, так что в один прекрасный момент оказалась привязанной к кровати, к вящему любопытству обитателей заведения, сгрудившихся вокруг нее, словно стервятники и шакалы вокруг раненого зверя. Наконец пришел человек с ключами, радуясь возможности побеседовать с той, кто должна была стать для него новым объектом изучения.
Накануне, когда он заходил в соседний корпус повидать коллегу, он заметил группу больных, окруживших одну выздоравливающую, которая рассказывала им, как попала в Свиленскую лечебницу. Речь шла о двух влюбленных, не подчинившихся законам, о насильственном браке, о каком-то умирающем короле и о бешеной гонке через весь свет в поисках своей второй половинки. Фантазия в чистом виде, но очень увлекательная, благодаря своей четкой форме, своей перевернутой с ног на голову логике и притчам, которыми она изобиловала. Настоящий подарок судьбы для практикующего врача, случай, в котором соединились одновременно и помрачение рассудка, и неудовлетворенность желаний. Несчастная являла собой характерный пример женских страданий, связанных с особенностями физического строения, когда, повинуясь инстинкту, женщина совершает плотские действия, но боится при этом попрать нравственные начала. Особенно показателен был рассказ о ее добровольном заточении вместе с возлюбленным: не в силах заставить их соблюдать правила приличия, народ обратился к королю как к высшему гаранту нравственности, однако смертельно больной монарх также не смог прекратить их бесчинства. То, как несчастная, сама того не зная, признавалась во власти, которую имели над ней чувства, было замечательно во всех отношениях, равно как и многообразие проявлений мужской агрессии, которым ей пришлось столь отчаянно сопротивляться во время ее путешествия. Рассказы этой безумной лягут в основу целой главы трактата, который он в скором времени собирался посвятить мукам сладострастия. Чтобы правильно выстроить логику своего произведения, ему надо было выявить слабые места в ее рассказе и углубиться в них, дабы выявить их корни. И кто знает, возможно, терпеливо выслушивая ее, он сможет успокоить некоторые из ее страхов. А может быть, и излечить ее — почему бы и нет? Впереди у него еще столько лет.
*
Единственный спасшийся после кораблекрушения «Святой Благодати» отказался подняться на борт «Матери Марии» по причинам, которые он предпочел утаить от служащих Французской торговой компании. Как объяснить тайну, если и сам ничего в ней не понимаешь? Этот фарс, над которым все от души посмеялись, — «Супруги поневоле» — оказался не больше и не меньше, как историей его собственных злоключений, описанных одно за другим с такой точностью, что этого нельзя было объяснить случайностью.
«Я еду в Лондон», — сказал он своим благодетелям, оставив их в некотором замешательстве. Отказавшись принять протянутую ему руку помощи — что с ним случалось нечасто, — он снова остался совсем один и без гроша в кармане. Однако, каким бы странным это ни выглядело, комедианты показали ему, что ничего из того, что ему довелось пережить, не было проявлением его безумия. Но откуда автор пьесы узнал его историю? Неужели он встречал ту, единственную, кто, не считая его самого, знал ее в мельчайших подробностях? Может, ему известно, где она сейчас?
На эти вопросы мог ответить только таинственный Чарльз Найт, который, никогда не видя его в глаза, сделал из него одновременно и шута, и героя.
Вновь став бродягой, он работал в порту Гибралтара, где готовилось к отплытию судно «Нортвудс», возвращавшееся в Англию. В течение долгих трех месяцев он обрек себя на общение с группой докеров — спесивых пьяниц, и все только ради того, чтобы усвоить некоторые обороты языка, без которого ему скоро будет не обойтись.
Сойдя на причал в лондонском порту, он почувствовал себя ввергнутым в поток нового века — кипучего, нетерпеливого, с неизвестными ему обычаями и правилами выживания. Преодолев полмира, он попал из одного океана в другой — столь же бурный, с людскими приливами и отливами, которые катили свои волны меж гигантскими зданиями, высокими, словно девятый вал. На каждом углу ему пытались продать нечто, чего он не мог себе позволить, или отнять то, чего у него не было, его то заманивали в ловушку, то обращали в какую-то веру, то нанимали на какую-то грязную работу. И на все эти бесчисленные предложения он отвечал одинаково, приводя в замешательство тех, кто к нему обращался: «Я хочу в театр».
Пройдя лабиринтом тесных улочек, он вышел на большую площадь, светлую, ухоженную, окруженную добротными домами, где возницы наводили глянец на свои выстроившиеся длинной чередой экипажи. Тут и находился театр «Перл» — величественное здание из белого камня, красноречиво говорившее об уважении, с которым в этой стране относятся к драматическому искусству. На афише он прочел, что сегодня вечером, в шесть часов, будет представлена пьеса «Луций и Изаура», увы, не того автора, которого он разыскивал. Он не стал осматривать город, знакомиться с его тайнами, его шумной жизнью, а предпочел дожидаться своего часа на ступенях этого прекрасного белого здания, словно нищий, который только из гордости не протягивает руки за милостыней. Впервые его надежда найти свою жену помещалась в совершенно реальном месте, где бывал абсолютно живой человек, укравший у них их историю.
Настал вечер, и, заплатив за место в оркестровой яме, он принялся рыскать в полумраке театральных переходов в поисках какого-нибудь служителя, которому достанет любезности предоставить нужные сведения. Этим человеком оказался сам директор, который, решив, что имеет дело с таким же театральным деятелем, пришедшим по делу, согласился ответить на его вопросы. Да, действительно, «Супруги поневоле» были поставлены в его театре, но что он мог сказать о Чарльзе Найте, кроме того, что это самый привередливый, самый алчный, самый непредсказуемый из всех его авторов? Он живет в Лондоне, но постоянно меняет пансионы, пропадает иногда месяцами, а затем снова появляется с новой пьесой. Он присутствует на репетициях, следя, чтобы актеры не слишком увлекались импровизациями, а затем, после премьеры, каждое воскресенье заходит за причитающейся ему частью выручки. Директор добавил также, что Чарльз Найт всегда приходит на премьеры своих собратьев по перу, но не столько для того, чтобы их поздравить, сколько чтобы оценить плоды их вдохновения. Через три дня в театре «Перл» состоится премьера водевиля «Влюбленный бандит», этот жанр в большом почете, так что спектакль явно ожидает триумф.
*
День за днем человек с ключами подвергал свою новую пациентку допросу, становившемуся с каждым разом все более и более жестоким: этот так называемый муж, которого она описала с такой любовью, имеет ли он хоть какой-то недостаток, способен на ошибку? Или, наоборот, он неуязвим, непогрешим и обладает сверхъестественными способностями?
Таким образом ученый и благовоспитанный господин, снисходительно вежливый, ласковый — так обычно обращаются с детьми, — крушил ее воспоминания о муже. С легкой иронией, сдобренной чуточкой жалости и согретой слабым огоньком сочувствия, он осмеливался ставить под сомнение само его существование, отчего тот превращался в нечто нематериальное, бесплотное, в некоего духа-хранителя, правда малоэффективного в разлуке.
Она так любила, страдала, боролась, и вот теперь ей приходилось доказывать, что ее суженый не был плодом отвратительной мечты — мечты брошенной женщины, оказавшейся во власти пошатнувшегося рассудка.
«Милый доктор, — думала она, — если бы ты, как я, стоял на коленях перед Людовиком Добродетельным, ставшим Людовиком Безумным, ты бы своими глазами увидел, что есть настоящее безумие. Ты бы понял, что это вовсе не то, чем страдают здешние горемыки, доведенные до такого состояния самой жизнью. Если бы ты взялся за его лечение, ты бы смог остановить этот поток злобы и спас множество жизней, уничтоженных королевскими карами. Если бы ты решился помериться силами с ним, а не с простой женщиной, которой хочется вернуться домой, ты проявил бы настоящее мужество. О, это был бы прекрасный объект для изучения, он обогатил бы твои познания, показал, на что ты способен как врач, и добавил целую главу к твоей книге о пагубных страстях, став наградой за жизнь, потраченную на изучение извращений, которыми страдают твои ближние. Рядом с безумным королем ты и сам узнал бы, что такое страх, бессилие, беззащитность — все эти чувства, которые умалишенные Свиленской лечебницы испытывают перед тобой, мелким властелином, и тогда ты наверняка был бы сегодня гуманнее. Интересно, что бы ты, утверждающий, что знаешь все о нервных отклонениях, сказал, когда этот пациент приговорил бы тебя к смерти? И, ожидая, когда на твою шею опустится топор, подумал бы ты: „Через несколько лет лечения этот пациент сможет вновь обрести здравый рассудок“?»
Когда она вернулась в палату, у кровати ее ждала Иллюминатка, желавшая знать, получила ли она имя, придуманное для нее человеком с ключами. Француженка ответила, что никогда не согласится, чтобы ее мечты и поиски свелись к одному-единственному слову. Но ей и не придется пережить такого позора, потому что она раньше покинет это место.
Покинет? Об этом мечтали все, но все уже давно отказались от этой мысли, и Иллюминатка объяснила ей почему. Идея бунта, которая могла бы способствовать проявлению коллективного сознания, вместо этого лишь обостряла в каждом его индивидуализм, что делало невозможным движение к общей цели; страхи одних вступали в противоречие с навязчивыми идеями других, так что весь корпус превращался в сборище буйных сумасшедших, боровшихся за собственное эго, и это лишь подтверждало уверенность охранников в том, что их надо держать под замком.
Новенькая решила самостоятельно сколотить фронду. Она пробьет брешь в этой тюрьме, где содержались не виновные, а необычные и несчастные люди, наказанием для которых, кроме самого заключения, было изучение их в качестве научного явления. И чтобы никто другой не посмел придумывать ей прозвище, она сделала это сама: отныне ее будут звать Мятежница.
Она не стала пытаться объединить пациентов под одним лозунгом, решив, что будет разумнее позволить каждому выбрать себе товарища по душе. Первый привлечет второго, тот убедит третьего и так далее, пока не сформируется целая цепочка, каждое звено которой будет определять следующее.
Применяя этот принцип на деле, Мятежница пошла к Иллюминатке, для которой француженка была чем-то вроде архангела, явившегося издалека, чтобы освободить их всех от непосильного гнета. Чтобы привлечь третьего заговорщика, Иллюминатка обратилась к Переменчивому, будучи одной из немногих, кто умел разглядеть в нем приятную сторону.
Польщенный тем, что мятежники в нем нуждаются, тот потихоньку переговорил с Лунатиком, поскольку оба подчинялись неким циклам, конечно разным, но делавшим иногда их настроения вполне совместимыми.
Лунатик согласился спуститься со своей планеты, чтобы переместиться на мало чем отличавшуюся планету Меланхолика.
Меланхолик, выведенный столь экстравагантным предприятием из состояния печали, открылся Самозванцу, которого идея восстания чрезвычайно возбудила, поскольку он всегда утверждал, что принадлежит к некоей династии воинов и завоевателей.
Самозванец рассказал обо всем Простодушной, которую чрезвычайно высоко ценил за то, что она была единственной, кто верил его россказням.
Простодушная шепнула словечко Похотливому, считая, что ему можно доверять: не понимая его игривых намеков, она принимала их за тонкие знаки уважения к ее персоне.
Круг замкнулся однажды вечером, когда тот, кого называли Заклинателем, подошел к Мятежнице, чтобы просветить ее относительно одного тайного предприятия, в результате которого скоро падут стены их темницы.
*
В день премьеры «Влюбленного бандита» француз истратил последние пенни на билет в театр «Перл». Но зритель он был никудышный: он снова проверил балконы, заглянул в ложи, обшарил кулисы, где наконец заметил некий силуэт, закутанный в муаровый плащ и почти слившийся с фоном. Ожидавшая своего выхода статистка в костюме куртизанки из бедных кварталов подтвердила, что это действительно грозный и загадочный Чарльз Найт.
Страшно нервничая, француз воспользовался аплодисментами перед антрактом и подошел к нему. Он хотел бы сразу задать главные вопросы: «Вы видели ее? Говорили с ней? Она здорова? Улыбается по-прежнему? Где она сейчас? Вы могли бы отвести меня к ней? Прямо сейчас, к чему откладывать?» — но вместо этого ему пришлось начать с преамбулы, с которой он, в сущности, не знал, что делать. Чтобы его не приняли за одержимого, он был вынужден представить в наиболее рациональной форме историю, которую меньше всего можно было назвать рациональной, рассчитывая на имевшееся у драматургов чутье на исключительные ситуации, которые им просто необходимы как главный материал для творчества.
На деле автор услышал самый что ни на есть спутанный рассказ: какой-то приезжий, явившийся с другого края света, утверждал ни много ни мало, что является персонажем одной из его пьес — про́клятым влюбленным из «Супругов поневоле».
Чарльз Найт призвал весь свой здравый смысл, чтобы успокоить безумца, явно ставшего жертвой феномена, который хорошо известен драматургам, — по крайней мере, тем из них, кто умеет взять зрителя за душу. Бывают случаи, когда пьеса настолько трогает зрителя, что он узнает в ней события собственной жизни, и под воздействием этого явления, редкого, но сильнодействующего, он начинает путать реальную жизнь с пьесой и внушает себе, что автор описал в ней именно его. Чарльз Найт знавал такие прецеденты, а потому увидел в этом дань уважения к своему произведению. Он заявил, что у него нет нужды красть что бы то ни было у кого бы то ни было, поскольку он обладает достаточно богатым воображением, чтобы написать десять продолжений «Супругов поневоле». После чего попросил поклонника своего таланта вернуться в зрительный зал, где ему и место.
Тот же, сдерживая раздражение, заверил автора, что не собирается разглашать его тайны: никто никогда не узнает о его творческих хитростях, он только просит сообщить ему, и как можно скорее, где он взял фабулу своей пьесы.
Вместо водевиля зрители в зале услышали далекое эхо разыгравшейся трагедии и подумали, что это такой сценический эффект. На возмущенные крики Чарльза Найта прибежал директор, узнал докучливого посетителя, наводившего у него справки три дня назад, и пригрозил полицией, в случае если тот сорвет спектакль.
Француз, внезапно ставший сговорчивым, как будто на него подействовало предупреждение, извинился и пообещал никогда больше не появляться в театре. Он слишком долго ждал этой встречи, чтобы сейчас отправиться в каталажку: ведь неизвестно, куда этот непредсказуемый Чарльз Найт мог снова подеваться. Раздраженные актеры «Влюбленного бандита» вновь обрели тишину, необходимую для продолжения спектакля.
Снаружи конца представления ждал человек. Он не испугался солдат, противостоял дикарям, спорил с матросами, сражался с наемниками, так неужели он капитулирует перед каким-то писателем?
*
И революция свершилась. Ночью, неожиданно. И была она подготовлена с такой тщательностью, на которую сумасшедшие считаются обычно не способными. Операцией руководила Мятежница, уверенная в своем войске. Еще до рассвета были нейтрализованы сиделки и санитары, да так ловко, что в соседних корпусах этого никто не заметил. Главный врач, привязанный к креслу ремнями, прочность которых ему впервые приходилось испытывать на себе, был вынужден наблюдать за ходом восстания. Великий специалист по исцелению нервных больных, он, вместо того чтобы увидеть в происходящем материал для очередной увлекательной главы своего труда, посвященного душевным болезням, расценил все как ужасное предательство и угрозу самим основам его специальности. При виде сотни умалишенных, соблюдающих дисциплину римской когорты и уже в самих своих действиях проявляющих высокомерие победителей, все его теории рассыпались в прах. Сто психических отклонений сложились в идеальную сплоченность — абсолютно неприемлемую, оскорбительную, невозможную, непростительную. Столько лет самоотверженного труда попраны этим батальоном сумасшедших, в которых вдруг проснулось чувство локтя! Неблагодарные твари! Вместо того чтобы завещать свое безумие на благо науки, они предпочли вдруг вновь обрести разум и выступить сомкнутым строем не хуже, чем в самой искусной из армий. А как больно видеть, что возглавляет их самая безумная из всех, сумевшая увлечь этих простодушных идиотов собственной химерой, посулив им невесть какую награду, как только они окажутся на свободе. Но ведь ни один из них там не выживет, даже она, ослепленная своими поисками выдуманного суженого. Когда ее распрекрасное войско разбредется кто куда, она уйдет умирать куда-нибудь в лес, бормоча ужасные заклятия и предаваясь своим галлюцинациям.
Врачу было невдомек, что каждый из этих безумцев выслушал историю француженки, на что сам он оказался не способен. И каждый узнал в этой истории себя — кто в какой-то подробности, кто в эпизоде, — все они так же страдали от неприязни соседей, всех когда-то объявляли неблагонадежными, несущими угрозу нравственности, всем врачи простукивали череп, все стали изгоями.
Опьяненные первой одержанной победой, с трудом сдерживая восторг, повстанцы проскользнули между строениями и собрались перед главными воротами. Страдавшие бессонницей пациенты чумного корпуса пристыли к окнам, завороженно наблюдая, как их собратья по лечебнице отважно пытаются выбраться на волю. Начался волнующий диалог, в ходе которого одни, вцепившись в прутья оконных решеток, умоляли других сдаться, а те приглашали их последовать за ними в едином освободительном порыве. Больные, чувствовавшие себя в безопасности, казались сумасшедшим сумасшедшими. А сумасшедшие, спешившие поскорей оказаться на воле, казались сумасшедшими больным.
Крики привлекли внимание солдат из корпуса уволенных с военной службы по состоянию здоровья, и те отправились как бы в разведку. Одобряя саму идею неповиновения, они не знали, к какому лагерю примкнуть: к сумасшедшим, жаждущим свободы, или к больным, цеплявшимся за свое последнее убежище. Они попытались было положить конец возникшей сумятице, но заминка, вызванная их вмешательством, лишь усугубила ее. При столкновении с настоящими вояками, вся организованность сумасшедших сошла на нет, и вскоре у ворот Свиленской лечебницы начался настоящий хаос, в котором смешались страх и надежда, трусость и отвага, непокорность и подчинение власти.
Оставив мысли о единстве, Мятежница перестала переживать за каждого из повстанцев, решив, что пора позаботиться о собственной судьбе: в отличие от остальных, у нее было к чему стремиться, впереди ее ждала длинная дорога. В ней вдруг снова проснулась сборщица ягод, а само ее ремесло обрело вдруг истинный смысл: выбирать. Среди этого переполоха, среди этих растерянных, заблудших душ ей предстояло выбрать себе попутчиков.
В первую очередь она обратилась к Самозванцу, который предложил свернуть к конюшне, за солдатский корпус, где находился экипаж и четыре лошади, — будет на чем удрать в степи. Затем она привлекла Преследуемого, Переменчивого и Фантазерку, чьи причуды могли оказаться в пути поистине бесценными. Самозванец натянул поводья, стегнул лошадей и пустил их по булыжной дороге, ведущей к открытым наконец воротам, где не осталось и следа ни бунтовщиков, ни солдат.
Из этого Мятежница сделала оптимистический вывод: наверняка каждый из них поступил согласно своим убеждениям. Те, кому была необходима свобода, нашли ее. Те, кто хотел, чтобы их оставили в покое, вернулись на свои койки. Нерешительные же, ожидавшие чьего-то приказа, чтобы ему подчиниться, последовали велению единственного своего желания.
Только это воспоминание и сохранит она о своем батальоне сумасшедших революционеров.
Светало, когда экипаж свернул в открытую степь. Выглядывая в окошко и с удовольствием вдыхая прохладный воздух, Фантазерка ничего не смогла к этому прибавить, даже приврать. Преследуемый впервые за долгое время увидел среди своих неожиданных попутчиков только союзников. Переменчивый, казалось, оставил свою темную сторону в корпусе для умалишенных и теперь, по крайней мере в данный момент, обратился ко всем своей солнечной, светлой стороной. Перед ними открывалась свободная дорога. Не успев скрыться из виду, Свиленская лечебница была забыта.
*
Судя по аплодисментам, «Влюбленный бандит» обещал стать событием сезона. Что очень злило Чарльза Найта, возвращавшегося к себе в пансион. Признать талант собрата по перу, то есть конкурента, означало поставить под сомнение свой собственный. Теперь его, Чарльза Найта, очередь напомнить лондонской публике, что она — самая требовательная в мире. Его задача — сделать так, чтобы этот водевиль с его чопорными нравами, скучными стихами, предсказуемыми поворотами был забыт. Он должен представить зрителям собственные благородные сюжетные ходы и изящный слог. Ему предстоит раздвинуть рамки драматургии, описать неведомые доселе чувства, вызвать новые эмоции. Он будет вдохновляться этим миром, чтобы однажды одухотворить своим творчеством этот мир.
Увы, до этого было еще далеко. В этом году музы совершенно оставили его, переметнувшись к другим, а пламя, которым некогда горело его перо, совсем потухло. На смену овациям пришли насмешки исподтишка в театральных фойе: «Похоже, Найт совсем исписался?» В глазах директора театра «Перл» он читал притворную любезность: «Друг мой, я оставляю за вами место в сентябре, только уточните, какого года». Даже квартирная хозяйка, злюка и невежда, удивлялась, не находя его фамилии в «Дейли пост», и опасалась за поступление квартирной платы. «Кто сможет описать невыносимое одиночество драматурга, если не сам драматург?» — думал он, шагая через квартал Мэйфейр в час, когда пустеют таверны. Он и не подозревал, что муки творчества — ничто в сравнении с тем, что поджидало его в тени за углом.
Внезапно, с быстротой грабителя, перед ним возник какой-то человек и, ухватив его за лацканы, повалил на землю, приказав молчать, если ему дорога жизнь.
Когда-то этот самый человек был совершенно мирным существом, неспособным на насилие. Он даже предпочел звероловство собственно охоте, чтобы вопрос жизни и смерти добытых им животных оставался в ведении судьбы, а не зависел от его действий.
И тем не менее сейчас этот человек был готов проломить Чарльзу Найту голову, если тот будет упорствовать в своем нежелании открыть, откуда он взял сюжет для своей пьесы.
Напуганный этой грубой выходкой, гораздо более прозаичной, чем те, что по его воле выкидывали персонажи его пьес, он решил, что имеет дело с уличным воришкой, каких в Лондоне полным-полно. Но когда он узнал одержимого из театра «Перл», его испуг сменился ужасом: тут двумя шиллингами не отделаешься.
Он признался, что выдал «Супругов поневоле» за чистый вымысел — элегию на основе собственных размышлений о двух поломанных судьбах. На самом же деле он всего лишь перенес на сцену удивительную историю, которую рассказал ему по возвращении из плавания брат, Льюис Найт, служащий Британской Ост-Индской компании.
Будучи в Китае, в торговом представительстве компании в городе Гуанчжоу, где они должны были загрузить судно чаем, его брат побывал в гостях у плантатора, чьи земли, площадью равные Англии, сплошь были отведены под выращивание «зеленого золота». На манер Цицерона с другого края земли этот торговец приглашал клиентов посетить его владения, чтобы слава о нем достигла других континентов. Льюис Найт принял его приглашение из сугубо личных соображений: правление компании поручило ему собрать как можно больше информации по культуре чая, с тем чтобы в дальнейшем его можно было выращивать на английской почве, ибо все предпринятые за последние двадцать лет попытки добиться этого оканчивались неудачей. Он задал принимавшему его хозяину тысячу вопросов, чтобы тот поделился своими секретами, справлялся о сортах чая, которые смогли бы прижиться в Европе, присутствовал при сборе чайного листа, даже сам участвовал в работах, к большому удивлению крестьян, которым польстило, что кто-то так ценит их мастерство. Он делил с батраками их трапезу, ел вместе с ними рис, слушая истории, которыми те делились вечерами после трудового дня. Был среди них и рассказ одной женщины, француженки, неизвестно как попавшей в те края, обладавшей удивительной силой убеждения. Она поведала о некоторых, очень личных эпизодах своей жизни, о своей встрече с мужчиной, самым любезным, самым обходительным на свете, о том, сколько счастья пережили они вместе и сколько выпало на их долю напастей.
Но когда она заговорила о небесных видениях и о своем воскресении, начался совсем другой рассказ. Это была чистая фантасмагория, одна из тех аллегорий, что зажигают в сердцах людей жажду возвышенного. Своими словами она побуждала простых смертных жить настоящим, не ждать будущего, как бы ни было тяжело их бремя.
В этом, по мнению драматурга, заключалась самая назидательная часть истории, как будто эта женщина познала божественное еще при жизни, рядом с любимым мужчиной, не имея ничего, кроме дерева, реки, огня в очаге. «О, как не хватало мне этих ее слов!» — признался драматург, пытавшийся воссоздать ее рассказы в надежде покорить сердца зрителей театра «Перл» точно так же, как эта француженка покорила сердца сборщиков чая. Но, несмотря на все старания его брата Льюиса, усердно напрягавшего свою память, разве мог он передать все эти ощущения, дать прочувствовать все их нюансы — от печали до надежды, передать этот восторг, не испытав их сам, а главное — сообщить зрителю эту радость, непредсказуемую, щемящую, ибо, несмотря на все ужасы, которые ей пришлось пережить, эта женщина умудрялась рассказывать о них со смехом, часто смеясь над самой собой, проявляя легкомыслие, на которое способны только те, кто лично оплатил свое право на это.
И теперь Чарльз Найт плакал перед этим незнакомцем, который оставил все свои угрозы. Эта тень напомнила ему, что, несмотря на успех «Супругов поневоле», он не справился со своей задачей. Слушая легенду о женщине с отрубленной головой, привезенную братом-мореплавателем, он мечтал о пьесе совершенно иного масштаба, о великом произведении, которое должно было вписать его имя огненными буквами в историю драматургии. Он же выдал какой-то жалкий набросок, о котором в будущем сезоне никто не вспомнит.
Незнакомец, успевший тем временем выйти из тени, предложил ему заключить удивительный, неслыханный доселе договор.
«Верите вы или нет тому, кто я и откуда, это не имеет значения. Знайте, что я тысячу раз предпочел бы более спокойную, однообразную жизнь рядом с той, кто была и остается моей супругой». Жизнь ничем не примечательную, из которой нельзя было бы взять ничего для театра и которая с самого начала вызывала бы у зрителей смертную тоску. Увы, все получилось иначе, но сегодня он может подсказать Чарльзу Найту совершенно новую версию его «Супругов поневоле».
Разве можно мечтать о лучшей музе, чем персонаж твоего же произведения, готовый нашептывать на ухо автору все, что запечатлелось у него в памяти, следить за точностью его слов? Герой истории будет стоять у него за плечом, доброжелательно глядя на выходящие из-под его пера строчки. Мысленно вновь переживая свою любовь к женщине, он будет описывать ее, не заботясь о драматургических приемах, вкладывая в свой рассказ всю силу правды, всю боль пережитого.
Чарльз Найт представил себе, чем может обернуться это странное сотрудничество. Писать под диктовку, чтобы тебя потом еще и правили, как школьника? Забыть, что ты «чудотворец», подчиниться требованиям твоего же персонажа? Залезть в дебри его психики и заблудиться там? Попрать здравый смысл, пожертвовать правдоподобием, то есть пойти против всех правил классической драматургии?
«Да, тысячу раз да! — радостно вскричал он. Найдется ли писатель, который отказался бы от такой уникальной возможности? — Примемся сейчас же за работу, я живу в двух шагах отсюда, квартирная хозяйка приготовит нам кофе покрепче, я уже чувствую, как мое перо так и рвется в облака!» Однако новоявленный соавтор несколько остудил его пыл, напомнив, что договор должен учитывать интересы обеих сторон. За свою помощь он не ждет никакого вознаграждения, никакого признания, а лишь просит познакомить его с братом-капитаном, чтобы отправиться вместе с ним туда, где тот повстречал эту столь одухотворенную сборщицу чая, которая, возможно, все еще живет там — по собственной воле или по принуждению.
И тогда Чарльз Найт понял, даже не пытаясь дать этому объяснение, что стоявший перед ним человек и был тем самым злосчастным влюбленным, искавшим свое потерянное счастье.
Он выходит из небольшого дома, зажатого между сувенирным магазином и отделением тайваньского банка, на углу Мотт-стрит и Кэнел-стрит, в самом сердце нью-йоркского Чайна-тауна. Он только что вернул родным старика-китайца машину, которую тот дал ему. Они же, как и было условлено еще в Кливленде, выдали ему два новеньких телефона, два ноутбука и два американских паспорта, более потрепанных, чем настоящие. Отныне их с женой будут звать мистер и миссис Грин. Она родом из Нью-Джерси, он — из Сиэтла.
Жена ждет его в кафе на Бродвее, сидя за столиком, заваленным дневными газетами: там, на каждой странице, она ищет себя. Какая-то женщина, выйдя из соседнего бокса, просит по-английски с сильным квебекским акцентом приглядеть за ее ребенком, пока она сбегает в аптеку. Однако малыш не нуждается ни в каком присмотре: он сидит не шевелясь, не притрагиваясь к своему куску торта, ни на что не смотрит и не издает ни звука. От детской непоседливости в нем осталась лишь негативная энергия, которую он сдерживает и обращает против себя самого. Присутствие чужой тети не пугает и даже не удивляет его, он его просто не осознает.
Она рассказывает ему, как когда-то, давным-давно, повстречала молодого человека, которого все называли Лунатиком. Время от времени он спускался на Землю, чтобы вдоволь порадоваться земному притяжению, а потом снова возвращался на свою планету. Но на самом деле он ждал, когда ему выдастся случай показать всем свои супервозможности.
Затем она переходит к рассказу о том, как однажды утром во время бунта Лунатик перевернул вверх дном всю больницу. При слове «больница» мальчик съеживается, словно обжегшись. Но информация усвоена: супергерой с Луны перевернул больницу.
Вернувшись, мать видит, как ее сын и незнакомка борются друг с другом. Если бы не народ в кафе, она разрыдалась бы при виде его улыбки.
Муж потихоньку выкладывает на столик паспорт, телефон, ноутбук и пододвигает их к жене. Она рада, что теперь ее фамилия — Грин. Но тут же объявляет, что их планы меняются: в Монреаль они поедут врозь.
Так будет меньше риска. Она пересечет границу в машине этой женщины с ребенком, которые не хотят с ней расставаться. А он поедет автобусом.
Он сердится на нее за это решение, хотя признает, что оно толковое. Она же обещает, что это будет их последняя разлука.
Он желает ей счастливого пути и добавляет чуть язвительно: «Если тебя не пугает поездка в одной машине с сумасшедшими…»
Она смеется.
Экипаж, запряженный четверкой лошадей, мчится по дорогам. Внутри обязанности распределились сами собой, без всяких споров: каждый умеет что-то такое, из-за чего и попал в Свиленскую лечебницу, где его способности не имели никакого шанса на применение. Пять человек, которых наука сочла умалишенными, образовали во время побега устрашающий симбиоз. То, что там было опасной наклонностью, здесь стало ценнейшим преимуществом. Когда Переменчивый давал волю своей злобной стороне, его просили выйти из экипажа и сесть на козлы, чтобы срывать злость на лошадях, благодаря чему он превращался в прекрасного возницу. Возвращаясь же после этого внутрь повозки, он вновь становился милейшим из пассажиров.
Интуиция Мятежницы относительно Преследуемого не обманула ее: тот, кто еще вчера был худшим из соседей по палате, подозревавшим всех и вся в заговорах против своей персоны, обнаружил сегодня дар предвидения нежелательных встреч. Он определял маршрут, причем так, будто топография местности, через которую они следовали, не представляла для него никакой тайны; компасом ему служила собственная подозрительность, ибо он столько раз обходил препятствия, пусть даже воображаемые, что они перестали для него существовать. Беспокойство одного успокаивало остальных четверых, как огонек ночника во тьме.
У Фантазерки был талант иного рода, особенно ценный, когда на пути у них возникал постоялый двор или почтовая станция. Когда им надо было поменять лошадей или раздобыть краюху хлеба, все обращались к ней, ибо она одна могла обеспечить экипажу неоспоримую законность. Она придумывала, что соврать в зависимости от местных нравов и обычаев, и ее речи, богатые подробностями и разнообразными обстоятельствами, невозможно было поставить под сомнение. Их повозка становилась то каретой консула по особым поручениям, то экипажем бея на отдыхе, то князя в изгнании. Прежде чем выйти из экипажа, она распределяла роли: тут — дипломатический представитель, уполномоченный объявить войну, там — посол, прибывший подписать мирный договор, или эмиссар, занятый подготовкой визита китайского императора. И несчастный, замороченный хозяин заведения, польщенный такой честью — принимать у себя воплощение «государственных интересов» или саму Историю, — выкладывал путешественникам самую лучшую еду, отдавал в их распоряжение самых выносливых лошадей. А наутро, еще до рассвета, его выдающиеся постояльцы исчезали, как воры, каковыми и являлись, готовые скакать целый день напролет и морочить головы другим простакам.
Конечную цель их путешествия выбрал Самозванец. Будучи сам родом из Италии, из богатой, могущественной семьи, он пообещал, что во Флоренции они найдут тихую гавань, где смогут утешиться и позабыть о своем рискованном путешествии. Кстати сказать, когда Фантазерка назначала его на роль герцога, путешествующего со своей свитой, он справлялся с ней с необычайной легкостью, и не случайно: ведь он и был герцог.
В корпусе для буйных Свиленской лечебницы было немало монархов, генералов, набобов — могущественных и несметно богатых властителей, попавших туда, как они сами говорили, по несправедливости. Но лишь в отношении одного из них это было чистой правдой. Когда-то его семья дала миру несколько правителей и даже пап, она правила всей Северной Италией, имела собственную армию, не знавшую поражений на протяжении двух столетий. Сегодня же ее члены удалились от интриг и власти, посвятив себя искусству и отведя часть громадного состояния на меценатство, что является гораздо более надежным способом оставить свой след в Истории.
Мятежнице это было на руку; конечно, поездка во Флоренцию означала большой крюк, но расставаться с командой посреди путешествия было бы неразумно. Снова остаться одной, жить чем придется, подвергаться каждый день новым опасностям — разве есть у нее на это силы? Самозванец пообещал, как только они окажутся в его владениях, отблагодарить своих сообщников за верность, ибо отныне пятерых беглецов связывала такая вера друг в друга, какая известна только солдатам в бою. Как только он вновь облачится в герцогские одежды, придворные придут к нему с заверениями в дружбе, но никогда не найдет он в них той верности, которой удостоила его кучка взбунтовавшихся психов. Поэтому Мятежница приняла его предложение предоставить в ее распоряжение карету и эскорт, чтобы она могла вернуться домой. Кроме безопасности, удобства, скорости, она увидела в этом случай взять своего рода реванш: пусть давешние ее соседи, да и сыновья их сыновей давно уже мертвы, ей будет приятно вернуться туда, откуда ее изгнали, с триумфом.
*
Если, работая над первым и вторым актами новой редакции «Супругов поневоле», они оттачивали свое соавторство, то третий акт обострил их взаимоотношения самым радикальным образом. В сцене у короля Франции Чарльз Найт видел повод поспорить с «обязательной программой» драматического искусства, где «маленький человек» выступает против абсолютной власти в лице Бога, монарха, тирана. Как устоять перед соблазном высмеять мэтров драматургии, убежденных в своем всемогуществе? Разве не в ниспровержении нравственных законов, закабалявших целые народы, не в свержении всяческих иерархий, не в изменении логики слабых и сильных состоит сама роль художественного вымысла? Как не обрядить этого короля в мишуру самонадеянности, как не пропитать желчью его самодовольные реплики? На что его оппонент отвечал: «Нет, господин автор! Стоя перед королем, влюбленные отбросили все высокомерие, оно сменилось состраданием, никто не может смеяться над умирающим, даже шут начинает стыдиться своего веселого вида и упитанного тела. Зачем скатываться в ожидаемую всеми сатиру и так дешево покупать благосклонность публики? Труднее всего показать, что на пороге смерти король оказывается человечным, трагически, прозаически, глубоко человечным». Найт возражал: как можно испытывать хоть каплю жалости к человеку, который отправляет вас на плаху? Парадокс, в котором зрителя не смогут убедить даже самые тонкие стихи, самые искусные речи.
За этим парадоксом крылся другой, и француз считал его гораздо интереснее первого, ибо несчастные влюбленные, которых, как и короля, ждала неминуемая смерть, не чувствовали ничего — ни ужаса, ни злобы, — один лишь страх перед грядущей разлукой, и вот это-то чувство драматург и должен передать любой ценой, а не увлекаться циничными нападками на власть. И тогда Чарльз Найт заново просматривал свой текст, сидя над ним ночь напролет, в то время как его вдохновитель, утомленный словесными баталиями, засыпал в кресле.
Проснувшись, он пробегал глазами испещренные пометками страницы с еще не высохшими чернилами, обнаруживая новые сцены, в одной из которых Людовик Добродетельный выглядит чуточку достойнее, запрещая говорить о своей немощи, чтобы не тревожить народ: «I would they knew nought of my true affliction. Odd's life! The frailty of a king must be secret»[3]. Но уже в следующей сцене, во власти противоречивых желаний, король утрачивает величие, требуя, чтобы народ, оплакивая его, пролил столько слез, сколько не вместил бы и океан.
Уступая в одном, француз в другом твердо стоял на своем, делая это во имя правды, которая, по его словам, одна оправдывала существование пьесы. Чаще всего Чарльз Найт с восторгом принимал его поправки, боясь одного — что рука не успеет схватить на лету этот сверкающий поток мыслей. Но иногда он возвращал автору в лицо все его «переживания» и «чувства», до которых никому нет дела, ибо эта его пресловутая правда, если не подчинить ее законам литературного повествования — этой неуловимой словесной алхимии, — вызовет у зрителей лишь скуку и безразличие. Кроме того, надо учитывать, что зритель любит догадываться, что будет дальше, что у него есть свои «переживания», свои «чувства», и чтобы удивить, чтобы пронять его, требуется задействовать все хитрости жанра.
И вновь между гарантом реальности и представителем формы начинались споры, и ни один из них не желал признавать, что суть произведения и его уравновешенность лежат где-то посредине, на стыке их точек зрения.
Они работали беспрерывно, стремясь скорее закончить пьесу, поскольку со дня на день должен был вернуться из плавания Льюис Найт. Какое-то время компании понадобится, чтобы зафрахтовать для него новое судно, после чего он снова отправится на Восток. Обычно, возвращаясь из путешествий, он баловал родных и близких подарками: жене дарил драгоценный камень, детям — персидского кота или попугая, друзьям — пряности и благовония; а брату Чарльзу, писателю талантливому, но не отличавшемуся богатым воображением, он привозил из далеких стран, когда представлялся такой случай, какую-нибудь легенду, из которой тот мог бы почерпнуть сюжет очередной пьесы. На этот раз, дабы угодить брату-литератору и дать ему возможность соблюсти условия договора, он примет на борт своего корабля непредвиденного пассажира, отправлявшегося на поиски далекого сокровища.
*
Карета с сумасшедшими двигалась дальше, постепенно теряя своих пассажиров. Когда они проезжали через Константинополь, Переменчивый, не устояв перед красотой лазурно-золотого пейзажа, покинул экипаж. Мятежница спросила его, какая из сторон его существа: солнечная или теневая — приняла это внезапное решение. Теперь он и сам понимал, что в нем заключено два разных человека, и решил не избавляться ни от одного из них, чтобы в зависимости от обстоятельств пользоваться то твердостью одного, то благожелательностью другого. Как двуликий Янус, бог выбора, он обладал уникальным даром в любом событии предвидеть либо начало чего-то, либо конец. И в день, когда сама смерть постучит в его дверь, он в глубине души будет знать, что она несет с собой — конец или начало.
Позже, на перекрестке двух дорог, одной — прямой и надежной, и другой — ведущей в края, полные опасностей, Преследуемый, ко всеобщему удивлению, решил в одиночку отправиться именно по ней. Всю жизнь он опасался чего-то, предчувствовал тысячу бед, но теперь ему пришло время ступить на враждебную землю, чтобы окончательно разделаться со своими страхами. После такого испытания огнем он научится отличать плоды своего больного воображения от жестокости этого мира. Что дала ему его навязчивая идея? Защищала она его от внешнего мира или же мешала зажить реальной жизнью? Скоро он получит ответ на этот вопрос.
Переправившись на пароме через Адриатическое море с балканского берега на итальянский, их экипаж взял курс прямиком на север, в Тоскану. Они сделали остановку в Анконе, когда Фантазерка решила оставить их и попытать счастья в этом городе. Смешавшись с толпой в базарный день, она привлекла к себе внимание десятка пройдох и жуликов, почуявших в ней наивную странницу, только что сошедшую с дилижанса. Увы им: остановив на ней свой выбор, они не подозревали — невинные ягнята! — что попали в лапы самой грозной из волчиц. По части надувательства и коварных планов им было чему поучиться у фальсификаторши, чей недюжинный талант имел реальное подтверждение. Она нашла место, где можно было развернуться: скоро весь город будет поставлен с ног на голову.
Мятежница осталась в экипаже с Самозванцем, который с высоты кучерского места постепенно заново открывал для себя пейзажи, запахи и свет родной земли. Если у нее и оставалось последнее сомнение относительно личности ее друга, оно исчезло, как только они въехали во Флоренцию. То там, то здесь среди величественных архитектурных памятников она обнаруживала следы его семьи, оставленные на протяжении многих веков: вырезанная на стене над фонтаном монограмма, высеченный на каменном балконе герб, имя в латинском начертании на фронтоне баптистерия, статуя одного из предков. Проехав через кварталы, где ему был знаком каждый закоулок, он остановил экипаж перед маленькой церковью.
Они прошли вглубь безлюдного в это время дня нефа, проследовали вдоль галереи, и вдруг, позабыв о подобающей в этих святых стенах благоговейности, герцог бросился к какому-то очень старому священнослужителю, выходившему из часовни, посвященной святому Антонию. Оба не сдерживали радости: ученик вновь встретил учителя, наставника в религиозном воспитании, строгого, ворчливого, но всегда снисходительного к юному наследнику. Позже он служил в этом приходе, вверенном его заботам в награду за оказанные услуги и которым он гордился так, словно речь шла о кафедральном соборе. Оставив их радоваться нежданной встрече, Мятежница (которая могла наконец забыть это прозвище) почувствовала, как ею мало-помалу овладевает безмерный покой, снимая усталость и напряжение, копившиеся в ней в течение их безумной гонки. Прислонившись к колонне рядом с алтарем, она увидела безмолвного художника, который благодаря целому сооружению из досок и веревок висел под сводом, словно растворившись в декоре, создаваемом его же руками.
Герцог (которого никто больше не назвал бы Самозванцем) проинструктировал француженку относительно их дальнейших действий. Она останется здесь, в церкви, под защитой священника, и подождет, пока он сходит во дворец, где все считали его давно умершим. При чудесном появлении призрака земля задрожит от объятий, прольется океан слез; ночь напролет он будет рассказывать о том, где пропадал все это время, о своих скитаниях, о заключении в лечебницу, о бегстве, и наконец с первыми петухами фанфары и литавры возвестят горожанам о возвращении наследника. Затем, облачившись в герцогские одежды, он придет за ней, чтобы представить ее своим и таким образом начать празднества в ее честь. «Пусть будет так, как вы хотите, — сказала она, — но не забудьте, что вы обещали отдать мне этот экипаж, когда закончатся торжества. Ни брат, ни сестра не тоскуют по мне дома, никто не устроит праздника в честь моего возвращения, но я очень надеюсь, что, вернувшись в родные края, вновь обрету и родину, и прошлое, и мою единственную семью в лице человека, который, возможно, уже ждет меня там».
После долгой ночи, проведенной на соломенном тюфяке, постеленном для нее на полу ризницы, ее накормили молочным супом с хлебом, на который она набросилась словно людоед из сказки, после чего снова улеглась, чтобы вновь погрузиться в состояние полной заброшенности. Почти в растерянности оттого, что ей нечего больше бояться, она залилась слезами облегчения, слушая доносившиеся из храма далекие псалмопения, навевавшие на нее сон.
И снова она заметила художника, который, повиснув в воздухе, с удивительной скромностью продолжал свою работу. Однако труд его был тяжел, ибо фреска, над которой он работал, должна была изображать ни много ни мало — Царство Небесное.
*
Написав последнюю реплику последней сцены последнего акта, Чарльз Найт выбежал из кабинета и, забившись в угол, в полном одиночестве разразился рыданиями. Исчеркав сотни страниц, переругавшись вконец — дело дошло чуть ли не до рукоприкладства — с несговорчивым «генеральным подрядчиком», он наконец-то закончил: новая версия «Супругов поневоле» начисто перечеркивала предыдущую. Его литературный сообщник, перечитав ее в последний раз и не найдя ничего, что можно было бы исправить, поздравил автора.
Чарльз познакомил его со своим братом Льюисом, который принял их в резиденции Британской Ост-Индской компании. Увидев, как он сидит за рабочим столом, уткнувшись носом в регистр и то и дело сверяясь с морской картой, француз испытал сильнейшее чувство благодарности: этот человек встречался с его любимой. Капитан как мог описал ее: заплетенную по-китайски косу, когда-то синюю, а теперь выцветшую рубашку и такую же юбку, плечи, выглядевшие особенно белыми по сравнению с почерневшими от чайного листа руками. Растроганному мужу не составило труда представить свою дорогую сборщицу с корзиной в руках, он даже услышал звук ее голоса, как она говорила: «Я ищу своего мужа, который упал с неба». Капитан вызвался познакомить его с хозяином плантации, а также с любым, кто мог хоть что-то рассказать об этой женщине, оставившей по себе такую память.
Путешествие до Гуанчжоу, где находится представительство компании, продлится три месяца и пройдет в четыре этапа: сначала они отправятся в Геную, где возьмут на борт вино и масло, чтобы доставить их в Александрию, оттуда по суше караваном доберутся до Таджурского залива, где их будет ждать другая каравелла. Затем пересекут Аравийское море, сделают остановку в Пондишери, а оттуда уже отправятся в Китай.
Прощание писателя со своим персонажем прошло трогательнее, чем можно было ожидать. Их тайный договор оставил в душе обоих одинаковую неловкость, словно каждый из них преступил некий святой закон художественного бытия: если бы драматурги давали клятву, наподобие врачебной клятвы Гиппократа, они тысячу раз отступились бы от нее. Но этот договор был беспрецедентен и не имел себе подобных, к тому же не все ли равно, откуда взялся текст пьесы; важно, что зрители еще много веков будут смеяться над ним и плакать.
Мужчины обменялись долгим рукопожатием, не проронив ни слова: они столько их нашли, произнесли, прошептали, переиначили, отвергли, приняли, записали и вычеркнули, что любое теперь казалось лишним. Чарльз препоручил судьбу своего французского друга брату. Стоя на причале и глядя на удаляющийся корабль, писатель молил Бога, чтобы этот одержимый, явившийся неизвестно откуда, вернулся восвояси.
*
Благодаря искусной перспективе, сквозь купол был виден бескрайний небесный простор, в лазурных просветах которого бежали созвездия, где золотые отблески мешались с белыми тенями и порхали нежные, румяные ангелочки, В точке схождения сводов угадывался мотив в процессе работы: жест и взгляд дополняли друг друга и имели явно божественную сущность, это был Вседержитель, чья рука представляла собой нечто вроде цветка, в котором заключались все Его земные творения. Сверкающие серебром глаза, живые и пронизывающие насквозь, напоминали глаза отца, присматривающего за детьми.
Тронутая масштабами проекта, польщенная тем, что ей довелось присутствовать при создании произведения, которое долго еще будет восхищать зрителей, молодая женщина поздравила художника, похвалив точность его мазка и красоту света. «Нет сомнения, что верующий человек, преклонив колени для молитвы под этим высоким небом, лишь укрепится в своей вере», — сказала она. Однако она не удержалась от парадокса, заметив, что набожный человек, исправно слушающий проповеди во время богослужения, не нуждается в таких фресках, поскольку его собственное представление о Царстве Небесном, вдохновленное Священным Писанием, гораздо богаче деталями, которых не вместить этому куполу, ибо, «несмотря на весь ваш талант», эта роспись останется бледным подобием тайны Сущего.
Художник ответил, что последовательно соблюдал все требования Святой Церкви, чей авторитет не подлежит сомнению. Неизвестно, какое из слов больше рассердило молодую женщину — «соблюдал», «требования» или «авторитет», — но она возразила, что есть другая аудитория, которую следовало завоевывать, более несговорчивая и более многочисленная, чем верующие и служители культа: это безбожники, сомневающиеся в обоснованности существования Чистого Духа. «Подумайте о заблудших, сидящих на этих скамьях, о тех, кто мог бы познать Бога, увериться в том, что и сами они — порождение воли Всевышнего, Того, Кто преподнес им эти чудесные дары — жизнь, Землю, природу».
Роль святого искусства в том, чтобы сделать откровение возможным для тех, кто был лишен этого, а не в том, чтобы напоминать прилежным верующим о Царствии Небесном, ожидающем их в награду за молитвенную жизнь, разве не так? «Представьте себе варвара из далекой страны, ворвавшегося в этот храм, чтобы ограбить его. Он видит вашу фреску. Ему становится не по себе, он опускает меч и бормочет, сам не понимая почему: „Это святое место“. И, пятясь, он уходит, устыдившись своих прежних преступлений, навсегда пораженный тем, что увидел в этой церкви». Разве для художника не интереснее принять такой вызов, чем просто выполнить заказ?
Из исповедальни появился священник, не пропустивший ни слова из их беседы. Он набросился с упреками на дерзкую гостью, которую приютил по доброте душевной: кто она такая, чтобы совать свой нос в священный союз искусства и веры? Откуда у нее эта самонадеянность? Может быть, она приобрела ее в лечебнице для умалишенных, затерянной в далекой жестокой стране?
Какая насмешка для той, которая уже была однажды изгнана из дома Господа — настоящего, того самого, который бедный художник так тщился изобразить на своей фреске. Если бы она открыла этому священнику, что знает об этом Царстве гораздо больше его, тот объявил бы ее не безумной, а одержимой дьяволом! Во Флоренции, этой жемчужине христианского мира, подобное надругательство так возмутило бы жителей, что они вспомнили бы о средневековых кострах, и уж тут не помогло бы и заступничество самого герцога.
Посоветовав грешнице отправляться обратно на ее убогое ложе, художник успокоил доброго священника: они имеют дело с невеждой, ничего не понимающей в изящных искусствах и тем более в духовной живописи; бедняжка показала в этом вопросе не столько свою нечестивость, сколько невежество, то есть ничего такого, ради чего стоило бы возрождать Святое Судилище. Священник согласился с этими словами, которые даже почти его развеселили, после чего он вернулся в исповедальню, а художник к своей фреске.
К фреске, к которой он в тот день так и не притронулся. Вмешательство мнимой сумасшедшей смутило его, он был не в состоянии продолжать работу и ждал ночи, чтобы снова взглянуть на нее.
Велико смятение художника, внезапно потерявшего веру в свое произведение. Он вдруг видит, что всего лишь выполнял заданный урок, создавая бледную копию творений великих мастеров. Он чувствует себя ремесленником, который честно воспроизводит чужие образцы, но сам больше ничего не создает. Фреска, над которой он работал несколько месяцев, вдруг утратила четкость контуров, ее неземные мотивы приобрели помпезность. Он вдруг понял, что его встреча с грядущими поколениями не состоится, что он пополнил ряды жалких богомазов.
Тем не менее надежда вернуть своей работе трансцендентный отблеск у него осталась. Та самая надежда, которая, чуть не попав на костер, отдыхала пока на своем тюфяке. Он стал умолять молодую женщину помочь ему исправить свое творение, пусть даже для этого ему пришлось бы полностью закрасить его белилами — как чистую страницу в истории искусств. Ему была нужна ее помощь, чтобы низвергнуть академические каноны, озадачить поборников хорошего вкуса, изобрести новые формы, передать это божественное брожение, о котором она говорила как о чем-то знакомом. Инстинктивно он понимал, что должен теперь изобразить его на стене и тем самым исполнить свое земное предназначение — послужить Божьему промыслу, а не церковникам. Теперь настала очередь молодой женщины предостеречь его от кары, нет, не Божьей, а со стороны поборников христианства, которые при малейшем отступлении от догмы тут же начинают кричать о святотатстве. Хотя он охотно подвергся бы такой опасности: ведь благодаря его фреске, в которой одни увидят попрание всяческих традиций, а другие — божественный свет, слава о нем дойдет до самого Рима. И только папа с полным правом вынесет вердикт об истинном достоинстве его творения. После чего он распорядится и судьбой самого художника, либо доверив ему расписывать базилику, либо бросив его в темницу.
«Да будет так», — сказала она. И попросила за свою помощь награду — самую неожиданную, какая только может быть.
Скоро она вернется домой, но кто знает, существует ли еще ее деревня? А вернувшись, в надежде, что и муж ее тоже там, сколько ей придется обойти сел и деревушек, пока они не встретятся? Сколько раз придется ей описывать незнакомым людям цвет его глаз, шелковистость волос, сияние улыбки: «Вы видели этого человека?» Поэтому ей гораздо проще было бы заниматься поисками, будь у нее медальон с портретом любимого, и только он, итальянский мастер, сможет сделать этот портрет похожим на оригинал.
Вышеупомянутый мастер, готовый принять этот вызов, заметил все же, что сходство будет зависеть от точности ее описания. Она успокоила его относительно своей памяти: кто вернее опишет любимого, если не любящий? Разве сущность портрета не заключается в прославлении внутренних качеств модели? Тысячи раз думала она о нем, видела его во сне, и теперь ей было достаточно закрыть глаза, чтобы вновь увидеть его милое лицо, некогда столько раз поцелованное и обласканное, в те времена, когда она не могла и помыслить, что дорогой образ останется у нее только в медальоне.
*
В кишащий людьми генуэзский порт заходили корабли всех морских компаний, поскольку его причал мог принимать все типы судов. «Дракон Галли» под командованием капитана Найта забил полный трюм бочонками с пьемонтскими винами и отменным оливковым маслом, после чего экипаж отправился в увольнение на берег, чтобы сполна насладиться комфортом и удовольствиями, которые предлагает морякам большой город. На борту остались только капитан, вахтенный начальник и несколько матросов. Увидев, что его единственный пассажир слоняется по палубе, капитан предложил ему осмотреть старый город, где он мог подсказать несколько адресов, весьма уважаемых благородными господами.
Но француз предпочел вернуться к себе на койку. Впрочем, он никогда не спал лучше, чем на корабле: он словно скользил по морю забвения, покачиваясь на волнах под далекие крики чаек. Только аврал во время шторма там, на «Святой Благодати», заставил его подняться с постели. Он завернулся в одеяло и, едва закрыв глаза, очутился на чайной плантации или, по крайней мере, в месте, соответствующем данным ему описаниям.
Он долго бродил там, пока какой-то грохот, явно не относившийся к его сну, не вернул его на борт корабля. Он услышал сдавленные крики и представил себе пьяную драку, излюбленное развлечение матросов в этот час ночи. Затем снова закрыл глаза, моля Бога, чтобы гуляки поскорее улеглись в свои гамаки, но шум становился все громче, все ближе, и он вышел из каюты, опасаясь, что без его вмешательства эта суматоха не прекратится. Перед его дверью лежал человек, схватившись руками за окровавленный живот, другой, шатаясь, брел по коридору, но, умоляюще взглянув на него, тут же рухнул на пол. Услышав раздававшийся из кают-компании душераздирающий стон, он бросился туда, схватив саблю несчастного, только что испустившего дух у него на руках. Капитан, по пояс голый, сражался на шпагах с каким-то бандитом в черном камзоле и такой же рубахе с алой повязкой на голове.
Позже француз узнает, что «Дракон Галли» подвергся нападению банды из шести разбойников, которые поджидали, когда в порту на якорь станет судно, направляющееся на Восток, обычно имевшее на борту сундук с золотом, предназначенным для закупок в заморских факториях. Эти пираты, никогда не выходившие в море, действовали всегда по одному и тому же сценарию: ночью двое из них обходили таверны, где щедро наливали матросам в обмен на ценную информацию о грузе судна и составе корабельной охраны. И еще до рассвета шли на абордаж.
Пока его подручные разоружали на палубе остававшихся на борту матросов, главарь банды, приставив капитану нож к горлу, велел вести его к сундуку с деньгами. Так оно и случилось бы, если бы в каюту не ворвался француз, крайне разозленный тем, что его оторвали от прекрасных сновидений.
Он спал! Тихо, мирно спал в своем уголке, твердо решив оставаться невидимым на протяжении всего путешествия. И тут является какой-то тип в черном, тычет шпагой в кого попало, срывая тем самым поиск, ради которого он пожертвовал буквально всем. И он понял, что просто вынужден пресечь этот форменный грабеж, при этом его рукой двигал не инстинкт самосохранения, не верность долгу, а ярость, оттого что ему приходится участвовать в каком-то гнусном предприятии, к которому он не имеет никакого отношения. Все бешенство, накопившееся в нем после стольких испытаний, он обратил против одного противника, возложив на него вину за все свои невзгоды. Пусть он теперь заплатит за остальных, за всю эту нескончаемую череду разнообразных негодяев, за врача, который ощупывал его череп, чтобы удостовериться в правильности строения, за тюремщика, бросавшегося в него через решетку гнилыми плодами, за маркиза, приказавшего ради развлечения избить его, за змей, сливавшихся с песком благодаря своей окраске, за ювелира из Тейягуэки, обсчитавшего его при продаже медальона, за наглых крыс на смрадных койках, за солдат в красных мундирах, которые открыли по нему огонь, даже не поинтересовавшись, в кого они стреляют, за того матроса со «Святой Благодати», который без причины принялся оскорблять его на неизвестном языке, за трактирщика, подавшего еду, которой погнушалась бы даже собака, за того судью, который зевал от скуки, когда он пытался сказать что-то в свою защиту, за тысячу тонн погруженного им хлопка, — кто-то ведь должен заплатить за все это, так почему не этот бандит, которому хватало подлости выпустить кишки спящим матросам?
Разоружив врага и повалив на пол, он не стал добивать его саблей, а принялся пинать сапогом куда попало, чтобы кровь брызнула во все стороны, чтобы одна за другой захрустели кости, чтобы услышать, как он кричит — не от ярости, а от боли. Ставший его жертвой тип, потрясенный зверством нападения, захлебываясь кровавой желчью, ползая по полу, словно насекомое, пытающееся увернуться от смертоносного каблука, вдруг из последних сил бросился вон из каюты, воя, словно его пытали, что, в сущности, было правдой.
Вернувшись к себе, француз решил, что выйдет теперь из каюты только после того, как будут отданы швартовы. Он, несомненно, спас экспедицию «Дракона Галли», но не желал, чтобы это ставили ему в заслугу, уже почти жалея, что ступил на борт судна. Он безумно рисковал, отправляясь на Восток и даже не зная, что ожидает его там, и этот его импульсивный поступок вступал в противоречие с единственной целью любой одиссеи — возвращением к родному очагу.
*
Экипаж, в котором помпезность кареты сочеталась с надежностью дилижанса, ехал вдоль Тирренского моря через лес Больяско в сопровождении двух вооруженных людей, расчищавших путь. Кучер настегивал лошадей, не боясь загнать их насмерть, так как на каждой почтовой станции их ожидали новые — свежие и выносливые.
Путешественница, чей разум был еще затуманен празднествами, бушевавшими во Флоренции и ее окрестностях, дремала, приоткрывая глаза на ухабах и выбоинах. Родители герцога, преисполненные благодарности, чествовали ее как важную гостью, умоляя при этом сохранить в тайне подробности ее знакомства с сыном. К чему подданным знать, что наследник престола, член совета старейшин и их благодетель сбежал из лечебницы для душевнобольных?
Задолго до предусмотренного времени она почувствовала, что карета замедляет ход, и, выглянув в окно, немедленно пожалела о том, что так легко поверила в благополучный исход своего путешествия. Разве не поняла она за время своих нескончаемых странствий, что судьба выбирает для очередного удара именно тот миг, когда кажется, что тебе уже ничего не грозит? Неужели за эти дни, проведенные среди флорентийской роскоши, она позабыла, что чем ближе кажется цель, тем длиннее оказываются объезды, тем больше препятствий возникает на пути? Какой самонадеянной надо быть, чтобы вообразить, будто стоит только пустить лошадей галопом, и все несчастья останутся позади!
Дорогу карете преградила цепь из шести человек — словно взявшийся невесть откуда пограничный пост. Четверо, опустившись на одно колено с мушкетами в руках, держали на мушке эскорт — простых солдат, вовсе не героев, — в то время как пятый велел кучеру слезть с козел. Шестой, с рукой на перевязи и опухшим лицом, командовал маневром, но без огонька ввиду своих ран.
Часом ранее они сами скакали во весь опор, как беглецы, хотя за ними никто не гнался, кроме собственного позора. Они ехали из Генуи (откуда все были родом), чтобы никогда туда больше не возвращаться после унижения, которому подверглись за три дня до этого. На протяжении нескольких лет они грабили швартовавшиеся в Генуе корабли, ожидавшие отправки дальше, в восточные фактории, и их кровожадность стала проклятием для всех арматоров мира. Дело это было очень прибыльное, позволявшее им жить на широкую ногу, поскольку морская торговля, росшая с каждым годом, приводила в порт все больше и больше судов с пустыми еще трюмами, но с полными сундуками денег.
Их замечательное предприятие процветало бы и в следующем десятилетии, если бы главарь банды не скрестил клинки с одним озверелым типом, которого впоследствии описывал своим товарищам как сумасшедшего — с пеной на губах издававшего мерзкие крики, свирепого, как атакующая армия. В драке с ним несчастный бандит лишился уха, отрубленного саблей, пяти зубов, выбитых каблуком, кроме того, тело его было покрыто тысячью ран, причинявших страшную физическую боль, заглушить которую смог только глубокий обморок. Когда несолоно хлебавши, чуть живой, в совершенно подавленном состоянии духа, он вернулся к себе в логово, то приказал немедленно уносить ноги. Не видать ему больше никогда былой славы бравого сухопутного пирата; никогда не появиться в городе, не став предметом насмешек со стороны бандитов-конкурентов или трактирщиков, обычно таких трусливых, готовых из страха донести на кого угодно. Он боялся утратить авторитет даже среди своих подручных, уже предвидя их язвительные комментарии; они и правда сомневались в существовании этого рычащего монстра, наделенного сверхъестественной силой. Глядя на него — хромоногого, с беззубой ухмылкой, с повязкой на глазу, — пятеро разбойников воздерживались от насмешек и лишь злобно переглядывались в ожидании, что их атаман поведет себя как полагается, если, конечно, он хочет сохранить за собой это звание.
По его приказу они покинули один порт, чтобы завоевать другой — Неаполь, который славился оживленным судооборотом и где благодаря их сноровке этот бесславный эпизод вскоре сотрется из их памяти. Однако ничто не мешало им по пути попробовать силы в другом ремесле, не требовавшем никаких особых способностей, — в разбое. Поживу, правда, это ремесло сулило небольшую, зато в нем было очарование случайных встреч: это как галантный кавалер на прогулке всегда надеется повстречаться с прекрасной дамой. А судя по пышности этого экипажа, из него сейчас выходила именно дама высокого звания, еще сонная от монотонной дороги. Графиня, маркиза или даже изысканная куртизанка, недавно выбравшаяся из постели дворянина и щедро вознагражденная за свои достоинства. Видя, с какой легкостью им удалось произвести досмотр экипажа, мерзавцы подумали, не стоит ли и правда заняться этим делом — устраивать засады, потрошить добрых горожан, которые все, как известно, страшные трусы, назначать новые десятины для путников, разные платы, подорожный сбор, работать в дневное время, колесить по белу свету, пользоваться благами лесной природы — вести здоровую жизнь разбойника с большой дороги! Но пора было срывать этот первый плод, такой мягкий на вид, не прибегая при этом к привычной грубости.
Путешественница, не противясь, отдала им кошелек, туго набитый монетами, предназначенными для оплаты дорожных расходов, что составляло, по ее словам, все ее достояние. Человек с посиневшим и опухшим от побоев лицом, кривой на один глаз, хромая и хрипя, словно нищий попрошайка, не поверил ни единому ее слову; наверняка эта дама прятала где-то в муфте кольцо или футляр, в каких обычно хранят бриллианты, или даже золотой браслет с выгравированным на нем гербом. Забыв всякую учтивость, он осмотрел ее запястья, шею и, обнаружив — о радость! — цепочку с подвеской, одним рывком сорвал ее. Это был медальон с замочком, в котором, вне всяких сомнений, был спрятан драгоценный камень.
Но он нашел там мужской портрет.
Настоящий ужас ощущается сначала телом, в то время как разум все еще отказывается принять неприемлемую очевидность. Завороженный взглядом черных глаз, вперившихся в него из глубины медальона, главарь почувствовал, как кровь, отхлынув у него от ног, поднимается к горлу, начинает стучать в висках. «Это он! — завопил он вдруг. — Тот бешеный пес, что искусал меня в порту в Генуе! Точь-в-точь он!» Он бросился к своим товарищам, пребывавшим в крайнем замешательстве от такого всплеска эмоций. «Это тот самый монстр с „Дракона Галли“! Тот, что чуть не спустил с меня шкуру! Смотрите!» — кричал он, размахивая медальоном. Двое из пяти его подручных испугались, но не портрета, а вожака, который, и это было ясно как день, окончательно повредился рассудком. Что бы там ни произошло в каюте капитана «Дракона Галли», потрясение, испытанное этим бедолагой, перешло в настоящую манию, так что обидчик мерещился ему теперь повсюду, даже в самых неподходящих местах. Похоже, настал момент подумать о смене деятельности для всей банды, иначе придется и дальше выполнять приказы умалишенного, собиравшегося подчинить себе неаполитанский порт. Трое остальных с большим трудом удерживались от едких ухмылок: шеф (или то, что от него осталось) снова завел свою песню о неуязвимом призраке, неизвестно откуда взявшемся, но чем больше он пытался их убедить в его существовании, тем смешнее выглядел в их глазах. Тяжело было видеть, как унижается человек, некогда внушавший такой страх. Упорствуя в своем бреду, несчастный заметил, как прячут глаза его люди. Желая узнать, в чем кроется секрет такого их поведения, он обернулся к даме из кареты, чтобы та немедленно все объяснила, пусть даже для этого ему придется применить силу.
Но красавица, воспользовавшись суматохой, уже завладела поводьями и теперь скакала во весь опор к генуэзскому порту.
«Продано с торгов галерее Уффици за 755 000 евро».
В ушах наушники, глаза прикованы к монитору — француженка в этот самый момент находится во Флоренции, в самом известном музее искусства итальянского Возрождения.
Наслушавшись удивительных рассказов о странствиях случайной попутчицы, мальчик наконец уснул на заднем сиденье. Луиза свернула с автострады, чтобы ехать дальше на север через штат Вермонт. Пейзажи там, сказала она, просто наслаждение для глаз. Но миссис Грин не видит окружающих природных красот, она смотрит репортаж онлайн: хранитель галереи Уффици радуется поступлению в коллекцию нового экспоната.
Речь идет о портрете, приписываемом Джакомо Тадоне, заключенном в медальон диаметром три сантиметра, выставленном на аукцион «Сотбис». Галерея выступила в качестве покупателя, ибо место этого портрета в музее, а не в витрине коллекционера.
Хранитель утверждает, что портрет — настоящая редкость. Тадоне никогда не работал в столь маленьком формате и не использовал такой необычной основы для своей живописи. Портретируемый, мужчина лет тридцати европейской внешности, не имеет ничего, что указывало бы на его положение, состояние, происхождение, а в ту эпоху только дворяне да богатые горожане заботились о том, чтобы оставить свое изображение народу или потомкам, потому что только они обладали достаточными средствами, чтобы оплатить услуги художника. Современные технологические средства анализа позволят, возможно, узнать больше о личности как заказчика портрета, так и изображенного на нем мужчины.
Таким образом, продолжает он, в свое время было установлено происхождение некоторых картин и раскрыта тайна их композиции; теперь известно, что такая-то крестьянка дала свою внешность такой-то святой, что такой-то художник писал ангелочков со своих племянников или что такой-то персонаж с так называемым венецианским профилем был на самом деле рабом и прибыл в Венецию с другого края света. Однако помимо того, что дирекция Уффици заинтересована в приобретении ранее неизвестной работы мастера, она также надеется найти в этом медальоне ключ к пониманию более популярного произведения флорентийской живописи — купола церкви Сант-Онофрио, расписанного той же рукой в тот же период. Разве основная роль любого музея не состоит в предложении неоспоримого прочтения произведения с целью прекращения любых криво-толков?
Миссис Грин кликает на ссылку, которая перенаправляет ее к документальному фильму, посвященному знаменитой фреске, которую она никогда не видела в законченном виде и отдельные мотивы которой современники сочли еретическими, хотя она и была впоследствии освящена папой Пием VIII, сказавшим при взгляде на нее: «Deus hic est» — «Здесь присутствует Бог».
Комментарий к фильму подчеркивает, что столь странная концепция этого плафона, далекая от аллегорических изображений той эпохи, абсолютно не соответствующая принятой трактовке библейских сюжетов, то есть полностью противоположная академической направленности церковных заказов, в свое время вызывала немало вопросов у искусствоведов. И сегодня специалисты недоумевают по поводу этой росписи, некоторые даже осмеливаются говорить об абстракции, настолько ее мотивы далеки от какого бы то ни было реализма. Мастер придумал «свою сакральность», не существовавшую до него и исчезнувшую после, нечто буйное, безудержное, но абсолютно не барочное, новаторское, но не ставшее началом новой школы в живописи. Известный тем, что единственный из официальных художников выполнял заказы точно в срок, не выходя за рамки установленного бюджета, Тадоне на этот раз потребовал новые пигменты, чтобы приготовить из них краски, ранее никогда не входившие в его палитру, запретил заказчикам посещать место работы и на целый год задержал открытие капеллы.
Миссис Грин отправляет мужу по MMS снимок портрета из медальона, не добавляя никаких комментариев.
*
Он дремлет, откинувшись на свой рюкзак, в автобусе «Грейхаунд», несущемся по федеральной трассе номер восемьдесят семь. Судя по карте, скоро эта ничем не примечательная равнина останется позади и они въедут в горный заповедник Адирондак. Вибрация во внутреннем кармане разгоняет его скуку. Он тотчас узнает себя в этом портрете, которого до сих пор не видел: скулы, очертания губ, а главное — эта искра в глубине глаз, делающая неповторимым взгляд любого человека. Это отражение гораздо более походит на него, чем тот антропометрический снимок, что с быстротой вируса распространяется по обе стороны Атлантики.
Деревянные панели в каюте начали потрескивать — верный знак, что судно выходит в открытое море, что вскоре подтвердили крики с буксиров. Наконец-то «Дракон Галли» покинул эту проклятую Геную с ее портом, оказавшимся бурливее и опаснее любого океана. Стоя по местам, оживились разбуженные ветром и брызгами матросы, а капитан Найт с первым помощником отдавали на мостике команды, твердо намереваясь наверстать упущенные три дня. Француз, как и решил, слез со своей койки только после того, как подняли якорь. Он без сожаления смотрел на удаляющийся город, который будет вспоминать с горечью: вот уж где самое место для разработки парадоксальной теории о предполагаемых убежищах, где человека поджидают самые страшные опасности, и, наоборот, об общеизвестных ловушках, где вам вдруг протягивают руку помощи; когда-нибудь он попытается понять логику всего этого, потому что такая логика явно существует.
Тем временем внимание его привлекла маленькая точка вдали: конь, завершавший на пристани свой бег, и соскочивший с него всадник, протягивавший руки к «Дракону Галли». Это была женщина, богато одетая, с растрепанными от долгой скачки волосами; ее черты, которые он различал со все большим трудом по мере того, как судно удалялось от берега, показались ему знакомыми.
Внезапно все его тело содрогнулось, как от порыва холодного ветра, на лбу выступил жаркий пот. Эта колеблющаяся точка вдали была она.
Он не верил своим глазам.
С самого первого мгновения после возвращения на Землю он искал этот образ, каждую ночь он видел его во сне, каждый день надеялся увидеть наяву, каждый час он мерещился ему, где бы он ни находился — посреди пустыни или шумной толпы. Этот силуэт был пищей его навязчивых состояний, предметом галлюцинаций, он посещал его в горячечном бреду. Как же мог он теперь довериться этой вечной химере? А вдруг это видение, постепенно растворяющееся вдали, всего лишь очередной мираж, явившийся, чтобы снова мучить его истерзанное напрасными надеждами сердце? Каким чудом могла его жена вдруг оказаться там, во плоти, — такая близкая, такая живая, такая реальная?
Если он поддастся безумному порыву и бросится за борт — как подсказывала ему его природа, — он потеряет всякую надежду пройти путем, указанным ему капитаном Найтом, единственным верным путем, гораздо более осязаемым, чем этот ускользающий огонек, едва теплившийся там, на причале, среди кишащей толпы.
И все же он прыгнул.
Прыгнул, не слушая доводов разума, прыгнул вопреки всякому здравому смыслу, ибо разум, здравый смысл ни разу не помогли ему с самого начала его безумной эпопеи. Прыгнул, потому что слишком часто гонялся за тенями, чтобы не погнаться за еще одной. Он прыгнул в воду, потому что так велела ему его вера: если есть у него шанс — один на миллион — найти ее, он должен попытать судьбу, ибо ожидавшая его награда будет неизмерима, неоценима, в миллион раз больше миллиона неудач.
Он доплыл до причала, взобрался на понтон, пошел навстречу женщине, которая уже бежала к нему. Остановившись лицом к лицу, они взглянули друг на друга и тихо засмеялись от удивления. Затем оба с облегчением вздохнули.
И наконец бросились друг другу в объятия.
*
Вдали, облокотившись о балюстраду самой высокой башни возвышавшегося над Генуей собора Сан-Лоренцо, за этой встречей наблюдал любопытный персонаж.
Две маленькие тени, непристойно слившиеся в одну, были видны ему как на ладони. Но для наблюдавшего за ними с высоты зрителя непристойность как понятие ничего не значила.
О про́клятых влюбленных он услышал после того, как Бог, оказавшись не в силах обуздать эту пару изгнал их из своего Эдема. Он порадовался этой божественной неудаче как маленькой победе над своим выдающимся соперником: тысячелетие проходило за тысячелетием, а очки в пользу той или другой команды засчитывались далеко не часто, так что каждое подлежало строгому учету.
Он приветствовал принятое Богом решение отправить наглецов обратно на Землю, чтобы проверить на прочность связывавшие их узы: их дело — разорвать эти узы и следовать дальше каждый своей дорогой или, напротив, проявить упорство и найти друг друга. Что случилось дальше, известно. Но тот, кто разглядывал их теперь со своего возвышения, из дома, ему не принадлежавшего, и представить себе не мог, что этот невероятный подвиг, совершенный двумя ничтожными земными созданиями, потрясет основы сооружения, над строительством которого он трудился с незапамятных времен.
Решимость этих любовников, по крайней мере поначалу, развлекала и веселила его: ах эти благородные чаяния; колесить по свету, тратить годы, и все ради единственной цели — чтобы вновь слиться в экстазе: «Давайте, ребятки! Смелее, солдатики любви! Ну-ка, удивите нас, проявите мужество!» Но история эта становилась все менее смешной, по мере того как эти безгрешные дураки, эти самонадеянные простаки, эти воспылавшие страстью болваны пошли, сами того не зная, наперекор великому замыслу Лукавого.
С того самого основополагающего момента, когда Каин поднял руку на брата, родился новый мир — с потрясающе горькими плодами, с восхитительно извилистыми дорогами, — как доказательство того, что высокий дух может достичь безупречной низости.
Дело это было сколь увлекательное, столь трудное и долгое — на сотню веков, но разве это много, учитывая ожидаемый результат? Методика, на первый взгляд совершенно обыденная, заключалась в том, чтобы препятствовать Божественному замыслу путем создания для каждой составляющей человеческой души ее симметричной копии, по крайней мере равной по силе, чтобы добиться точного соответствия по форме, — так готовый портрет вскоре заставляет забыть о предварительном эскизе. То есть на основе первоначальной гармонии ему надо было породить хаос. Но чтобы от замысла перейти к его осуществлению, необходимо было действовать по порядку.
Бог отделил человека от животного, Лукавый же постарался выпустить на свободу прятавшегося в человеке зверя, который, совершенно естественно, проявился, как только ему представился случай, а вместе с ним — множество новых и неожиданных умонастроений. Найти низость там, где раньше было величие, подменить порядочность гнусностью, напустить уныние туда, где царила радость, любую форму честности превратить в преступность.
Придуманная им жестокость — которой лишены даже хищные звери — стала логическим следствием злобы, та же в свою очередь родилась из чувства мести, то есть из высшей обиды. В этом и был ключ к разгадке всего его предприятия: чувство мести, вызванное им самим, падшим ангелом, изгнанным из рая, отвергнутым своим Создателем, в ком самом нет ни капли яда, который Он вливает в сердце того, кого наказывает, предоставляя ему законное право нанести ответный удар гораздо большей силы, чем тот, что получил он сам.
Разве удовлетворение от прощения сравнимо с тем чистым счастьем, которое испытывает обиженный, наказывая своего обидчика, и которое оправдывает таким образом любое насилие — настоящее, славное, здоровое, заурядное и вполне терпимое насилие? Чувство мести и его «святая троица» — горечь, досада, злоба — неисчерпаемая манна, источник преступной энергии, объясняющие одновременно и вспыльчивость озлобленного человека, и бесконечное терпение злопамятного; месть, которая разом смыла оскорбление с Каина, когда он наказал Авеля за то, что Бог предпочел его. Что значит вечное проклятие по сравнению с этим мигом утоления жажды?
Итак, в начале была месть.
Затем следовало заново определить истинные законы, управлявшие людьми, в противоположность пресловутой братской любви, придуманной Всевышним в шутку, а может, просто от лени — это как посмотреть. А как превратить друзей в недругов, заменить Авеля Каином, не придумав целой палитры невиданных ранее конфликтов, ссор и затаенных обид, каждая из которых включает в себя подмножества с отрадными ответвлениями, не взяв на вооружение такое прелестное слово, как «раздор», проследив при этом, чтобы любая ссора обязательно заканчивалась разрывом и душевными муками?
Большой изощренности потребовала у него работа, связанная с порочностью: необходимо было внедрить порок туда, где царствовала добродетель, исказив тем самым все законы здравого смысла. Однако одним из самых великих его творений стала заурядность и ее производные, ибо он считал, что, в противоположность высоким движениям души, именно ничтожность заключает в себе всю правду относительно живых существ и суетности их устремлений. Разве скрытный человек не упорнее, не изобретательнее пылкого? Конечно, без ненависти, ярости и презрения тоже нельзя обойтись, но все эти чувства так явны, так трагичны, что неизбежно возвеличивают тех, кто им предается. Бог, известный своей вспыльчивостью, взял эти крайние чувства на себя и тем самым совершил ошибку, предоставив своему сопернику заботу о создании всех остальных, гораздо менее благородных, и тот передал их людям, падким скорее на пошлость, чем на величие. Заурядность, самое грозное его оружие, метила в самые низы, создавая обыкновенные цели, доступные любой бездари, покровительствуя мелким сговорам, лжи во спасение, компромиссам и действиям «на худой конец». Сияющая заурядность стала цементом для его грандиозного здания.
И вот это здание затрещало по всем швам. Все началось, когда эти двое, которые там, внизу, никак не могут разомкнуть объятия, принялись колесить по свету во всех направлениях. Они так настойчиво рассказывали о своей «половине» и о причинах, по которым им необходимо было ее отыскать, что пробудили в людях любопытство. Волнуя сердца мужчин и ободряя женщин, они мирили супругов, вдохновляли молодежь, низвергали научные теории, опровергали дурацкие принципы, провозглашенные дураками. Они показали бесконечные возможности человеческого сердца, сопротивлялись тиранам, потрясали скептиков, возвращали надежду тем, кто ее утратил. И эта мозаика чувств, в которой перемешались мужество, любовь, трепет, страсть и нежность, слилась отныне в единое целое. Невольно думалось, был ли этот триумфальный крестовый поход действительно предпринят двумя простыми смертными, уставшими от несправедливостей, которым они подверглись на Земле и на Небесах, или они стали лишь орудием и подчинялись, сами того не ведая, высшей воле, называемой неисповедимой, которая уже посылала в прошлом на Землю с проповедью своего эмиссара со сложной судьбой?
Может быть, его всемогущий соперник попытался в их лице отправить еще одного посланника, лучше прежнего, поскольку он явился на свет как результат священного союза мужчины и женщины, и способного исправить прежние недочеты, учитывая чаяния человечества в целом? Может быть, это слияние двух существ в единую сущность имеет шанс добиться успеха там, где их предшественник потерпел поражение? Однако на такое предположение мог бы осмелиться только Лукавый.
Что бы ни породило эту новую эру, ей надо положить конец, и немедленно. Если про́клятые влюбленные оказались способными по отдельности перевернуть все с ног на голову, как далеко они зайдут, если объединятся? А что если они сорвут его долгосрочный проект под названием Апокалипсис, для большинства смертных невидимый, но который погубит их всех без остатка?
То, что не удалось Богу, удастся ему — Лукавому: он раз и навсегда положит конец их союзу и прекратит этот фарс, грозивший обернуться катастрофой.
Покинув свой наблюдательный пункт, он последовал за влюбленными в толпе, сквозь которую те пробирались, держась за руки и не очень-то зная, какую выбрать дорогу, чтобы добраться до заслуженного ими пристанища. Глядя на их безмятежность — словно страдания, усталость, волнения, терзания стерлись из их памяти, едва они соединились вновь, — Сатана в порыве несвойственного ему добродушия думал, не оставить ли их на часок, а то и на целый день в покое, прежде чем увлечь за собой в земное чрево.
В шесть утра все двадцать пассажиров «Грейхаунда» просыпаются, по салону начинают ходить термосы, обсуждаются проделанные километры пути, через запотевшие окна рассматриваются окрестные виды. Автобус едет вдоль западного берега озера Шамплейн, которое когда-то было морем, как утверждает бывалый путешественник, весьма осведомленный по данному вопросу. Однако сосед слушает его рассеянно, он ищет на экране свою жену. Судя по меткам GPS, она должна сейчас быть где-то неподалеку, на противоположном берегу озера.
Успокоившись на этот счет, он, не устояв перед искушением, проверяет, сколько за ночь выпало хэштегов #runninglovers. Сообщения попадаются разные, вперемешку: одни со словами поддержки, свидетельствующие о растущем рейтинге пустившихся в бега влюбленных, другие — более циничные, в которых подсчитываются их шансы, весьма небольшие, выйти сухими из воды. Он задерживается на твите одного докторанта с факультета классической литературы, отреагировавшего на инцидент в Театре Чикаго, поскольку его диссертация посвящена как раз «Супругам поневоле». Ее можно почитать на сайте Даремского университета: «Раскаяние Чарльза Найта. Очерк по театральной генетике». Для докторанта это оказалось хорошим поводом предложить свою работу вниманию читателей, не принадлежащих к университетским сферам. А для мистера Грина — вновь повстречаться со старым знакомым.
Уже во введении молодой исследователь признается, что предпринятое им исследование оказалось захватывающим, но не имеющим реального завершения. Только отдельные специалисты по творчеству Чарльза Найта знают о существовании предыдущей версии пьесы, написанной за год до той, что ставится теперь. И если в отношении описываемых событий обе версии мало отличаются друг от друга, то изменения в стиле, текстуре, глубине трактовки, психологии и переходах выглядят весьма существенными. Изначально сырой материал развлекательного характера автор отшлифовал таким образом, что у него получился поистине перл драматического искусства, а со временем эта вторая редакция «Супругов поневоле» стала хрестоматийным примером при спорах о праве автора вносить изменения в свое уже готовое произведение и должен ли он вообще это делать.
Что же произошло в жизни Чарльза Найта, отчего он решил так радикально переработать свою пьесу? Докторант высказывает гипотезу, по его мнению вполне правдоподобную, о том, что тот полюбил, и эта любовь была такой сильной, что поколебала его уверенность в себе, освободила его от стереотипов и воскресила его вдохновение. Воспылав сам страстью, писатель сумел наконец ее описать! Любовь подарила ему талант, отнятый впоследствии разлукой с любимой, ибо никогда больше ни одно из его сочинений не будет отличаться таким пылом и такой изобретательностью.
Увы, тщательно изучив всю переписку драматурга, просмотрев списки постояльцев пансиона, где он жил, сопоставив публикации о театральной жизни, перелистав светскую хронику в газетах того времени, прочитав «Мемуары» директора театра «Перл», несчастный исследователь так и не смог найти доказательств для своего предположения о любви, внезапно поразившей автора пьесы, и ограничился сравнительным анализом обеих версий без каких бы то ни было объяснений столь разительной перемены.
Мистер Грин представляет себе раздражение студента, посвятившего столько лет изучению творчества Чарльза Найта, сохранившего и через триста лет после смерти свой единственный настоящий талант — приводить людей в отчаяние. Какая неблагодарность со стороны автора по отношению к своим будущим экзегетам! Ничего, ни единой зацепки, ни заметки в уголке рукописи, ни малейшей записки. Драматург не пожелал знакомить свою музу с кем бы то ни было, предоставив таким образом нескольким поколениям зрителей блуждать в потемках и лишив доблестного докторанта великого открытия, благодаря которому его «Очерк по театральной генетике» мог бы стать чем-то бо́льшим, чем просто научная работа. И тогда он написал бы сочинение иного масштаба, настоящее исследование о любви и ее роли в литературе.
Ну, это уж чересчур, особенно для того, кто лично знал Чарльза Найта, кичившегося своим писательским даром, восхищавшегося собственными стихами, смеявшегося над своими же репликами! Привыкший все выставлять напоказ — и раздражение, и восторги, — он все же сумел скрыть существование соавтора, и это с единственной целью — сохранить за собой абсолютное авторство пьесы.
Мистеру Грину вспоминаются их перепалки по поводу отдельных пассажей, в частности того места, где врачи пытаются представить молодоженов тяжелобольными: один из них предложил даже вскрыть их и разобрать по косточкам, и, если бы в те времена на уроках анатомии использовались экорше[4], влюбленные наверняка закончили бы свой жизненный путь на штативе в углу учебной аудитории. Найт отказался тогда поверить в это и тем более использовать в пьесе. Но сегодня француз признает, что вспыльчивый драматург часто бывал прав, упрямясь и не принимая его доводов, доказательством тому служит эта постановка в Театре Чикаго, которая по-прежнему у всех на устах.
Ах, если бы Чарльз Найт был сейчас здесь, как в те времена, когда он прятался в кулисах в дни генеральных репетиций! Он, которого так пугала прижимистость директора театра «Перл», он, чьи пьесы игрались где-то на задворках захудалыми актеришками, не поверил бы своим глазам, увидев этих фигурантов в сюртуках, шутов, мандолины и флейты, расшитых золотом сановников, вереницы прелатов, шайку оборванцев. В тот вечер он увидел бы, что такое настоящий триумф, когда актерам сто раз приходится выходить на поклон. В тот вечер он подарил каждому зрителю час героизма.
По просьбе пассажиров шофер останавливает автобус на стоянке для отдыха. Мистер Грин закрывает ноутбук, все еще удивляясь этому приливу ностальгии, охватившей его при упоминании об обидчивом Чарльзе Найте. Славный докторант из Дарема никогда не узнает, что разгадку тайны его раскаяния надо искать не в любовной истории, а, наоборот, во взаимном отвращении, принесшем в конце концов такие богатые плоды.
Мистер Грин выходит из автобуса, чтобы пройтись немного по берегу озера Шамплейн, такого огромного, что очертания его берегов теряются вдали. Его обманчивое сходство с океаном подчеркивает идущая на всех парусах шхуна.
*
Близость озера не успокаивает, а только больше волнует маленького Натана, который страшно боится пустоты. Чтобы отвлечь сына, мать просит его рассказать миссис Грин о его комнате. Любой другой мальчик начал бы с описания обоев или с игрушек, этот же принимается медленно перечислять все, что хранится в каждом ящике каждого шкафа — стена за стеной. Это маниакальное перечисление успокаивает его и веселит. Миссис Грин слушает с интересом, задает вопросы, но, когда Натан приглашает ее за собой в кладовку со множеством полок, на которых стоят коробки разных цветов — в зависимости от того, что в них хранится, — ее внимание рассеивается. Она украдкой поглядывает на экран, где только что появилось новое сообщение с хэштегом #runninglovers.
На одном сайте со свободным обменом мнениями, идейными дебатами и полемикой один восьмидесятишестилетний философ, называющий себя мизантропом и «последним живым анархистом», признает, что история этих французов вне закона пробудила в нем бунтарский дух. Дело не в облаве, которую устроили на эту парочку, не в том, чем все это закончится, главное — что они невольно стали носителями определенного символа. Потому что этот мужчина и эта женщина, которых так активно разыскивают, не поддаются никакой административной классификации; их никто ни разу не назвал по имени, они никак не обозначены, никуда не записаны, ни к чему не приписаны, их не мобилизовали, не призывали, не вызывали, не привлекали, не регистрировали. Поэтому, когда их называют маргиналами, это еще слабо сказано.
Любой, кто мечтал быть «человеком ниоткуда», видит здесь для себя прецедент. Если он перестал верить утопиям, если знает, что навеки приговорен к этой цивилизации, которая никогда уже не даст задний ход, если его приводит в отчаяние всеобщая неразбериха, с которой сам он ничего не может поделать, то время от времени у него возникают мысли о полном обособлении и отказе от любой общественной деятельности.
Не подчиняться никаким правилам. Быть невидимым. Ни на что не претендовать. Ни перед кем ни в чем не отчитываться. Отвергать здравый смысл. Доказать своим исчезновением, что ничто из предлагаемого эволюцией не представляет никакого интереса. Избегать всеобщего. Заявить своим отказом, что модель, разработанная сотнями поколений людей доброй воли, обернулась чудовищным провалом. Не участвовать в этом безобразии. Отказаться от самой мысли об общем будущем. Провозгласить себя сиротой в великой семье под названием Человечество. Объявить любые законы пустыми и бесполезными и запретить себе придумывать новые. Презирать здравый смысл. И сказать тем, кому вздумалось править всем этим прекрасным миром, что этот прекрасный мир им больше не верит.
Единственное, что имеет значение, — это весьма призрачное ощущение, что ты ускользнул от настоящего времени, которое движется вперед, уверенное в своей правоте и совершенно неспособное усомниться в себе самом. Тот простой факт, что двум влюбленным удалось проскользнуть сквозь ячейки великой паутины, позволяет в новом свете взглянуть на повседневность каждого индивидуума, говорит в заключение философ. И несколько обязательных ритуалов из тысяч и тысяч, которым мы ежедневно подчиняемся, срочно нуждаются в пересмотре.
Натан только что закончил детальное описание своей комнаты. Луиза решила съехать с федеральной трассы, чтобы завернуть в Вермонт на молочную ферму и накупить там экологически чистых продуктов. Не успела она перестроиться, как какой-то водитель грузовика, разозлившись, что она вертится у него под колесами, прокричал, опустив стекло: «Черт бы тебя побрал!»
На что миссис Грин ответила, что такое с ней уже случалось.
Их выбросило в пространство, окруженное выпуклыми, прозрачными стенами — светящимися скалами с ослепительно сверкающей шероховатой поверхностью, не дающими никакой тени, ничего, на чем мог бы отдохнуть глаз. Вместо мрака влюбленные оказались в зоне невыносимо яркого света, где, как им подумалось сначала, они будут совершенно одни. Но они ошиблись.
Им объяснили суть назначенного им наказания. Там бродило множество других пар, испытавших при жизни чрезмерную привязанность друг к другу, некоторые даже сотворили немало мерзостей во имя этой связи, наделали непоправимых бед, кого-то свели с ума, кого-то убили, — долог был список преступлений, совершенных во имя любви.
Большинство составляли неверные супруги, некоторые из них усугубили свое злодеяние, воспылав страстью к брату или сестре супруга, бывало даже, что к его матери или отцу или даже к сыну или дочери от первого брака. Не умея обуздать свою наклонность, они разрушали целые семьи, обрекая все потомство вечно нести на себе печать позора.
Другие преступили первый закон, отличавший человека от животного, развратничая внутри одной семьи, и эти кровосмесители, познавшие еще при жизни тяжелейшие нравственные муки, не ожидали больше для себя никакого проявления милосердия.
Впрочем, на шкале гнусностей они занимали не первое место, поскольку немало было и тех, кто в ослеплении запретной страстью пошел на убийство. Сколько было таких вероломных любовников, вообразивших, будто их ожидает счастье, стоит только отделаться от надоевшего мужа или несносной жены.
Но были еще и худшие пары, на которых остальные смотрели как на чудовищ. По им одним известным причинам они избавлялись от своих детей, ставших для них препятствием, ненужным бременем. Самые счастливые из этих невинных жертв были просто брошены на обочине дороги. Другие же — убиты и даже не похоронены должным образом.
Все это ошеломило вновь прибывшую парочку. Так вот, значит, куда их определили? В чем же их вина? За что их разместили среди преступников? Как можно сравнивать сладостный трепет, который испытывали они друг к другу, с этими приступами безумия, повлекшими за собой столько трагедий? Конечно, это не их дело — судить и тем более осуждать тех, кто пал жертвой всепоглощающей страсти, но что у них общего с этими несчастными? Напротив, они всячески старались, чтобы чувство, горевшее в их сердцах, никому не причинило вреда. Они никому не сделали ничего плохого, они даже семьи свои оставили, как будто никогда ни от кого не рождались, ведь истинное их рождение свершилось в день их встречи.
Теперь, когда они узнали, где и рядом с кем им предстоит обитать, оставалось лишь понять, в чем будет заключаться их наказание.
Вдруг они почувствовали, что с ними происходят какие-то медленные перемены, будто они вновь обретали свою земную оболочку; у них вновь появилась кожа, определились очертания, проявился образ, они снова испытали человеческие ощущения. Вновь обретя привычный вид, они увидели, что стоят обнявшись, глаза узнали друг друга, дыхания перемешались. К ним вернулся дар речи, и они произнесли несколько слов, потерявшихся в отголосках эха.
Но едва они очнулись от своих объятий, как легкий ветерок подхватил и закружил их. Их сплетенные тела описывали круги, становившиеся все шире и шире, они крепче прижались друг к другу, сопротивляясь этому еще только начинавшемуся вихрю. Грешники то почти неподвижно зависали в воздухе, то вдруг резкий порыв ветра бросал их на светящуюся стену. Тогда они падали отвесно вниз, словно с вершины утеса, но ветер вновь подхватывал их, швыряя в другую сторону, да так, что от нового столкновения у них трещали кости.
Им наконец открылось истинное значение и этого безжалостного маневра, и этого нестерпимого света. Подхваченные вихрем, не позволявшим им оторваться друг от друга, оба ощущали закрадывавшееся в них одно и то же сомнение: а что если он — тот, другой — не поддерживает меня, а тащит в бездну? Кого винить в этой пытке, как не спутника, преследующего тебя с самой Земли и сбивающего с толку своими неслыханными прожектами? И объятия неуклонно порождали неприязнь; лицо возлюбленного, некогда самое прекрасное, казалось уродливым, дыхание зловонным. Улыбка превращалась в гримасу. Тело, когда-то такое желанное, вызывало отвращение. Голос, произнесший столько учтивых речей, теперь звучал только для горьких упреков. Идея дьявола была ясна: ваша любовь станет вашим проклятием.
Дьявол любил пошутить, придумывая пытки для осужденных на вечные муки, и теперь особенно радовался, считая этот случай весьма характерным и прекрасно иллюстрирующим ужасы семейной жизни. Отличная выдумка — эти супружеские пары: попасть супругу в рабство, поглощать его сияние, как Земля поглощает солнечный свет, позволить ему полностью заполнить себя своим присутствием, одним и тем же, неизменным, тяжелым, неизгладимым, и все это до такого отвращения, когда только ненависть, порожденная все той же страстью, наполняет сердца до исступления, подчас до экстаза… О эта сладострастная ненависть, единственный бальзам, способный утолить боль поражения!
«Попляшите-ка целую вечность на ярком свету, посмотрим, что станет тогда с вашей опьяняющей страстью, с вашими нежными порывами…»
Обнявшись, они все кружились в воздухе, описывая замысловатые кривые и слыша на особенно крутых виражах, как бьется сердце возлюбленного. Они не могли изменить траекторию своего полета, но научились заранее предвидеть ее изгибы, отдавшись на волю скорости; то и дело с размаху бились они о скалу, и при каждом ударе, отдававшемся в костях, у них вырывался крик и перехватывало дыхание. В этом бесконечном падении они подбадривали друг друга, шептали слова поддержки, а потом их снова подхватывало воздушным потоком. Очень редко им встречалась какая-нибудь другая пара, летавшая во встречном потоке. Странные это были встречи, длившиеся не дольше секунды, когда внезапно они оказывались лицом к лицу с такими же, как они, — некогда человеческими существами, а теперь блуждающими душами.
*
Слишком занятый растлением мира будущего, дьявол в конце концов забыл о про́клятых влюбленных. И лишь почти случайно, вечностью позже, он призвал их к себе, чтобы удостовериться в своей победе.
Едва увидев их перед собой — коленопреклоненных, с прижатыми к глазам ладонями, словно они хотели скрыть слезы, — он понял, что все это сплошное притворство. На самом деле он не увидел в их взгляде ни тени раскаяния, не услышал ни единой мольбы о пощаде, на лицах их не было и следа ненависти, на теле — ни царапин, ни синяков, ни укусов, которыми они должны были наградить друг друга. Ибо эта пара уже понесла наказание, сначала на Земле, потом на Небесах, потом снова на Земле. С самого первого дня они подвергались гонениям, пережили смертную казнь, Господь Бог распекал их, а потом и вовсе прогнал из рая, они познали шторм, горячку, тюрьму, лечебницу для умалишенных, испытали людскую ненависть, звериную злобу, ярость стихии, и всем этим мучениям их подвергли только ради того, чтобы разлучить с любимым. И вот теперь дьявольская сила обрекла их на нежданную близость — чудеснейшую из пыток, прекрасную возможность наверстать время, упущенное, пока они искали друг друга по всей земле. Сколько нерастраченной ласки? Сколько несделанных признаний? Сколько слез еще предстояло осушить? Сколько ран залечить? Сколькими воспоминаниями поделиться? Сколько событий, во время которых они старались не упустить ни одной подробности, чтобы однажды рассказать о них любимому и, может быть, вместе посмеяться над ними? Поэтому угроза этого ужасного взаимопроникновения обернулась совершенно иначе. И они увидели в этом символ: может, в том и заключается первооснова любви — чтобы вдвоем противостоять встречным ветрам?
Дьявол вынужден был признать очевидное: испытание только больше сблизило их. Быстро же они оправились от первого страха! И все это время наслаждались радостью новой встречи! Просто провокация, и слухи о ней просочились уже в другие круги его ада. Обидная неудача и полный скандал в придачу.
Не желая признать себя побежденным, дьявол попробовал применить некогда безотказный прием. Он показал каждому из них счастливую жизнь, которую они могли бы прожить, если бы никогда не встретились.
Гений зла не зря носил это звание. Предлагая им исключительную судьбу, он не стал прибегать к обычным искушениям, за которые любая человеческая душа обрекла бы себя на вечные муки, — люди так предсказуемы в этом плане: одни, и таких большинство, попадаются на посулы роскошной, богатой жизни, другие, снедаемые страстью к телам несравненной красоты, предпочитают удовлетворять свои порочные наклонности. А для того чтобы они могли спокойно наслаждаться всеми этими радостями жизни, дьявол давал им гарантию, без которой сделка была бы недействительной, — полную и безусловную безнаказанность, Святой Грааль всех нечестивцев.
Но с этими двумя, способными вывести из себя даже самого выдержанного повелителя, надо было действовать иначе.
Итак, каждый своими глазами увидел ту жизнь, которую мог бы прожить.
*
Зверолов видит себя идущим по лесу. Он собирается снимать силки и еще не знает, что в конце тропинки его ждет встреча с суженой.
Но тут он слышит стоны несчастного, брошенного под деревом какими-то негодяями, которые не только обобрали его до нитки, но еще и не отказали себе в удовольствии как следует его отлупить. В сущности, зверолов не считает, что его дело — спасать всех умирающих мира, а повидал он их на своем веку один Бог знает сколько, да и сам бывал на волосок от смерти, причем никого это не волновало. Но его начинает мучить совесть, и, решив все же потратить время и силы, он взваливает раненого на плечо, чтобы попытаться спасти ему жизнь в ближайшей деревне.
Спасенный им человек оказывается еще и знатного рода: это владетельный барон, хозяин огромного имения. Вне себя от благодарности, он открывает спасителю двери своего замка. Барон и зверолов становятся друзьями, и этот совместный опыт преображает их обоих. Спасая умирающего, простолюдин обнаруживает в себе способность к состраданию, которая пошатнула его эгоистическое начало до такой степени, что в душе у него зародились идеалы благотворительности. Барон же, спасенный человеком низкого звания, вдруг понимает всю тщету своего стремления к могуществу и богатству; преисполнившись благодарности, он хочет возвратить то, что получил.
Вместе они вынашивают замысел некоего общества, целью которого будет забота о самых неимущих, строительство приютов и лечебниц, где к бродягам будут относиться по-человечески. Барон отправляется ко двору и рассказывает о своем замысле королю Франции, тому самому, о котором говорят, что он болен, и который болен еще тяжелее, чем говорят. На пороге смерти, готовясь предстать пред Господом, тот подписывает представленный ему бароном указ, чтобы остаться в памяти подданных человеком бесконечной доброты.
*
Девица же тем утром встала вместе с росой, чтобы набрать цветов, которыми благородные дамы любят украшать свои комнаты. Когда она вышла из замка, став богаче на сто су, перед ней встал выбор: вернуться обратно в лес (она еще даже не подозревала, что встретит там некоего зверолова) или истратить заработанные деньги у башмачника и купить себе башмаки взамен старых, быстро износившихся от постоянной ходьбы.
Она выбирает дорогу, ведущую в соседний городок, и там, на улице, пользующейся дурной славой, встречает рахитичную нищенку, которая, не умея пробудить в прохожих жалость, скоро вынуждена будет торговать своим телом, чтобы выжить. И тогда сборщица даров природы принимает безумное решение отдать ей свои сто су, чтобы облегчить ее горе, утолить ее голод и, может быть, спасти ее добродетель. Нищенка, не веря своим глазам, плачет в объятиях щедрой незнакомки и покидает это гиблое место.
Однако годом позже сборщица ягод вновь встречает свою нищенку на том же самом месте, в том же квартале, где та с помощью бывших падших созданий основала светский орден, оказывающий помощь женщинам, попавшим в тяжелое положение. Это целая армия, и она готовится предстать перед королем Франции. Оказавшись невольной благодетельницей ордена, сборщица бросает свою корзину и отправляется в Париж, где удостаивается почестей со стороны короля и добивается признания за женщинами определенных прав.
*
Про́клятые влюбленные остолбенели. Дьявол не был бы дьяволом, если бы не умел дойти в своих ухищрениях до высшей точки накала, используя для достижения своих целей не зло, а добро. Прекрасная работа, верх издевательства и коварства, — подвергнуть осужденных искушению добром, ибо он знал, что никакое другое искушение не сможет заронить сомнение в их сердца. Им представлялся случай навечно войти в историю человечества, неожиданным образом способствуя формированию лучшего мира, такого, в каком они хотели бы жить с рождения.
Им надо было сказать лишь одно слово, чтобы снова оказаться в том лесу, в то утро, с памятью, свободной от всех воспоминаний. На пороге новых приключений, где каждому из них предстояло встретиться не с несчастьями и бедствиями, а с высокими идеалами. На пороге первого дня, с которого начнется не идиллический союз, а их гуманистическая миссия. Шанс, которого не дал им Бог, теперь предлагал им дьявол.
Им только всего и надо — отречься друг от друга.
*
Однако влюбленные не чувствовали в себе никакого призвания к святости. Взаимная любовь сделала их более чуткими к страданиям ближних, и они ни разу не упустили случая совершить доброе дело. Но эти благородные порывы коренились в одном-единственном чувстве, родившемся в них одним осенним утром. И наверняка их мало заботили бы чужие беды, не испытай они этой неудержимой тяги к дивному незнакомцу. Без исполнения собственных желаний и желаний родной души альтруизм и самопожертвование были всего лишь благими началами, начисто лишенными какой бы то ни было убежденности и полными притворного пафоса. Можно ли совершить малейший акт милосердия, не познав прежде всего этого откровения? Такое и представить-то себе трудно. У зверолова и его сборщицы ягод сердце было огромное, как храм, но этот храм показался бы каждому из них пустым, если бы там не побывал другой.
Они выразили дьяволу свою признательность, но они недостойны такой чести, сказали они, да и не способны пройти по этому пути милосердия. Слишком уж это великое дело, нет, они предпочитают судьбу навеки связанных друг с другом грешников, обреченных на вечную пытку ветрами.
*
И тут произошло нечто невиданное со времен создания преисподней, то, чего никогда не могло случиться. Лукавый вышел из себя и показал свое истинное возмущение; он обозвал их эгоистами, сказал, что хуже их у него в аду еще никого не было, и даже допустил мысль, что ошибся, поместив их в круг к сластолюбцам, тогда как их место среди равнодушных. Да как они смеют цепляться за свою несчастную близость, когда им представляется уникальная возможность рассказать людям о равноправии, избавив их от вековой несправедливости и ошибок?
Так говорил Сатана, искренне негодуя, как только может негодовать благородный ангел, каковым он был когда-то, до того как пал.
Его негодование напомнило возлюбленным другую вспышку гнева, когда все так же начиналось с упреков в неблагодарности. Только тогда их бранил Бог, а теперь вот дьявол, но почти в тех же выражениях.
Неудача привела дьявола в доселе неведомое ему состояние. Впервые он предстал без своей пагубной ауры, в стремлении восстановить утраченное достоинство, — весьма недостойное занятие для того, чье дело было принимать недостойных в своем расплавленном логове.
Проклятую парочку это даже расстроило: грустно в очередной — может быть, сотый, с тех пор как они скитаются по миру, — раз убеждаться, что любой циник, стоит только ему самому столкнуться с цинизмом, превращается в самое беспомощное существо. Ему, автору полного каталога грехов, признать свои ошибки не позволяла гордыня. Из хозяина преисподней он превратился в короля честолюбцев, и весть об этом неприятном факте разнеслась среди грешников, пребывавших здесь с незапамятных времен. Пойдя на поводу у собственной самонадеянности, как заурядный смертный, он не смог ни соблазнить, ни покарать две простые души, он даже не заронил в них мучительных сожалений и угрызений совести. Он утратил право называться великим распорядителем наказаний.
И Сатана стал всеобщим посмешищем.
И лично проводил их до ворот ада.
Соснув немного, Луиза снова садится за руль, твердо решив еще до темноты добраться до пограничного поста в Уэст-Беркшире — «хижины среди сосен», как она его описала. Миссис Грин, устроившись на заднем сиденье, положила монитор на колени и, пользуясь приличным сигналом Сети, смотрит по местному телеканалу новости, а затем просматривает поступающие десятками сообщения с хэштегом #runninglovers.
Самое интригующее из них написано сотрудником архива из префектуры Сена — Сен-Дени, утверждающим, что ему удалось нащупать связь между пьесой «Супруги поневоле» и реальными фактами, лежащими в ее основе.
Он только что оцифровал и выложил в Сеть два документа XII века, имеющих отношение к этому делу и в которых говорится о супружеской паре, приговоренной к смертной казни за богохульство. Это, во-первых, протокол судебного заседания, а во-вторых, так называемый «диктум» — обвинительный акт, который зачитывался на площади перед народом, пришедшим посмотреть на казнь.
«Вышепоименованные были доставлены в сие место с рынка Ле-Аль сидящими в повозке и одетыми в белые рубахи и штаны».
Не претендуя на роль историка, он обращает особое внимание читателей на некоторые подробности, указывающие, что рассмотрение данного дела отличалось от принятых в то время судебных процедур. Всех, кто заинтересовался этими документами, он приглашает прийти в хранилище и изучить оригиналы.
Чувствуя комок в горле, миссис Грин перечитывает полный текст протокола судебного заседания и снова, как тогда, ощущает озлобленность свидетелей обвинения, злопамятство церковников и лицемерие судей. Но жесткость обвинительных речей смягчает одна фраза, произнесенная ее мужем. Чтобы проверить, выдержала ли она испытание временем, она посылает ему ее в мгновенном сообщении.
*
Дальше до пограничного пункта Сен-Бернар-де-Лаколь автобус «Грейхаунд» поедет без остановок. Пассажир латиноамериканского типа, часто катающийся по этому маршруту, поясняет мистеру Грину, что белому с американским паспортом бояться нечего. А мистер Грин до этого момента ничего и не боялся, но стремление незнакомого человека его подбодрить вселяет в него беспокойство. Чтобы прекратить этот разговор, он хватается за газету, забытую кем-то на сиденье. Но, едва раскрыв ее, тут же раскаивается в содеянном.
Автор редакционной статьи в «Вашингтон пост» возмущается интересом, который вызывает дело беглых французов, и сам же, как ни странно, посвящает этому делу целую страницу. Мир ежедневно трясет — как в прямом, так и в переносном смысле, — ни один из мировых конфликтов не заканчивается мирным путем, раскол между Севером и Югом необратимо усугубляется, все естественные ресурсы заложены-перезаложены, все живут в кредит, ставя под угрозу собственное будущее, любой ребенок благодаря компьютерным играм может пойти на массовое убийство, а мы тратим время на обсуждение какого-то незначительного факта из разряда «происшествий»! Можно подумать, что читатели устали от неуклонно шагающей вперед истории и от тысяч и тысяч смертей, которые она оставляет позади себя. Тридцать лет назад он пошел в журналистику ради защиты демократии, он возбуждал дела, разоблачал скандалы, предотвращал заговоры, и вот теперь кричит от бессилия, заполняя этим криком целых четыре колонки. Он, умевший когда-то повлиять на общественное мнение, на закате своей карьеры сам поддается его влиянию. Еще не так давно, стоило где-то в мире забрезжить революции, он уже слал оттуда свои репортажи. Теперь же ему достаточно открыть «YouTube»! Да и политикам, зависающим в соцсетях, нет больше нужды общаться через прессу: настучал откуда-нибудь с края света гневный твит, и цель поражена. Информацию убили сплетни, слухи — этот невидимый и непобедимый конкурент, избравший объектом своего интереса какую-то парочку нелегалов — еще и французов! — которые у себя в стране считаются маргиналами и хорошо известны полиции своими противоправными действиями. Разве Соединенным Штатам мало своих злоумышленников, что они так интересуются этой парой? Стоит ли тогда удивляться отсутствию идеологии, предательству элит и концу великих надежд?
Мистер Грин отрывается от газеты, получив текстовое сообщение от жены:
«Славить Господа — это прекрасно, но разве любить одно из Его созданий больше, чем любит его Он сам, не будет самым совершенным Его прославлением?»
Он не помнит, что когда-то произнес эту фразу, но она кажется ему правильной. Во всяком случае, достаточно логичной.
Хозяин преисподней не случайно зашвырнул их сюда.
Этот отравленный дар он приберег для них в надежде, что современный мир одарит их подарками похлеще. Именно в этом конкретном месте земного шара веков десять тому назад влюбленные впервые взглянули друг на друга и чуть не потеряли сознание от любви. И теперь снова они не упали в обморок, правда на то были совсем другие причины.
Они стояли посреди обширной площадки, заполненной тысячей металлических механизмов, часть из которых двигались в разные стороны, почти касаясь друг друга и чуть не сталкиваясь в узких проездах. Маленькие повозки без лошадей, в каждой из которой сидело по четыре пассажира, с шумом перемещались сами собой. Те, что приезжали на площадку, занимали места тех, что ее покидали, останавливаясь в соответствии с белыми линиями, которыми была расчерчена на удивление гладкая черная поверхность земли. Выбравшись из повозок наружу, их пассажиры тут же обзаводились странными тачками из кованого железа, а затем исчезали внутри огромного крытого рынка, длинного, как сотня выстроенных в одну линию амбаров, и высокого, как крепость.
Это был паркинг торгового центра с его непринужденной утренней суетой.
Перепуганные влюбленные, прижавшись друг к другу, поспешили убежать подальше от этого непомерно большого сооружения невиданных очертаний, построенного из неведомых материалов, с его сомнительными запахами и загадочной симметрией. Чувствуя себя взаперти под открытым небом, они стали пробираться вдоль ограды, не находя выхода, как вдруг заметили вдали, словно маяк во тьме, вершину дуба. Моля Бога, чтобы там оказался лес, они бросились к нему, но вынуждены были остановиться на краю автострады, перейти которую можно было лишь с риском для жизни: по этой бешеной преграде нескончаемым потоком неслись адские повозки, подсекая и словно атакуя одна другую и лишь в последний момент избегая столкновения. Это была настоящая война, вникать в детали которой им не хотелось. Воспользовавшись просветом, образовавшимся в веренице машин, они помчались к лесу и, углубившись в чащу, бежали, пока не стих шум, издаваемый этими металлическими чудовищами. Задыхаясь, опустились они на землю, как два солдата, чудом выбравшиеся из-под огня, обессилевшие, но живые.
Обоим вспомнилось то печальное утро, когда, изгнанные односельчанами, они наскоро собирали свой скарб. Как забыть то совершенно особое горе, когда ты оказываешься вынужден бежать с родной земли, то чувство одиночества, превращающее взрослого в сироту, порядочного человека в бродягу, осужденного жить в чужом краю оседлым скитальцем. И пусть этот край полон красот и природных ресурсов — для пришельца он навсегда будет окрашен тоской по родине.
Теперь же, в этот самый момент, в этом самом лесу они должны были бы испытывать противоположное чувство — радость от возвращения в родные края. Это был их лес, в нем они родились, он их кормил, в нем они укрывали свою зарождавшуюся любовь, прятались от чужих глаз, и никто не знал его лучше, чем сборщица ягод и зверолов. Они прошли из конца в конец весь белый свет, побывали на Небесах и в преисподней, и теперь сердце должно было бы подсказать им: «Это здесь». Ветер должен был бы напевать дивные мелодии, деревья — наполниться живительной влагой, воздух — пропитаться ароматами прелой земли, плоды — налиться сладким соком, заросли — кишеть зверьем, пышная листва — скрывать горизонт.
И однако, они не узнавали своего прежнего леса, теперь такого чистого, прибранного, подстриженного, прореженного, сухого, пустынного — никакой живности, даже насекомых! В этом лесу не найдешь ни ягод, ни дичи, ни даже тени, заливавший его свет казался тусклым, мутным, как и зелень листвы, и бурый цвет земли. Построить себе тут убежище, заново начать жизнь — об этом нечего и думать. Нет, им надо поскорее возвращаться в мир и попытаться там прижиться.
*
Им понадобилось меньше двух часов, чтобы обновить свои знания о трех веках цивилизации. За время их отсутствия на Земле были созданы экраны, заключавшие в себе все картинки мира, дававшие доступ ко всем знаниям, накопленным человечеством, позволявшие увидеть голубую планету с неба, нарисовать очертания бесконечно малых объектов, заглянуть в каждый дом, даже на другом конце света. А если вам надо было туда отправиться, вас доставлял самолет, которому на это требовалось меньше времени, чем нужно, чтобы попытаться представить себе такое путешествие. Они, прошедшие океаны, пустыни, степи пешком, верхом, по воде или на спине верблюда, задавались теперь вопросом: может быть, веди они поиски сегодня, им быстрее удалось бы отыскать друг друга?
Они вправе были ожидать огромных философских и политических перемен, однако формула гармоничного сосуществования народов так еще и не была открыта. Подавляющее большинство государств избрало экономическую модель, основанную на извлечении прибыли и потреблении, а также систему управления, при которой прогрессисты и консерваторы вели постоянную вражду. В этом новом мире люди потрошили друг друга из-за каких-то идеалов, рас, религий, природных ресурсов, но теперь это делалось с помощью способного спровоцировать мировой катаклизм оружия, несмотря на нескончаемые переговоры руководителей. Финансовые картели, консорциумы, трастовые фонды и холдинги, пришедшие на смену властителям и монархиям, воевали между собой, используя зверские методы, на которые не были способны самые страшные тираны, исчезнувшие теперь почти поголовно, поскольку они оказались не в силах противостоять гораздо более могущественному авторитету — рынку. Иногда, как и в былые времена, откуда-то раздавался мудрый, добрый голос, но стоило этому мудрецу смешаться с десятком таких же, как он, и его голос тонул в общей какофонии, а он в конце концов начинал вместе со всеми призывать к самосуду. Если с отдельным человеком еще можно было как-то найти взаимопонимание, то с группой это по-прежнему было немыслимо.
Они обнаружили также — и это привело их в неописуемый ужас, — что люди выказывали маниакальное стремление (в котором было одновременно нечто криминальное и суицидальное) разграбить и уничтожить кормившую их природу. А уж влюбленные повидали на своем веку грабителей. Новый человек, останавливаясь перед чудесным пейзажем с нежными красками, сразу задавался вопросом: как бы его изуродовать? Вдыхая ветерок, напоенный ароматами трав, он умудрялся наполнить его смрадом. Встречая на своем пути величественного дикого зверя, он задумывался о наиболее верном способе его истребления. Благодаря научному прогрессу он знал, как отравить реку, как сделать бесплодной пашню. Убежденный в том, что он хозяин Земли, человек вообразил, будто, уничтожив все другие виды, обеспечит таким образом собственное выживание. Природа, которая до сих пор восстанавливалась сама, казалось, исчерпала все жизненные силы и, оскверненная и униженная, покорно шла на смерть. Мир, где счастливо жили сборщицы ягод и звероловы, умер вместе с ними.
Они могли бы, несмотря ни на что, приспособиться к гнусности этого века, если бы тот не был так спесив и категоричен. Потрясенные омерзительным словесным поносом, которым страдало человечество, они проникли в виртуальные библиотеки и заблудились там в лабиринтах рассуждений, при помощи которых самовыражались политики и рядовые граждане, интеллектуалы и простые люди, священнослужители и миряне, которых в свою очередь комментировали аналитики, эксперты и наблюдатели, все имевшие твердое намерение всё объяснить, все обладающие исключительным правом на истину, все убежденные в том, что у них есть совесть, но при этом лишенные сомнения в чем бы то ни было. Влюбленным вспомнилось, как они целый год приручали слова, пытались воспроизводить их с помощью пера, учились артикулировать свои мысли. Самая короткая фраза была для них тогда и мукой, и победой, а как счастливы были они оттого, что другой смог ее прочесть! И вот человек развратил, разорил язык, и ради чего!
Познав сначала мракобесие, потом свет, влюбленные могли бы обратиться с посланием к людям, пока те не уничтожили самих себя. Поведать им, как упорно Бог стремится сохранить свою непроницаемость и что по Ему одному известным причинам, вне всякого сомнения возвышенного характера, Он предпочитает оставаться глухим, немым и недосягаемым и наказывать свои творения за неуважение к Его высшему и непостижимому замыслу. Что же до дьявола, то у того есть лишь одно положительное качество — терпение, ведь, чтобы внести свой вклад в конец света, ему ни к чему напрягать воображение, — знай жди да посматривай, как в театре, наслаждаясь таким изобилием вредоносной креативности, что иногда можно подумать, что это он — именно он, а не Бог — создал человека по своему образу и подобию.
Но как не прослыть сумасшедшим среди сегодняшних пророков и прорицательниц? Как достучаться до людей, уставших от поучений?
На этой вращающейся вспять Земле влюбленные предпочли пойти другим путем и дожить украденную у них жизнь в каком-нибудь укромном месте, где нет бедствий разрушительнее цунами.
В более суровые времена им не нужны были ни фонари, чтобы найти дорогу во тьме, ни конная полиция, чтобы чувствовать себя защищенными, ни государственные средства, чтобы кормиться, ни медикаменты, чтобы лечиться. После того как они навлекли на себя ярость безумного короля, побороли лихорадку в пустыне, леденящий холод, мучительный голод, познакомились с ордами головорезов, сбежали из лечебницы для душевнобольных, из тюрьмы, из клетки, из княжеского дворца, после того как их не достали ни пуля, ни кинжал, они ни от кого ничего больше не ждали: пусть только система оставит их в покое, а они оставят в покое систему.
*
Она снова стала сборщицей, но в современном варианте: ждала, когда закроются рынки, чтобы поспорить с другими нищими за испорченные продукты. Зверолов стал приворовывать, запрятав подальше стыд, ибо прежде ни при каких обстоятельствах ему не доводилось отнимать у кого бы то ни было его добро. Не имея ни сил, ни желания обустраиваться в эпохе, которая не вызывала у них уважения, они вскоре придумали средство выживания, снова сделавшись прежними «деревенщинами».
Из подобранных где-то старых вещей они смастерили себе рубаху, юбку, штаны, шапку, сандалии, похожие на те, что носили в юности. Вернувшись к языку той эпохи, они создали нечто вроде дуэта и стали исполнять фаблио, которым сами когда-то рукоплескали. Песня «Старый хоровод» была встречена громкими «браво», а «Сто восемьдесят дев» до краев наполнила их кружку монетами.
К номерам фривольного содержания, которые всегда давали полный сбор, они добавили небольшие нравоучительные сценки: «Два горожанина и крестьянин», «Старуха и рыцарь» в сокращенном варианте, чтобы прохожим было понятнее. Для них, прохожих, эти выступления на закате дня были своего рода «минутой духовности», а вечерами такие минуты особенно ценны. Средневековье внушало доверие, его жестокость, нищета забывались, высвечивая в памяти лишь вековые истины, остававшиеся непреложными, пока люди не увлеклись собственными речами. В конечном счете они дождались своего Возрождения точно так же, как современные люди ждут своего.
И так, вырядившись как крепостные крестьяне, они скитались по папертям и рыночным площадям, удивляясь, что их узнают и даже ждут, как сами они поджидали когда-то приезда бродячих актеров. Заслышав в переходах метро звук свирели, постоянные зрители замедляли шаг, чтобы послушать песенку, повторяя вполголоса слова, хранившиеся в коллективной памяти. Трубадуры имели обыкновение заканчивать свой концерт печальной кантиленой на два голоса, исполняя ее скорее для собственного удовольствия, чем для публики, неспособной оценить ее искренность. Песня «Пришли на нашу свадьбу», написанная в тот самый год, когда их казнили, считалась в наши дни украшением галантного репертуара. Начинал мужчина: «Поймал в свои силки я нежную красотку», ему каноном вторила женщина: «Нашла в лесу я чудо-паренька», после чего уже вместе они перечисляли трогательные и горькие эпизоды своей истории, пока наконец не добирались до ее печального конца: «Король сказал нам: „Коли нет в вас жалости ко мне, умрете вы тотчас“».
Среди нищих царила жесткая конкуренция, однако их дуэту она была нипочем, поскольку обычный попрошайка, сидящий с низко опущенной головой и протянутой рукой, мог предложить прохожему разве что угрызения совести, которых у того и так было предостаточно. Поэтому он предпочитал на несколько мгновений погрузиться в мечту, каковую возможность и предоставляли ему этот мужчина и эта женщина, бывшие, возможно, его предками. Не умея этого объяснить, зрители были уверены в достоверности того, что им представляли, и завидовали легкости, с которой эта парочка переносится «туда», в прошлое, словно путешествуя во времени.
Они разработали маршрут, связанный с проведением средневековых праздников, где они могли дать спектакль или наняться в обслугу. На многолюдном празднике в Сен-Жан-де-Илер они выступали среди других труверов и жонглеров. На «Пиру менестрелей» в сводчатом зале крепостного донжона они прислуживали, подавая гостям дичь, приготовленную по старинным рецептам, давно забытые овощи и ароматные вина. На ярмарке в Эстонвиле они давали ремесленникам ценные советы по изготовлению ножей с роговой рукояткой, глиняных ламп, ладана, красителей, а также вина из бузины и из айвы. На Бреальском турнире они вмешались в спор медиевистов, которые описывали быт XII века с такой завидной уверенностью, будто только что вернулись из тех времен. А в Сен-Сова, приняв участие в «Ночи фаблио», они выиграли главный приз.
С мероприятия на мероприятие они ходили чаще всего пешком, останавливаясь там и сям, чтобы выступить в базарный день, и больше не утруждая себя переодеванием, поскольку их сценический костюм вот уже тысячу лет был для них повседневной одеждой. Их фотографировали, их приветствовали; люди, в том числе и жандармы, завидев их издали, охотно объясняли дорогу, не допуская и мысли, что эти двое — не то паломники, не то крестьяне — не имеют никаких документов, удостоверяющих личность.
*
Направляясь вдоль вандейского побережья на праздник в Сен-Люк-дю-Гре, они остановились на две ночи в сельской гостинице, где расплатились за постой одной мелочью, чем вызвали неудовольствие Анны, хозяйки заведения, хоть та и перевидала на своем веку немало чудаков всякого рода. Вечером она извинилась за свое дурное настроение, сославшись на мигрень, особенно разыгравшуюся к концу туристического сезона. Она пожаловалась на тирана, поселившегося у нее в голове, — жестокого, своевольного, с которым ничего нельзя было поделать. Чего она только не испробовала (помимо медикаментозного лечения, разрушившего ей печень и желудок) — от акупунктуры до гипноза, — и в конце концов доверилась шарлатанам, оказавшимся достаточно хитрыми, чтобы пробудить в ней надежду. Она уже смирилась с тем, что ей придется — во искупление какого-то греха — вечно нести этот крест, год от года становившийся все тяжелее. Наверняка в прежней жизни она совершила какую-то подлость, за что и расплачивается. Теперь ей только и оставалось, что биться головой о стены (не в переносном, а в самом что ни на есть прямом смысле слова) чуть ли не до обморока и терпеть, когда ее называли сумасшедшей.
Следующий день влюбленные провели врозь. Оставив мужа состязаться с волнами Атлантики, жена отправилась в город, чтобы купить там сухих трав, которые в прежние времена она собрала бы сама. Вооружившись ступкой и пестиком, она изготовила порошок и мазь, рецептом которых поделилась с ней когда-то знахарка из ее села, поручавшая ей собирать основные составляющие для своих снадобий. Столовая ложка на стакан воды перед сном при приступе, а на лоб — компресс с мазью из семян и корней.
Анна проснулась в странном состоянии; внутренняя пустота понемногу заполнялась разрозненными ощущениями — смесью солнечного света, запаха горячего хлеба, желанием расцеловать близких и острой необходимостью сразиться с наступающим днем. Ей стоило большого труда поверить мужу — Жилю, когда тот признался, что каждое утро просыпается с такими же ощущениями.
Ему тоже показались странными постояльцы, которые удивлялись всему так, будто только что явились с необитаемого острова, но при этом имели почти магическую, интуитивную связь с природой, интересовались ветрами, отливами и приливами, сменой времен года, местной флорой. Материальный мир они постигали посредством пяти чувств, как дети, пробуя на вкус, на ощупь, рассматривая, нюхая, слушая все, что казалось им незнакомым.
Гости и хозяева познакомились. Вырастив детей, построив гостиницу, отпраздновав сорокалетие свадьбы, Анна и Жиль дожили наконец до пенсионного возраста. В Квебеке их ждал деревянный домик с видом на реку Святого Лаврентия. Жиль там родился, и ему не терпелось вновь увидеть братьев и сестер, вернуться в детство с его хрустальными зимами. Он пригласил бродячих актеров навестить их. Те приняли приглашение из чистой вежливости, не подозревая, что скоро — гораздо раньше, чем можно было бы подумать, — им представится такой случай.
*
На празднике в Сен-Люк-дю-Гре они познали настоящий триумф. Их пригласили принять участие сразу в нескольких мероприятиях, и они обрадовались возможности добавить к своему путешествию по Франции новые места.
В то утро они ждали на площади автобус, когда женщина вдруг отпустила руку мужа: ее внимание привлекла неряшливо одетая девушка, которая одиноко сидела на скамейке и сворачивала сигарету, облокотившись на свой рюкзак.
Ее никто бы не заметил, если бы не пес, лежавший у ее ног без поводка, с закрытыми глазами, положив морду на тротуар и собрав вместе похожие на стиснутые кулачки лапы. Молодой чау-чау, расплющенный от усталости и такой же грязный, как его хозяйка.
Муж догадался о волнении супруги: разве бывают встречи более щемящие, чем встреча незнакомых людей? Ничто в поведении этой бродяжки не было ей чуждо — и естественность, с которой она сидела под открытым небом, как будто у нее была крыша над головой, и забота, с которой она охраняла сон своего пса. Да какого пса!
Сеттер, овчарка — все собаки мира по сравнению с ним выглядели просто собаками, никому и в голову не пришло бы останавливаться и смотреть, как они спят. А этот чау-чау напомнил ей другого, вернее, двух других — погибших товарищей, защитников, готовых на самопожертвование, всегда серьезных, скупых на проявление чувств, не желавших тратить их попусту. Она увидела себя в меховых одеждах, на санках, с восхищением наблюдающей за своими маленькими спутниками, способными на такое самоотречение, что они одни смогли бы искупить все грехи человечества. Как могла не взволновать ее эта картина — девушка с чау-чау, — полотно, для которого когда-то позировала она сама, правда в других декорациях?
Маленькая бродяжка сказала, что она «в полной заднице» и вынуждена пешком добираться до Барселоны, где ее ждет друг. Он только что нашел там работу, вдвоем они продержатся несколько месяцев, а там видно будет. Показалась черно-белая полицейская машина, и они втроем ушли со скамейки. Неподвижность — непозволительная роскошь для таких кочевников: известно, как печально заканчиваются беседы на панели. Девушка предложила переночевать на заброшенном заводе, таком старом, что там вряд ли встретишь охранника. Муж торопил жену, чтобы успеть на последний автобус, но та никак не могла решиться бросить «сестренку», которой на этом этапе ее скитаний так нужно было ощутить человеческое тепло, поговорить с кем-то, выспаться, зная, что ее сон оберегают родные души, случайно повстречавшиеся на ее пути. Она сама когда-то все отдала бы за одну такую ночь. Если же они сейчас уедут, у нее навсегда останется горькое чувство, что вся ее одиссея ничему ее не научила.
Перед рассветом два жандарма, патрулировавшие здание с целью выселения оттуда наркоманов и наркоторговцев, потребовали, чтобы все трое закатали рукава и показали сгиб локтя.
*
В участке мужчину посадили в камеру, где спал какой-то пьяница. В соседней же камере женщины оказались один на один, что парадоксальным образом прекратило все разговоры. Благодаря татуировке на ухе у пса было установлено, что полтора года назад он был украден у мальчика в одном из фешенебельных кварталов Парижа во время вечерней прогулки. Кроме того, девица, которую не раз задерживали за кражи с прилавков и мелкое мошенничество, не имела никаких знакомых в Барселоне и даже не собиралась туда ехать. Полное отсутствие места, куда она могла бы отправиться, и бесцельная жизнь настолько ожесточили ее, что она не доверяла больше никому, в том числе и таким же бродягам, как она сама, готовым поделиться с ней всем, что они имели.
Муж тяжело переносил заточение, хотя и был готов к препятствиям на своем пути. Эта тюрьма не была похожа ни на одну другую. Вся из бетона и стали, без малейшего сообщения с внешним миром, она вызывала в нем неведомую доселе тревогу — тревогу человека, оказавшегося в плену у чего-то несокрушимого — тверже камней в пустыне, тверже крепостных стен, тверже скал в аду: пройдут тысячелетия, а эта тюрьма по-прежнему будет существовать — без малейшей царапины, разве что чуть запылится, наглядно демонстрируя, как недолговечна человеческая плоть. А этот намертво вделанный в пол серый бетонный куб, на котором отсыпался сейчас пьяница, напоминавший надгробный памятник, выглядел могилой, прошедшей испытание всеми видами вечности — как адской, так и божественной.
Его жена прижала ладонь к разделявшей их стене, как тогда, в первый день суда над ними, и все снова пришло ей на память: солома и камни, цепи, ее товарка по застенку — бесталанная колдунья, которая была гораздо невиннее этой «сестренки», такой вруньи, такой прожженной: это же надо — украсть собаку у ребенка! Она не жалела о своем чувстве к воровке, но признавала правоту мужа, который старался держаться в стороне от чужих судеб, занимаясь только их собственной.
Она предприняла попытку, заранее обреченную на неудачу, задобрить дежурного. С нежностью вспомнила она своих сумасшедших товарищей по Свиленской лечебнице, чьи безумные фантазии смягчали сердца санитаров. Пустившись в невообразимые для здравого ума разглагольствования, она сочинила небылицу про редкую душевную болезнь, очень опасную, если не принимать должных мер предосторожности, под названием «синдром Януса», жертвой которой становились те, кто слишком долго жил в тесной близости друг с другом и, будучи разлучены насильно, впадали в нечто вроде кататонии, которая могла повлечь за собой в лучшем случае нарушение сердечного ритма, а в худшем — нарушение мозгового кровообращения, причем все симптомы немедленно исчезали, как только эти субъекты снова оказывались вместе. Во избежание привлечения скорой помощи, внутривенных вливаний, успокоительных, разных МРТ и прочих никому не нужных сложностей, их достаточно поместить в одну камеру, где они обещают сидеть спокойно, — вполне невинное нарушение распорядка по сравнению с возможными неприятностями. Жандарм добросовестно изучил ситуацию, набрав в поисковике «синдром Януса», и решил придерживаться обычного порядка.
Ближе к полудню отпустили бродяжку, которая тут же ринулась куда глаза глядят, бросив своего четвероногого спутника, гораздо лучше ее умевшего привлечь внимание и милостыню прохожих.
Потом отпустили пьяницу.
А супругов не отпустили. Им удалось обменяться парой слов на странном языке с любопытными оборотами — «на старофранцузском», заподозрил дежурный, задумавшись, не входят ли в число симптомов придуманной ими болезни и бредовые состояния.
*
В базе данных — ничего: ни актов гражданского состояния, ни сведений о судимости, ни фотографий, ни отпечатков пальцев. Ни малейшего следа этих бомжей-подпольщиков, говорящих на вычурном, витиеватом языке и к тому же вырядившихся словно крестьяне прошлых веков. Однако представить себе, что они сбежали из какой-то богом забытой деревушки, нельзя; региональные языковые различия стерлись еще с послевоенных времен, диалекты упразднены, с врожденными идиотами и умственно отсталыми давно разобрались, с внутрисемейными браками покончено, так откуда же тогда взялись эти два экземпляра?
На допросе капитан полиции, несмотря на свои пятьдесят лет, красивую форму с галунами, гладкую речь, насыщенную оборотами из Гражданского кодекса, истинную заботу о справедливости и опыт практической работы, выглядел в глазах подозреваемых сущим ребенком. Маленьким мальчиком, до сих пор не видавшим настоящей жизни, который думает, что все знает, но которому столько всего предстоит еще узнать, невинным младенцем, который верит, что люди делятся на хороших и плохих. В другой жизни они смогли бы поладить с этим жандармом, который был не страшнее королевского солдата, индейского вождя, африканского колдуна, но сейчас пора было с ним распрощаться без сантиментов, без лишних слов, ничего не рассказав ему ни о том, как живется людям, ни о скором их вымирании.
Двое бомжей покинули участок на перевозке, которая должна была доставить их к следователю, а тот — провести досудебное следствие и потребовать для них временного заключения. Ему предстояло преуспеть там, где капитан полиции потерпел неудачу, не сумев добиться ответа на элементарные вопросы: фамилия, имя, возраст, место рождения. Как смогли эти двое стать невидимыми сейчас, в двадцать первом веке, где ничто не проходит бесследно, где невозможно завернуть за угол, купить чего-нибудь поесть или войти в театр, чтобы это не было зафиксировано каким-либо устройством? Какое бы правонарушение ни совершили они в общественном месте, сейчас главное было установить их личности, иначе система даст сбой.
Если только дело не обстоит гораздо серьезнее и речь не идет о мужчине и женщине, не зарегистрированных при рождении, брате и сестре, чье появление на свет родители утаили в корыстных целях и которые выросли в подвале и вышли наружу уже взрослыми, что объясняет их замкнутость и этот странный, понятный им одним язык, на котором они изъясняются. С нетерпением ожидая их прибытия во дворец правосудия, следователь заранее радовался возможности внести хоть какое-то разнообразие в рутину повседневных дел.
Итак, эта поездка на полицейской машине давала влюбленным единственный шанс сбежать в неизвестном направлении до начала новых осложнений. Страх, что их могут разлучить всерьез и надолго, сделал их агрессивными, что стало полной неожиданностью для охранников, думавших, что им нечего опасаться со стороны простых бродяг, до сих пор вполне мирных и даже не в ломке. Несчастным жандармам, подвергшимся нападению, искусанным, исцарапанным, избитым этими бешеными чертями, было невдомек, что в течение этой нескончаемой неистовой выходки, которая длилась меньше минуты, их принимали за пиратов и казаков.
И действительно, безумцы так никогда и не увидели следователя, который, узнав о побеге, обратил всю свою злость на сидевшего перед ним подследственного, которому — вот уж не везет, так не везет — достался не тот номер дела.
Два лица, не имевшие никакого правового статуса, в тот вечер заявили о своем существовании насилием и бунтом. И их свидетельством о рождении стал на тот день полицейский протокол.
Окно их гостиничного номера выходит на маленькую, засаженную деревьями площадь в центре Монреаля. Их встреча продлилась недолго. Едва успев обняться, они забылись сном перед включенным экраном телевизора, где иногда говорят о них. На низком столике вибрируют, звякают, живут своей жизнью их компьютеры и телефоны. Сообщения, статьи, ссылки с хэштегом #runninglovers сыплются дождем. Легенда о влюбленных пишется теперь без их участия и вопреки их воле.
Один специалист по теории заговора в своем блоге дает понять, что двое беглых французов находятся якобы в точке пересечения нескольких загадок, относящихся не только к нашему веку. Обычно на него смотрят как на ненормального, но теперь у него тридцать тысяч просмотров в день.
Консульство Франции в Чиангмае, Таиланд, собирается опубликовать первый список манускрипта на французском языке, написанного одной женщиной, в котором она рассказывает о судебном процессе, происходившем тремя веками раньше, утверждая при этом, что выступала на нем в качестве обвиняемой. Сейчас документ проходит экспертизу с целью обнаружения на нем следов ДНК, пригодных для дальнейшего анализа.
Докторант Даремского университета возвращается к своему исследованию второго варианта «Супругов поневоле». Недавно ему в руки попал судовой журнал капитана Льюиса Найта, где упоминается о присутствии на борту его судна некоего француза, направлявшегося в Китай на поиски жены.
Какой-то парижанин выложил на «YouTube» снятое в метро видео дуэта исполнителей народных песен, ставшего впоследствии знаменитым. Он играет на лютне, она на тамбурине.
Художник, специализирующийся на 3D-изображениях, на своем сайте сопоставил медальон Джакомо Тадоне, приобретенный недавно галереей Уффици, с фотороботом француза, объявленного в данный момент в розыск в Соединенных Штатах, отметив их поразительное сходство.
Поскольку власти оказались неспособными объяснить, что это за парочка, возникшая из вневременного пространства, за дело взялось коллективное воображение. На виртуальных форумах, в тысячи раз более могущественных, чем в прежние времена, постепенно реконструировалась история влюбленных, постоянно восстающих из пепла.
Многочисленные свидетельства сходились к одной версии, безумной и невероятной, которую никто даже не думал подвергать рациональному анализу.
Сеть наполнилась слухами, этот поток невозможно был остановить, тема била рекорды популярности. Ее фанаты не имеют имен, это простые люди, которым надоела обычная мерзость, надоела тревожная действительность, надоело вредное для здоровья наблюдение за нравами соседей, надоело заполонившее все экраны восхваление глупости. Эта публика, которой до сих пор навязывали кумиров — циничных, продажных, ничтожных, — решила на этот раз переживать за судьбу двух бунтарей, обладавших, как казалось, сверхъестественными возможностями.
Однако истинная причина этого всенародного увлечения носила индивидуальный характер, глубоко личный и почти непристойный, ибо слухи гораздо больше говорят о тех, кто их разносит, чем о том, кого они касаются.
Каждый, кого тронуло дело влюбленных, спешил поделиться с некой избранной — да еще какой избранной! — персоной: это такой целомудренный способ послать ей сообщение романтического характера, намекнуть, что этой парочкой могли бы стать и они, — несбыточная мечта самим пережить подобную сказку, высоконравственную и одновременно безнравственную, напоминание о том, какой, оказывается, была любовь — давным-давно, до всех этих безысходных ссор, которые она порождает в наши дни, до того, как ее выхолостили красивыми словами, до того, как ее парализовал страх перед обязательствами, до того, как ее свели к статистике, высчитывая вероятности, оптимизируя риски, искореняя идеалы, обсуждая пределы. До того, как прагматизм, реализм, эмпиризм, рационализм выступили против нее единым фронтом, до того, как страх перед страданием стал причиной страданий, до того, как ей стали предпочитать одиночество, гарантирующее от всех рисков. Сила этой любви не нуждается в умных речах, в социологии, в концептуальных анализах: любовь взбунтовалась, ушла в подполье, покусилась на целую систему, замахнулась на власть при исполнении, попрала авторитеты. И пока влюбленные в бегах, все желают беглецам необычной, дикой, неслыханной судьбы.
*
Они на финишной прямой: им остается каких-то пятьсот километров. Если ехать ночь напролет, к восьми утра они будут в городке под названием Тадуссак на берегу реки Святого Лаврентия.
Едва проснувшись, они тут же принялись рассказывать друг другу, как им удалось перейти границу. Оба отметили, что выехать из Соединенных Штатов оказалось гораздо проще, чем туда въехать.
После нападения на жандармов в полицейском фургоне префектура полиции применила экстренные меры с перекрытием дорог и облавами. Чтобы бежать из Франции, им пришлось опуститься на самое дно и иметь дело с более или менее талантливым жульем. Они научились отличать нужного им проходимца от мелкого туза, строившего из себя дьявола во плоти (полное ничтожество для тех, кто был знаком с дьяволом лично). Один бывалый нелегал сделал им за немалые деньги документы, после чего передал с рук на руки проводнику, который переправил их через Атлантику в грузовом контейнере. Место назначения определилось само собой.
Они читали, что американская Конституция была задумана так, чтобы у любого был шанс стать кем-то. Забота же этих двух иммигрантов состояла как раз в обратном, ибо вполне логично, что там, где можно стать кем-то, можно решить и не быть никем. Где, как не в стране всеобщего успеха и великих судеб, у человека больше всего шансов остаться незамеченным?
И действительно, им не составило никакого труда наняться в Альбукерке (штат Нью-Мексико) на работу в ресторан «Мсье Пьер», хозяин которого брал только французов, чтобы придать своему заведению неоспоримый колорит. Пара удовлетворяла его по всем статьям: он — на кухне, она — в зале, вездесущие, неутомимые, бесценные работники для хозяина, который ничего так не любил, как давать поручения. Они так и растворились бы, о них бы окончательно позабыли, если бы муж не предложил жене съездить в Калифорнию, в маленькую деревушку Ла-Сольтера, где ему страшно хотелось побывать.
На въезде в деревню на большом плакате по-английски и по-испански было написано:
WOMAN, WHOEVER YOU ARE, WHATEVER YOU DID, BE WELCOME HERE
MUJER, QUIENQUIERA QUE SEAS, LO QUE HAYAS HECHO, BIENVENIDA
Женщина, кто бы ты ни была, что бы ты ни сделала, добро пожаловать!
Главная улица заканчивалась большой квадратной площадью со скамейками, фонтанами, платанами и зеленым газоном, приветливо встречавшими туристов и жителей деревни, пришедших туда в поисках прохлады. На каменной плите возвышалась статуя основателя Ла-Сольтеры в натуральную величину. Медь местами позеленела, местами сверкала, как золото. Черты лица, воспроизводившего единственный известный портрет персонажа, стерлись. И все же француз узнал в нем своего друга Альваро Сантандера, с которым ему пришлось когда-то делить в джунглях клетку.
Растроганный до слез, он в общих чертах поведал жене о своих злоключениях, пережитых вместе с этим странным товарищем по несчастью, которого он охарактеризовал следующими словами: «грубиян, полиглот, дезертир и феминист — вследствие любовных терзаний».
У подножия статуи можно было прочитать историю возникновения городка, основанного посреди пустыни в 1728 году авантюристом родом из Кастилии, о котором мало что было известно, кроме того, что он дезертировал из испанской армии, чтобы попытать счастья на американском Западе. Там он построил приют для мирян — исключительно для женщин, где находили пристанище нищенки, грешницы, вдовы и брошенные жены, а также незамужние и старые девы (отсюда и название Ла-Сольтера — «одиночка»), чаще всего соблазненные кем-то или считавшиеся слишком некрасивыми. В самом деле, слава о столь странном приюте быстро распространилась среди нарождавшейся нации, и через тридцать лет после его основания там проживало больше сотни женщин, которые сами строили подсобные помещения, сами придумывали внутренние правила, сами вели финансовые дела, открывали мастерские, а затем и лавочки по всей округе. Собственноручно построенная Альваро и несколькими первопроходцами гасиенда, с которой все началось, быстро превратилась в самостоятельное пуэбло[5], этакий фаланстер для женщин — отважных, решительных, которым повезло самостоятельно выбирать свой путь, не докладывая об этом мужу, отцу или хозяину, и это в то время, когда любая женщина была обречена на насилие со стороны по крайней мере одного из них, а то и всех троих. Со временем Ла-Сольтера стала оплотом, символом борьбы за права женщин, открывая им двери в сенаты и парламенты.
Они побывали с экскурсией в знаменитом центре приюта, ставшем в 1956 году музеем. От прежних времен там сохранились мануфактура, патио, рефекторий и с точностью воссозданный первый дортуар. Гид, с гордостью объявивший, что является прямым потомком основателя, показал генеалогическое древо, охватывавшее восемь поколений семьи Сантандер, ставшей в конце XIX века семьей Стентон. Огромное племя, рассеявшееся по всей стране, раз в год собирается в Ла-Сольтере, чтобы отдать дань уважения своему предку в дни праздника, который почитает своим присутствием сам губернатор Калифорнии.
На втором этаже здания гид провел посетителей по внешним проходам, ведущим в башенки, возвышающиеся над деревней: уверенный в произведенном эффекте, он заранее улыбался. Там обитательницы приюта день и ночь несли вахту с оружием в руках, чтобы отбить у игриво настроенных головорезов, убежденных, что перед ними дом свиданий, всякую охоту туда соваться. Однако, добавил он, нельзя сказать, что мужчины совсем не допускались в этот универсум, наоборот, там охотно принимали холостяков — крестьян, землевладельцев, пионеров, озабоченных не столько покорением Дикого Запада, сколько построением собственной семьи. И наконец он отвел их в уголок патио, где показал гвоздь экскурсионной программы — маленькую беседку за живой изгородью, где проходили первые свидания, когда кандидат в супруги, держа в руках шляпу, излагал свои намерения. «Предок спид-дейтинга»[6], — сказал в заключение Филип Стентон, выдав остроту, использовавшуюся им уже тысячу раз, но неизменно имевшую успех у слушателей. Он рекомендовал им зайти в лавку, где торговали сувенирами, безделушками, открытками, среди которых почетное место занимал буклет с биографией Альваро Сантандера ценой в двенадцать долларов, которого не читал ни один покупатель, но который служил им подтверждением участия в экскурсии. Затем он ответил на последний вопрос, заданный одной туристкой перед главным входом в имение, огромные двустворчатые ворота которого украшал кованый герб с названием всего учреждения: «Донья Леонор». Кто же такая была эта донья Леонор, что ее имя стало эмблемой заведения, где впервые на Американском континенте озаботились положением женщин?
Отступив от стандартного текста, уже приевшегося за две ежедневные экскурсии, юный Филип перестроился на лирический лад: да и как не расчувствоваться, когда говоришь о прародительнице собственной династии? Альваро Сантандер был без ума от своей жены и матери своих детей, которую встретил сразу после прибытия в эти края, и дал ее имя приюту для одиноких женщин. Ибо, не умаляя достоинств своего славного предка, он вынужден признать, что мысль об открытии этого центра подала супругу именно она. Кто, как не женщина, мог вдохновить его на это?
Ровно в четыре часа пополудни группа из тридцати экскурсантов, готовых разойтись кто куда, делали у дверей здания последние снимки Филипа Стентона, позировавшего с любым, кто просил его об этом, с женами и детишками, перед входом в музей, в котором он служил одновременно и памятью, и управляющим. Далекому потомку этой прекрасной истории так нужно было передать ее кому-либо.
Однако был среди туристов один, который не спешил уходить. Что-то не отпускало его от этой двери с гербом кованого железа.
«Донья Леонор».
Единственная тень на семейном фото, которое объединило бы (если бы оно было сделано) тысячу Сантандеров и Стентонов, умерших и ныне живущих, вокруг (если верить официальной версии) супругов — основателей семьи. Альваро и Леонор, связанные такой сильной любовью, что им захотелось поделиться ею, обратить ее в благотворительность, чтобы в эти жестокие времена помочь отверженным женщинам.
И тем не менее правда была совсем иная. И не из тех, что вдохновляют потомков.
Останки настоящей доньи Леонор покоились где-то в Кастилии, всеми забытые по милости некоего Альваро.
Это она носила прозвище Ла Сольтера, которое сегодня стало означать не «одинокая», а «единственная». Как не опечалиться, увидев ее дважды забытой? Как не воздать должное ее жертве? Единственный, кто мог поведать о ней сегодня, помнил Альваро сгорающим от стыда, когда тот рассказывал о причинах, побудивших его так поспешно завербоваться в армию, его — самого не геройского из солдат, одинаково трусливого в любви и на войне. Однако желание искупить свой грех сделало его щедрым и изобретательным, ибо именно призрак той Леонор дал ему силу для осуществления великого дела. Лицо именно этой девушки, соблазненной и покинутой, виделось ему, когда он закладывал первый камень своего здания. Центр доньи Леонор в Ла-Сольтере был плодом не любви, а угрызений совести, что не делало менее прекрасной его историю — историю человека, пытавшегося за тридевять земель от родного дома исправить допущенную им в прошлой жизни несправедливость. И тут следует вспомнить о его жене, которую он повстречал здесь и которая поняла и приняла причины, побудившие ее мужа посвятить свой дом другой женщине — той, кого он так и не смог забыть. Ценой самоотречения она помогла своему мужу построить этот центр на руинах утраченной любви, еще жившей в его сердце. Филип Стентон мог бы гордиться этим доказательством любви своей дорогой прародительницы.
Французский турист никак не решался уйти, несмотря на мольбы своей жены: во имя какой правды и по какому праву собирается он переиначить мораль истории, указавшей путь для целой цивилизации? К чему ворошить прошлое, которое на этот раз оставило прекрасное наследие и принесло такие прекрасные плоды? Разве, вызывая дух этой несчастной, можно посмертно воздать ей по заслугам? Пусть покоится с миром, добавила она, ее имя пережило ее, оно высечено на вратах и упоминается во множестве книг, оно вошло в легенды, сделавшие человека лучше, а могут ли быть посмертные почести прекрасней этих? Кого волнует истина, если эта истина противоречит здравому смыслу и ранит ни в чем не повинных людей?
Однако муж все же выпустил руку жены и повернулся к гиду: «Молодой человек, как бы ни звали вашу досточтимую прародительницу, но имя Леонор носила другая женщина, родившаяся и почившая далеко от этих мест».
Филип Стентон выслушал, не перебивая, новую версию семейной легенды, которую дважды в день рассказывал дисциплинированным и восхищенным посетителям, ни один из которых не озаботился исторической правдой. Альваро Сантандер, сердцеед, авантюрист без стыда, без совести — и вдруг раскаялся? Тосковал по какому-то призраку, оставшемуся на родине? Прапрапрапрадедушка был не тем, за кого его принимали? Всё, вплоть до школьных учебников, — сплошная ложь? Позор на всю династию? Филип надолго запомнит этого французского туриста, этого придурка, который так и не смог дать определенного ответа на просьбу указать источник своих сведений.
Если бы проблема состояла только в установлении истины, инцидент не имел бы никаких последствий. Во времена, когда конфликты необходимы для существования, у каждого есть в запасе какой-нибудь захудалый заговор для разоблачения.
Но в данном случае вопрос стоял главным образом о чести.
Стентону представился случай вновь стать Сантандером. Слово за слово, и они схватились врукопашную. Все сотрудники учреждения бросились на помощь патрону, который быстро сдавал позиции под натиском другой эпохи — грубым и безжалостным, лишенным мужского кокетства, движимым исключительно силой выживания, которую голыми руками не возьмешь. Поэтому охранник и вытащил пистолет, который имел при себе скорее в качестве фольклорного атрибута Дикого Запада, чем для использования по назначению. Тут и на спутницу француза нашло безумие — вполне понятное в этом месте, где тысячи женщин защищались от мужской низости. И судя по тому, как она кусалась и царапалась, урок был ею усвоен сполна.
Донья Леонор, Ла Сольтера, должно быть, радовалась на том свете, что из-за нее разворачиваются такие баталии.
*
Четырьмя днями позже, в Испании, один доктор исторических наук на основании двух неопровержимых документов положил конец тому, что отныне будут называть «спором о Ла-Сольтере». В регистрационных книгах монастыря Лас-Дуэньяс в Саламанке 3 апреля 1738 года была сделана запись о кончине некой Леонор Монтойя, проживавшей три последних года своей жизни при монастыре. Вечером накануне смерти она оставила длинное письмо-исповедь, в котором дважды упоминается имя солдата Альваро Сантандера.
Двум французам, объявленным в розыск федеральной полицией и укрывшимся в мотеле Бейкерсфилд, в восьмидесяти километрах от Ла-Сольтеры, было наплевать на то, что История признала их правоту. Им, измотанным тысячелетними скитаниями, любой ценой нужно было отыскать место, где они могли бы проснуться утром, не испытывая потребности бежать дальше. Перестать быть все время начеку — вот истинный покой. Достигнув совершенства в тонком искусстве выживания, они развили в себе чувство предвидения, сделавшее их подозрительными и раздражительными.
И они отправили Анне и Жилю, поселившимся в Квебеке, сигнал бедствия.
Вместо ответа им пришла фотография зеленого домика под красной крышей.
В восемь часов утра мистер и миссис Грин припарковали машину у понтона на берегу реки Святого Лаврентия. Пока она задержалась на минуту, надеясь, как всякий приезжий, увидеть, а может, и услышать кита, он поднялся по бревенчатому настилу к домику, окруженному трухлявым забором.
Это был даже не домик, а скорее лачуга с остроконечной линяло-красной крышей, в которой там и сям недоставало черепиц, равно как и досок в обшивке стен, некогда выкрашенных в зеленый цвет. Ничего, за несколько недель все это можно будет починить. Чем больше он смотрел на дом, тем отчетливее вспоминалась ему хижина в деревне, которую он когда-то построил своими руками и где они с женой должны были провести то, что им оставалось от жизни, а затем и умереть. Три ступеньки за калиткой вели к крылечку. Под одной из ступенек он нашел ключ, оставленный Анной и Жилем, жившими в двух шагах отсюда.
Прежде чем переступить порог, ему хочется постоять несколько мгновений рядом с женой не двигаясь. Интересно, испытывает ли она то же ощущение, что они достигли конца пути и что дальше им идти некуда?
Она обходит дом, заглядывая внутрь через мутные от грязи окна. Ей хотелось бы сказать что-то определенное по поводу этой достигнутой цели, но она только обращает его внимание на легкий запах плесени, который исчезнет, как только они разожгут камин. В одном они согласны: дом следует освежить, но он должен остаться зеленым — таким, каким они представляли его во время своей эпопеи, — чтобы сверкать издали, как изумруд.
Жестом она велит мужу замолчать, чтобы впервые прислушаться к доносящимся снаружи звукам — к этому безмолвию, нарушаемому лишь шумом ветра над рекой Святого Лаврентия, которое отныне будет принадлежать им.
Наконец-то они слышат его — безмолвие внешнего мира.
Правда, его нарушает далекое жужжание, еще неясное, но постепенно становящееся все более отчетливым.
Они едва успевают переглянуться, как шум обрушивается на них, раздирая барабанные перепонки. Порыв ветра приглаживает окружающую природу, живые изгороди гнутся, разлетается, зависнув на мгновенье в воздухе, забор.
Появляется вертолет, сметая лопастями с крыши последние, еще державшиеся красные черепицы.
Воют сирены, окружая влюбленных со всех сторон, но они не могут сдаться, они больше не имеют на это права. Они знают, что их ждет. После бесконечных допросов им зададут в конце концов единственный вопрос, на который у них нет ответа: из чего сделаны соединяющие их узы? Что за материал такой, над которым не властно время? Он что, совсем исчез с поверхности Земли? И где можно получить его — хотя бы унцию?
Их обвинят в присвоении всех запасов человеческих чувств, в том, что они виноваты в их остром дефиците, наблюдающемся на протяжении столетий, во всех земных бедствиях, из них сделают козлов отпущения, необходимых цивилизациям для оправдания собственных неудач, от них потребуют, чтобы они воспрепятствовали концу света. А узнав, что это не в их силах, их казнят, как это случилось уже однажды при дворе короля Франции и как поступают всегда с теми, кто приносит дурные вести.
Голос в мегафоне требует, чтобы они сдались. Они бегут к своей машине. За ними гонится десяток других. Одна поддает их сзади, другая подсекает на полном ходу, их заносит, машина летит по воздуху, сносит парапет и падает в реку.
Перед тем как поток накрыл их с головой, влюбленные назначили друг другу свидание. Ни тот ни другой не знали где.
Они столько сделали, чтобы о них позабыли.
Их желание будет исполнено.
На этот раз никому они оказались не нужны — ни на Земле, ни на Небесах. Во всей Вселенной не нашлось такой империи, которая имела бы глупость предоставить у себя место неукротимым влюбленным. Чтобы избавиться от них навсегда, их отправили в мир, о котором почти ничего не было известно, мир нематериальный и вневременной, одинаково пугавший любителей добра и носителей зла.
Мир, который никто не придумал, никто не воображал, мир, происшедший не по чьей-то воле, а совсем наоборот.
Эту удаленную территорию, недоступную какой бы то ни было форме желания, подыскала себе отрешенность, решившая обзавестись собственным государством. Одинаково безразличная как к свету, так и к хаосу, отрешенность знала, что она гораздо сильнее всех богов и дьяволов, вместе взятых. Те слишком были заняты своими непомерными замыслами и промыслами, тогда как она обладала высшей способностью к безразличию и во всякой вещи искала инертность. Перед столь могущественным врагом становилось ясно, сколько у добра и зла общего, сколько в них страсти, как они борются рука об руку с этой холодной бесконечностью, которой достанет силы, чтобы поглотить их обоих. Боги и дьяволы даже задумались над самым страшным для них вопросом: а существуют ли они на самом деле, или их создали люди, чтобы справляться со страхом, охватывающим их при мысли, что все на свете кончается, и кончается навсегда?
В этот мир попадали в самом-самом конце, после всех «после», когда были исчерпаны все продолжения, когда человек наконец смирялся с тем, что он исчезнет насовсем, без надежды на возвращение, исчезнет, и никакая жаба, никакая бабочка не снизойдут до того, чтобы оставить ему свою телесную оболочку, ибо после него ничего не останется, исчезнет даже его прах, и сам он исчезнет из памяти потомков, которые даже не будут подозревать о его существовании.
Если люди боялись этого царства небытия, то только потому, что носили его в себе. Они были способны на любовь и ненависть, но больше всего им нравилось забывать, показывать свое бесконечное равнодушие, полное отсутствие любознательности — это и был прообраз их участи после смерти, а вовсе не блаженство или смертные муки, которые им обещали.
Оказавшись в этом жерле небытия, влюбленные не чувствовали себя ни истерзанными, ни умиротворенными, из них вынули душу, и теперь их даже не волновала необходимость искать друг друга. Впервые не ощущали они той силы взаимного притяжения, благодаря которой они столько преодолели, они пребывали в состоянии немыслимой опустошенности, когда нечего больше желать, нечем больше дорожить, когда не страшно потерять кого-то, когда не боишься за него, за то, что он страдает, потому что там даже страдания были упразднены.
Ах, если бы они знали раньше, что есть такое место, они любили бы еще сильнее, еще больше дорожили бы друг другом, они умоляли бы себе подобных позабыть всякую бережливость, всякую осторожность, всякую подозрительность. Они узнали здесь — слишком поздно! — что наряду с Раем, где вознаграждаются щедрые и добрые, с Адом, где караются испорченные и циники, существует еще одно место, куда попадают те, кто боялся жить, рисковать, предпочитая не конфликтовать, а уступать, не поддаваться искушениям, а проявлять осмотрительность, не отвечать ни за что, а уходить от ответственности.
Для влюбленных, сгоравших от страсти, не пожелавших излечиться друг от друга и, несмотря на упорное желание устраниться из мира людей, научивших стольких собратьев, как не задушить свои желания под нагромождением приличий, это был просто предел. Оказаться в этом царстве забвения, в этом чистилище для нерожденных душ, — эти двое не заслуживали такого.
Лучше тысяча смертей, чем такой конец — без выводов, без смысла, словно все, что они прошли, пройдено впустую и ничто больше не сможет положить предела этому последнему пределу, ибо напрасно время пыталось подстраховаться вечностью: вечность неожиданно оказалась такой же ограниченной, как человеческое воображение.
Уже замедлилось биение их сердец, так что ударам можно было вести счет.
Настало время прощаться, прекратить сопротивление, раствориться, смириться с тем, что ничто после них не напомнит об их существовании, что об их похождениях не будут больше слагать легенды, что вся эта история была лишь сном.
Однако, прежде чем перестанут биться их сердца, они позволят себе последнее воспоминание.
Одно-единственное.
Но надо было поторопиться, поскольку их память разрушалась на глазах, от нее откалывались целые куски.
Первыми стерлись дурные воспоминания, и теперь оставались самые лучшие, самые верные.
Мальчик-дикарь с янтарной кожей протягивает миску с водой… Батрачка холодной ночью делится своим одеялом… Индианка прячет отчаяние за светлой улыбкой… Палач, замахнувшись топором, шепчет осужденным на ухо: «Вы ничего не почувствуете»… Монах радуется, что научил чему-то двух невежд… Незнакомец подносит в дар свежеиспеченный хлеб… Хозяин отдает незнакомке двух собак, зная, что без них ей не выжить… Умалишенный предпочитает свободу благоразумию… Двое стариков, позабывшие обо всем, кроме самого главного… Умирающий желает путнице долгой жизни… Художник рисует с чужих слов лицо, которого никогда не видел… Матрос распевает в шторм, чтобы победить свой страх… Тиран кается в том, что позабыл свой народ… Пленник братается с товарищем по заключению… Зрители в театре, проявляющие такой же талант, как и автор пьесы… Мать, потерявшая голову от благодарности к той, что сумела зажечь взгляд ее сына…
Но и эти воспоминания, стоило о них подумать, распадались на куски. И вскоре осталось лишь одно — самое светлое.
Первый взгляд, которым они обменялись в то утро, в лесной чаще.
И воспоминание это так упорно цеплялось за жизнь, не желая распадаться, что послышался стук — неожиданный, дерзкий.
Ибо как можно вспоминать этот миг без надежды на следующий и на все, что будут после?
И вдруг, посреди ничего, когда забвение уже готово было навсегда поглотить их, сердца влюбленных застучали вновь.
Удивленное этим неожиданным, но настойчивым контрапунктом Небытие побоялось, что может сдать позиции. И отправило их туда, откуда они явились.
Они очутились на пустой, мертвой планете, о которой говорили, что она была когда-то центром Вселенной, и поселились там, где когда-то пылало огнем ядро, заставлявшее ее вращаться вокруг своей оси и вокруг Солнца. Ничто и никто не сможет больше изгнать их отсюда.
Но, едва успев сплести объятия, они почувствовали под собой вращательное движение, внушившее им опасение, что их история на этом не заканчивается.

Героев двое — он и она — проклятые любовники, нежные влюбленные, готовые платить за чувство жизнью, и ни одна жертва не кажется им чрезмерной.
Через века, страны и континенты бредут эти гонимые Богом и людьми современные Паоло и Франческа. О них складывают стихи и баллады, бродячие актеры разыгрывают их приключения. Их путь навстречу друг другу пролегает через тропические джунгли, пустыню, болота, бескрайний океан.
Дворец тысячи и одной ночи сменяется лечебницей для душевнобольных, полицейский участок — идиллическим домиком в канадских горах.
ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ НОВАЯ КНИГА ТОНИНО БЕНАКВИСТЫ, яркого представителя современной французской литературы.
Примечания
1
Намек на одноименную пьесу Ж.-Б. Мольера (1661).
(обратно)2
«Рука моего родного брата, холодная, отчужденная, кажется мертвее моей собственной.
Рука моего лекаря только того и ждет, чтобы убедиться в остановке моего пульса.
Рука моего духовника ложится мне на лоб, словно в знак последнего причастия» (англ.).
(обратно)3
«Они не должны ничего знать о моем недуге. Странная жизнь! Слабость короля должна быть тайной» (англ.).
(обратно)4
Экорше (от фр. écorcher — «сдирать кожу») — учебное пособие, скульптурное изображение фигуры человека, животного, лишенного кожного покрова, с открытыми мышцами.
(обратно)5
Деревня (исп. pueblo).
(обратно)6
Спид-дейтинг (англ. Speed dating — «быстрые свидания») — формат вечеринок мини-свиданий, организованных с целью познакомить людей друг с другом.
(обратно)