Ольховатская история (fb2)
Ольховатская история
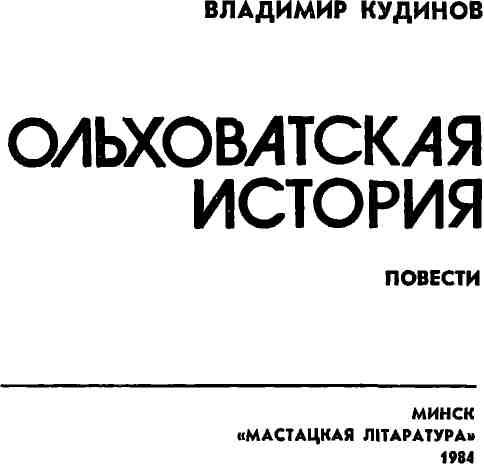
ОЛЬХОВАТСКАЯ ИСТОРИЯ[1]
1
Здесь, в Ольховатке, — молодом промышленном городе — у меня еще не было дела, подобного тому, ради которого я приехал сегодня на рассвете. Во всяком случае, хотя бы с внешней стороны.
Три недели назад — 30 июня — около полуночи у своего дома скончался от побоев, от обширного кровоизлияния в мозг гражданин Чигирь Денис Андреевич, пятидесяти четырех лет от роду, продавец магазина сельпо. Рядом с ним была обнаружена хозяйственная сумка, в которой покойный нес две буханки хлеба и три пакета гречневой крупы. Хлеб был втоптан в грязь, пакеты растерзаны ударами ног. Но в кармане Чигиря была обнаружена в полной сохранности дневная выручка магазина, которую он должен был сдать наутро в кассу сельпо, — полторы тысячи рублей и отчет за неделю работы. Чигирь жил на застроенной частными домами улице Кильдимовке, плохо освещенной, но достаточно оживленной — рядом находятся железнодорожный вокзал и автостанция. По всей вероятности, грабителю или грабителям помешали прохожие, хотя никаких свидетелей найти не удалось. Служебно-розыскная собака следа не взяла.
Первым на Чигиря натолкнулся его сосед, он же, сбегав на вокзал, вызвал милицию и «скорую помощь». Еще до прибытия опергруппы и «скорой» милиционеры, которые прибежали с вокзала, задержали первого подозреваемого, некоего Волосевича, который был навеселе, вертелся под ногами и все галдел: «Не имеете права трогать лежащего! Я пятнадцать лет отсидел и законы знаю!..» — то есть нес всякий вздор, выказывал суетливую предупредительность. Не имеете права бить лежащего — это, что ли, он хотел сказать? Волосевич раз и другой смахнул с милиционера фуражку, и его пришлось отправить с его «пятнадцатилетними университетами» в вытрезвитель. Там изъяли свинцовый наладонник.
Всю ночь на месте происшествия дежурил милиционер. Накрапывал дождь, и большой участок улицы пришлось накрыть полиэтиленовой пленкой. С восходом солнца провели фотосъемку, осмотрели каждый клочок земли, провели биологическую экспертизу — здесь же, в Ольховатке, и отправили образцы в республиканский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, по слепкам со следов установили размер, фасон и фабрику-изготовителя обуви, в которой тут прошли последние пять-шесть человек, по окуркам — группы крови прохожих и выполнили многое другое, огласка чего покамест нежелательна, потому что составляет профессиональную тайну.
До семнадцатого века в Венеции казнили за выдачу секретов производства стекла. Сейчас на этот счет можно с недоумением и иронией улыбаться, хотя в свое время многим венецианцам было не до улыбок. Ну а здесь, понятно, случай другой, мне просто ни в коей мере не хочется ни на грош поспешествовать преступнику, почитывающему на досуге детективные повести, в его черной работе и усложнять работу свою. Я только могу сказать, что при современном уровне развития криминалистической мысли и техники ни одному из них от возмездия не уйти, и это ясно как божий день, человек — не сверхъестественное существо и всегда оставляет какие-то следы. Все дело во времени.
Дело во времени, но время, увы, не только наш союзник. Потому что за каждый день, что гражданин преступник проводит на свободе, он предъявляет нам счет. И счет печальный.
Хотя со дня гибели Чигиря прошло уже три недели, утверждать, что расследование зашло в тупик или топчется на месте, было нельзя. Эта история оказалась крайне путаной, и ольховатская районная прокуратура и угрозыск, насколько я мог судить по их отчетам по возвращении к себе в область из командировки в Якутию, выполнили большую предварительную работу в различных направлениях. Подозрения насчет Волосевича отпали сразу же — тот сидел в привокзальном ресторане до самой кончины Чигиря. На смертельной ране экспертиза обнаружила следы металлизации, но это не были следы от ударов свинцовым наладонником. И, кстати, никаких пятнадцати лет он не отбывал, покамест два года да после этой истории — пятнадцать суток.
Так вот, отпала версия с Волосевичем, и на руках у нас осталось… на руках осталось более десятка версий других…
В гостинице меня встретила заспанная дежурная и табличка «Мест нет».
— Но для меня должны были забронировать номер, — сказал я.
Дежурная недоверчиво посмотрела на мое удостоверение, покосилась на захваченные про запас зачехленные рыбацкие снасти.
— А-а, — поймал я ее взгляд. — Это — для выходных дней. Или, что же, следователям и выходных не положено?
— У нас что ни командировочный, то и рыбак. Отметит командировку — и на озера, — проворчала дежурная. — Куда только начальство смотрит?
Я устроился в номере, побрился и ополоснулся с дороги и пошел перекусить. Неподалеку, за углом, я знал довольно-таки уютное местечко, там в эту пору — в восемь утра — не приходилось подолгу выстаивать в очередях.
Но сегодня, к моему огорчению, народу в кафе-закусочной оказалось предостаточно. Я терпеливо дождался очереди к кассе, потом — к раздаточному окну и с подносом в руках стоял посреди крохотного зала, не зная, где примоститься.
У двери, за высоким столиком, облокотись на серую, под мрамор столешницу, оживленно переговаривались двое молодых людей. Поскольку перед ними ничего еще не было, я подумал, пока их товарищ выбьет чеки, то да се, я управлюсь со своими сосисками и кофе.
— Занято, — тотчас сказал один из них, впрочем, даже не взглянув на меня.
— Но я, быть может, успею…
— Тебе же, парень, сказали: занято — значит, занято, — веско сказал второй.
Мне за сорок, но говорят мне, старшему следователю областной прокуратуры Дмитрию Васильевичу Скоморохову, это «парень» довольно часто, разумеется, если я не «при параде», не в форме работника прокуратуры; говорят даже девушки, к неудовольствию жены. Просто я сухощав, и вид у меня моложавый. Особой неловкости я не испытываю, меня от этого не убудет, работе не вредит, напротив, подобная неброская несолидность, что ли, только на пользу.
Да, но делать нечего, надо поворачивать оглобли.
Здесь ребята обернулись на дверь, в которую торопливо, боком, входил новый посетитель, очевидно, тот, кого они ждали, и на столе, словно в иллюзионе Кио, появились стаканы. У этого третьего под пиджаком отдувались карманы брюк.
— Свисток, вбрасывание, — сказал один из парней, воровато свернув с бутылки зеленую пробку и разливая ядовито-красное вино по стаканам.
— С восьми утра ударяем по струнам, — сказал я, чувствуя, как предательская краска заливает лицо.
— А тебе-то что за дело? Каждой бочке затычка? Или своего рубля нет?
— Ошибаетесь. Это как раз и есть мое дело, — Меня подтолкнули, и по подносу стала расползаться лужица кофе.
Я пошел прочь, злясь и на себя, и на этих ребят и не желая слушать невнятного бормотанья насчет того, что «мы потихоньку», «давно не виделись», «мы хорошие» и так далее.
Ну-ну, сказал я себе, не скоморошничай, Скоморохов, разошелся, как купчихин самовар, распустил нервишки.
Нашел, где выдрючиваться.
За угловым столиком завтракали три девушки, и одна из них, в красном ситцевом платье, уже вытирала губы салфеткой. Я направился к ним.
При моем появлении девушки, о чем-то разговаривавшие, умолкли.
— Простите, — буркнул я и поспешил уткнуться в тарелку.
Кончала свой завтрак и другая, тоже тоненькая и высокая, точно в таком же красном ситцевом платье, из чего я заключил, что первые две — близкие подруги. А третья, чрезвычайно полная, была в гипюровой кофточке, сквозь которую просвечивали призатопленные розовые бретельки, и по обилию тарелок перед нею с капустным салатом, сардельками в горчице, черным хлебом и кремовыми булочками я понял, что человек либо назначил себе разгрузочные дни и исподволь к ним готовится, либо уже отказался от бессмысленной затеи. Бедняга, подумал я, небось еще и курит, чтобы сбить аппетит.
Я крепко помешал их беседе и, всячески стараясь напустить на себя отрешенность, стал глядеть в окно. Толстушку прямо распирало от любопытства, я не мог не заметить этого даже боковым зрением.
— Неужели Таня отказала Толику? — громким шепотом сказала она. — Такая была любовь, аж завидки брали… Через три дня хотели ж играть свадьбу…
Подруги в красных платьицах промолчали.
— И почему она примчалась к нему среди ночи на ТЭЦ, вызвала на проходную?..
— Это только у тебя, Машка, все легко получается. Выскочила за своего Володеньку, не дождавшись восемнадцати.
— Стыдно признаться, — хихикнула толстушка, — я ж была в положении… — Она передавила вилкой сардельку пополам, из-под вилки брызнул горячий сок. — А что она сказала?
— «Ты не знаешь, что случилось со мной… На меня напали…»
— А он?
— «Если тебе трудно говорить, то не надо. Я ничего не хочу знать…»
— А она?
— Твердила одно и то же: «Ты не знаешь, ты не знаешь!..» И плакала.
— А он?
— Мы больше ничего не знаем, Машка. — Подруги в красном отвечали попеременно и с явной досадой. А досаждал, наверное, им я, совсем необязательный, по их пониманию, за этим столиком человек. — Мы встретили Толика около кафе, он сам ничего не понял. Отпросился сразу же на работе, побежал за нею на квартиру, поднял весь дом, а хозяйка сказала, что Таня уехала несколько дней назад в отпуск и с тех пор не появлялась.
— Она же поехала в деревню готовиться к свадьбе, — сказала толстушка.
— Ну да.
— А этой ночью почему-то оказались в Ольховатке, на велосипеде, и с нею что-то случилось. Заехала к Толику — и опять уехала, — предположила толстушка.
— Да так выходит… Ты сколько теперь весишь?
— Стыдно признаться, — вновь хохотнула Машка, — девяносто шесть. А молока, девочки, у меня совсем мало, — шепнула она доверительно. — Знаете, бывают мясо-молочные коровы, а бывают только мясные.
Я в смущении допивал свой кофе. Ей-богу, лишь люди Машкиных форм могут быть такими милыми простофилями.
— Послушайте, — ахнула она, — а может, на Таню напали «маски»? — Толстушка никак не могла оставить прежнего разговора.
— Кто их знает…
— Что же теперь делать, девочки?..
Я вышел из кафе и, закурив, остановился возле газетного киоска, принялся рассматривать обложки выставленных здесь книг и журналов. Я ждал девушек.
Наконец они появились. Машка дожевывала на ходу булку.
Я прошел за ними до городского почтамта. Убедившись, что они работают именно здесь, — Машка сразу же села к окошку приема телеграмм, по-хозяйски сгребла и сдвинула в сторону заполненные бланки, навела свой порядок, — я поторопился в районную прокуратуру.
— Прикатил, голубчик, — бесцветным голосом встретил меня Михаил Прокофьевич Варивода, вставая навстречу и гремя стулом. — Эти преступнички, знаешь, житья не дают, — ворчливо пожаловался он, кивнув на стопку рыхлых и тонких дел. — Не могут безобразничать там, где следователь помоложе, чтоб им ни дна ни покрышки. Из-за них я на старости лет рыжик от поклевки леща уже не отличаю. Говорю как на духу, истинную правду, поскольку знаю об уголовной ответственности по статье сто семьдесят седьмой УК за дачу заведомо ложных показаний…
В его голубых добрых глазках мелькнула ирония, но простоватое круглое лицо оставалось деланно непроницаемым. Я любил старого чудака и всегда был рад встрече с ним. Мы обнялись.
Варивода работал следователем ольховатской прокуратуры уже без малого тридцать лет и, несмотря на то, что возился-то он все эти годы в основном с народцем пакостным, оставался добродушнейшим человеком. Каждый новый день он принимал как благо и говорил, что по утрам его все же реже будит телефонный звонок о ночном ЧП, чем петух, самое жизнелюбивое существо на свете.
Михаил Прокофьевич прошел всю войну, «прошел пехом и прополз на брюхе пол-Европы», толкал в танкоопасном направлении или волочил за собою пушчонку сорок пятого калибра, шагал с минометным стволом на спине. Под Ленинградом, в Синявинских болотах, когда он, сваленный смертельной усталостью, спал под кустом, в его изголовье упала мина, но не разорвалась. И не разбудила, хотя и выдернула из-под головы плащ-накидку. Тогда на переформирование уезжали в двух теплушках — одна была штабной, вторая — для личного состава бригады. Для шести тысяч его товарищей по бригаде теплушек уже не потребовалось… Под Белгородом, потеряв и орудие и расчет, вел корректировку огня из подбитого танка. Немцы заметили это и танк подожгли. Варивода обгорел, едва не лишился ног — наотрез отказался от ампутации, и на этот раз пронесло… Под Сандомиром немецкие снайперы держали его целый день за кочкой посреди голого луга… «Я давно уже, Митя, живу лишнее на земле, — сказал однажды Михаил Прокофьевич, — мне положено было остаться еще в болотах Синявина. Так что совестно ныть по пустякам…»
Резонно предположить, что такой человек, как Михаил Прокофьевич, жил в окружении шумного выводка детей и внуков, что по его двору бегали дворняжки в репьях и в саду по вечерам хлопотала у самовара «матушка», хозяйка дома.
Но жил Михаил Прокофьевич в казенном деревянном доме на две семьи, всей живности было кошка, петух да куры, «матушка» до недавнего времени преподавала в начальной школе, а единственный сын плавал на БМРТ в Атлантике. Сын был «маркони», «агусик», то есть радист на «пароходе», и вместо писем слал длинные телеграммы, в основном к праздникам. Жениться пока не собирался, подводил материально-техническую базу — строил под Одессой кооперативную квартиру и копил на «колеса»; в Ольховатке не был уже года полтора. После последнего его приезда в родительском доме на стенке остался висеть громадный лангуст, покрытый лаком. «Бездельник, — говорил Михаил Прокофьевич про сына, — шалапут безродный… Мне бы сюда вот каких вот белоголовых парочку, — он не доносил руку на два вершка до пола, — до смерти, Митя, внуков хочется. Хоть бы из Новой Гвинеи, что ли, невесту привез… Когда я вижу таких детей, то понимаю, что мир небезнадежен… Парочку бы белобрысых — и сразу же на пенсию бы вышел, хай с этими преступничками возится кто помоложе. С тоски вон — видишь? — пузо наел, к рождеству колоть можно…»
Рядом с лангустом красовалось ружье — курковая «тулка» довоенного производства, с длинными стволами, и, верно, хорошим боем, весившая, пожалуй, как ротный миномет. Но на охоте Михаил Прокофьевич не был, по-моему, тоже лет тридцать.
На столике стояла гармошка, старая непритязательная трехрядка — вот ее-то Михаил Прокофьевич брал в руки довольно часто. Большеротый, большегубый, с большими оттопыренными чуткими ушами, он подпевал чистым, очень приятным басом своей звонкоголосой жене. «Летят утки и два гуся» — что за прелесть была эта песня в их исполнении!..
— Ну что, глянешь? — сказал Михаил Прокофьевич, шлепнув пухлой ладонью по папкам с делами, принятыми им к производству и мне не известными.
Я кивнул: сперва надо познакомиться с положением вещей в целом по району.
Сверху лежало дело о хищениях в ольховатском рыбхозе. Так, так, понятно: карася можно не кормить, карасю что — водички попил и будь здоров…
Следующее дело — несчастный случай с тяжелым исходом в «Сельхозтехнике»…
Дело о краже велосипеда…
Дело по обвинению в халатном отношении к охране аптеки — украдены кодеин, ноксирон, теофедрин, трава термопсиса, шприцы, иглы…
Как следствие предыдущего — по обвинению некоего Шаталова в ограблении аптеки…
Дело об угоне несовершеннолетними двух мотоциклов, ограблении столовой и киоска «Союзпечати»…
Снова о краже велосипеда…
Дело по обвинению гражданина Кирпичникова — справляя свадьбу в доме невесты, подвыпив, увлек невестину подругу на чердак; невестина сторона подала на немедленное расторжение брака и предъявила бывшему жениху счет за разбитую японскую посуду: пока за столом весело горланили «Погибнешь ты, дева, в день свадьбы своей», пока пели «Вот тронулся поезд — и рухнулся мост», — «рухнулся» потолок вместе с гражданином Кирпичниковым и невестиной подругой, теперь уже тоже бывшей…
М-да, матерь божья, чем только не приходится нам заниматься!.. И вот что неожиданно пришло мне в голову. Бегло перечислив эти разнохарактерные дела, я словно бы вывернул ушат помоев. Но посудите сами. Разве идя, предположим, центральным минским проспектом где-то в районе политехнического института, в котором, кстати говоря, обучаются около двадцати пяти тысяч студентов, — то есть, попав в густой поток людей жизнерадостных, легких на ногу и на сердце, не соблазняемся ли мы хоть на мгновенье мыслью, что и все человечество так же молодо и сплошь безбедно? А неподалеку вдобавок радиотехнический институт, театрально-художественный, институт физкультуры, техникумы, студенческие и рабочие общежития, бассейны и стадионы, и день над землей разлит немеркнущий… Но, перейдя тот же проспект напротив того же политехнического, за широкими воротами и стеною посадок попадаешь на территорию одного из крупнейших белорусских больничных городков и помимо воли думаешь, как много места в жизни занимают болезни, страдания, и шум города глохнет в кустарнике и лабиринте больничных корпусов… Просто все относительно, как ни банально это звучит.
Ну да ладно, в этих делах Михаила Прокофьевича почти все, кажется, очевидно, здесь как у людей, не хуже и не лучше, и скоро все будет передано в суд.
Что же касается расследования обстоятельств убийства Чигиря, то оно уже распухло до двух толстых папок, или томов, как принято у нас говорить. Дело о Чигире лежало отдельно и было особой нашей тревогой, болью, — и Михаила Прокофьевича, и моей…
В приказе на командировку говорилось, что старший следователь областной прокуратуры, младший советник юстиции Скоморохов Д. В. направляется в город Ольховатку для оказания практической помощи следователю районной прокуратуры юристу 1-го класса Вариводе М. П. Формулировка приказа стандартна, она могла задеть разве что самоуверенного мальчишку, но не Михаила Прокофьевича, одного из опытнейших наших работников. Хотя в действительности дел у него было побольше, чем у других, город стремительно рос, и тут грешно отказываться от помощи. Но главное, конечно, — это Чигирь. В Ольховатке совершено тяжелое преступление. К подобным расследованиям всегда подключается область, а нередко — и республика. Если же говорить совсем уж коротко, — расследование по делу об убийстве человека надо кончать.
Я сказал Михаилу Прокофьевичу, что мне полезно будет пройти по уже хоженным им тропам, и он согласно кивнул. Мы часто прибегаем к повторным беседам со свидетелями, а с подозреваемыми тем более, допросам тут несть числа, и всегда всплывает что-то новое, то, что люди по наиву считают безделицей или же хотят скрыть, но проговариваются. Можно предварительно выучить свои показания, свою легенду наизусть, но нет человека, который спустя некоторое время хотя бы в малом не противоречил бы себе. И как знать, что за этим малым может крыться.
Ко всему прочему — свежий глаз, новая струя, иное поведение людей при беседе с другим следователем.
— Михаил Прокофьевич, — сказал я, — что это еще за «маски» объявились в городе? В милицию какие-либо заявления поступали?
— Нет, братка, — вздохнул Варивода, — не несут заявлений — и точка. Дело очень щекотливое, если верить слухам.
— И давно эти слухи?
— Наверное, с месяц.
— Что же говорят?
Варивода помедлил с ответом, стул под ним тоскливо заскрипел.
— Будто бы два негодяя, — сердито сказал Михаил Прокофьевич, — будто бы два негодяя, напялив черные тряпичные маски, измываются, знаешь, над женщинами в темных углах. Рассказы разноречивые, но обязательно мерзкие. Конечно, без фантазий тут не обходится, у страха глаза велики, хотя, по всей видимости, недавно одна беда приключилась в районе Стрелецкой слободы. Милиция прошла с подворным опросом, но без толку, никто из жителей ничего определенного сказать не смог. А вот история расползлась с подробностями. Возможно, пострадавшая под большим секретом поделилась с близкой подругой, та — опять же под большим секретом — с другой подругой, и пошло-поехало. Услыхав от тети Даши, я сам пошел к тете Паше, которая ей это поведала, от тети Паши — к Вале, от Вали — к Гале… Я уже ходил, не думай, но пришел в тупик, из которого, хоть тресни, одна дорога — назад. Не нравится мне эта история, братка, уж очень похожа на правду. Стыдятся, видно, признаваться, боятся огласки. Кстати, ты-то от кого и что успел услыхать?
Я передал ему нечаянно подслушанный разговор девушек в кафе.
— Маша-растеряша с телеграфа, — пожевал Михаил Прокофьевич толстыми губами, — знаю, во втором тяжелом весе, как Варивода. Если тут замешаны «маски», это уже след. Я позвоню Борисевичу, чтоб деликатно походил вокруг девчонок кругами, он умеет.
Майор Борисевич был начальником угрозыска района. И он умел, я это знал.
— Да, малоприятные известия…
— А разве у нас бывали «приятные» дела? Мы ж не газетчики, специализирующиеся по показательным колхозам… А ведь ты небось порыбачить надеялся? Удочки привез?
— Я их почти всегда с собою таскаю. Последний раз рыбачил, знаете где?.. На Колыме — туда от меня сбежал гражданин преступничек. Я выловил его, а потом и тайменя. Так это ж было год назад…
— Порыбачишь и у нас. Дело сделаем — и порыбачим. Еще и улицу в Ольховатке твоим именем назовем.
— Слишком много подобных улиц наберется по стране, взвоешь от однообразия.
Мы помолчали.
— Ты, наверно, сначала полистаешь? — показал Михаил Прокофьевич на тома о Чигире.
— Само собой.
— Будь другом, пройди в кабинет помпрокурора. Там никого сейчас нет. Я вызвал одного хунхуза на допрос, так он явился. Уже в щелку заглядывал. Для него ж это — как для первоклашки укол в задницу: и страшно, и стыдно, и прихвастнуть перед дружками будет чем, и поскорее бы кончилось.
Прихватив папки, я направился к двери.
— Насчет машины-то похлопотать?
— Пока нет. В первый раз хочу съездить в Лукашевку примерно так же, как ездил Чигирь.
Магазин, где работал покойный, был в деревне Лукашевка, в тринадцати километрах от города. Туда часто ходили автобусы.
— Ну, валяй, — разрешил Варивода.
В коридоре маялся парень лет семнадцати, одетый в легкую пеструю рубашку польского производства и джинсы — тбилисского. Непроизвольно, в считанные секунды (такова уж сила привычки) у меня в голове сложился достаточно полный словесный его портрет. Но я не стану пересказывать и утомлять вас, такой портрет покажется вам скрупулезно профессиональным, и оттого — скучным: если обыкновенный человек различает около двух тысяч запахов, то натренированный — положим, специалист-парфюмер — десять тысяч… Так и у нас.
На парня я глянул мельком, он же глядел во все глаза. В них жили испуг и любопытство. Но я его, впрочем, нисколько не заинтересовал — что поделаешь, непредставительный ты человек, Скоморохов, ни гордой посадки головы у тебя, ничего другого подобного; парень был весь устремлен за дверь, ведущую в кабинет Вариводы.
Пока неважные дела твои, хлопец, подумал я, да поможет тебе бог. А он поможет, если только ты, не обессудь, ни в чем не виновен…
Спустя час я шагал к автостанции. В Ольховатке, как в большинстве наших новых городов, она расположена рядом с железнодорожным вокзалом. Там же была и улица Кильдимовка, на которой жил Чигирь. Дело я забрал с собою, нес в портфеле вместе с портативным магнитофоном. У меня на сегодня много встреч, Михаил Прокофьевич заранее предупредил нужных людей повестками. К старику заходить я не стал, чтоб не помешать его беседе с парнем. Бывает, ты часами, днями бьешься с допрашиваемым и все напрасно, все ускользает он из рук, и вот вдруг «поплыл», вдруг сказал нужное тебе слово правды — и тогда забудь о себе, об урчащей пустой утробе, об отдыхе, о папе с мамой, потому что спустя каких-нибудь десяток минут человек может вновь замкнуться, может отрицать то, что говорил. Называет какие-либо имена — не теряй времени, тут же вызывай этих лиц на очную, и думай, думай, сукин сын, думай до изнеможения, до одури, восстанавливай в памяти прежние показания, извлекай из них корни, бери логарифмы, тангенсы, сопоставляй. «Твои показания?» — «Да». — «Смотри, что ты говорил неделю назад. Читай. Вслух читай!..» Вслух — это чтоб не лазал глазами по остальному тексту…
Я сразу увидел дом Чигиря, знакомый мне по снимкам, добротный дом под зеленой крышей. Фронтон украшал символ солнца — круглый сосновый срез и лучи, выкрашенные в желтый цвет. Резные наличники были белыми. За забором у калитки был колодец, аккуратная дорожка, выложенная бетонными плитками, вела к крыльцу. За домом стоял хлев, у которого умиротворенно квохтала мама-курица и попискивали ее детки — с десяток утят. Еще дальше был яблоневый сад. Город развивался противоположной своей окраиной, там были заводы и новые микрорайоны, здесь же все оставалось почти без изменений. Я бы сказал, что на Кильдимовке сохранялись покой и тишина, нарушаемые лишь глохнущими в садах свистками маневровых тепловозов, редкой машиной или мотоциклом, не случись на ней того, что уже случилось.
Мне еще предстоит зайти в этот дом и, возможно, не раз, встретиться с женой Чигиря Анной Максимовной и его дочерью Ларисой. Но пока идти не с чем, обойдемся теми показаниями, которые получил Варивода. Чего ж докучать людям, от твоих соболезнований легче не станет. «Где ж вы раньше-то, раньше где были?» — не знаю, кого как, но меня этот немой упрек преследует постоянно.
А где я был — летал в Якутию, мотался по междуречью Алдана и Амги, искал очевидцев преступления, сбежавших на рудники, брал «интервью»…
Анна Максимовна последние годы возилась по хозяйству, теперь же вернулась на «железку», устроилась кондуктором. Лариса окончила десятилетку — последний экзамен сдавала в тот несчастный день. Прибежала домой веселая и смущенная, что ни говори, а поворот в жизни грандиозный, — отец, как всегда, был на работе, он возвращался либо предпоследним автобусом, в половине одиннадцатого вечера, либо последним, около двенадцати, — наспех поела, сбросила школьный фартук, переоделась в цивильное, губки подкрасила — и гулять, к подругам, к танцам, к ночи над рекою и рассвету, к легкому вину (сегодня ведь можно, сегодня ведь немножко разрешается!.. Вот, кстати, одна из версий, разработанных Михаилом Прокофьевичем, — десятиклассники, потерявшие голову сопляки, за здорово живешь, просто так…).
Лариса собиралась поступать в ольховатское медучилище, а здесь это горе, все враз пошло прахом, жизни пришел конец. И тогда вмешался Михаил Прокофьевич — настоял на подаче документов в училище, а к директору обратился с официальным письмом: у Ларисы Чигирь, вашей абитуриентки, душевная травма, прошу зачислить вне конкурса, при успешной сдаче экзаменов, разумеется. И отнес письмо сам, вручил директору, старому приятелю, глянул ему в глаза. Это он говорит всем «ты», а писать пишет «вы».
Сам Денис Андреевич Чигирь. Жизнь оборвана на пятьдесят пятом году. Фронтовик, пехота, четыре ранения, контузия, семь солдатских медалей. После войны слесарил в депо, но по состоянию здоровья — острый ревматизм и осложнения на сердце — вынужден был искать работу полегче. Был кладовщиком на торговой базе, весовщиком на станции, продавцом книжного магазина. Год назад получил приглашение от заведующей магазина сельпо Ермолик и перевелся в Лукашевку старшим продавцом. Человек безобидный, и стар и млад говорили ему «Денис», территориальных войн с соседями не вел, чужим курам, проникающим к нему в огород, головы не откручивал. Словом, на Кильдимовке поперек дороги никому вроде бы не становился, не пробегала между ним и кем-либо кошка.
Я медленно прошел улицей в сторону вокзала, узнал место, где все это произошло, постоял и направился к автобусу.
Рейс на Лукашевку был через полчаса. Я взял билет, пересек хорошо знакомую мне площадь и по ступенькам поднялся в здание железнодорожного вокзала. Так, сказал я себе, станционный ресторан работает до двух ночи, значит, спиртное можно выклянчивать практически до трех. Ни одно питейное заведение города не закрывается столь поздно. Это обстоятельство может оказаться немаловажным для следствия. Ведь девять из десяти тяжких преступлений совершаются именно нетрезвыми.
Ежедневно в половине двенадцатого через Ольховатку проходит пассажирский поезд из Москвы. Стоянка — тридцать пять минут. За тридцать пять минут вполне можно успеть оставить в ресторане рассудок, увязаться между делом за Чигирем — а именно в это время тот приехал автобусом из Лукашевки, — походка, скажем, что-то мне твоя, дед, не нравится или почему ты, высокий блондин, не в черном ботинке? — и жестоко избить его, вернуться в вагон, опять завалиться на полку баюшки. Вот еще одна версия, пожалуй, наименее правдоподобная, но все же… Мы не вправе оставлять без внимания ни единого возможного хода, и если все произошло как-то похоже, ни один следователь нам не позавидует.
Я уже обмолвился, что при Чигире оказалась крупная сумма денег. Мне приходилось заниматься делом по характеру расследования примитивным донельзя, с точки зрения уголовника — абсурдным, рисковать, мол, «вышкой» — так было бы за что, но из ряда вон жестоким — пьяный тракторист, у которого на круг выходило две с половиной сотни в месяц, вздумал поживиться капиталами одинокой старухи-хуторянки, подрабатывающей на самогоноварении, порешил из-за шести рублей человека… Здесь же речь идет о полутора тысячах. Стало быть, все основные дороги вели в Лукашевку, где об этих деньгах знали, где вручили их под расписку. И по Лукашевке Михаилом Прокофьевичем было разработано немало версий, у нас будет случай скользнуть или пройти по ним, а какая изо всех не уведет нас вкось, — посмотрим. Словом, версий у нас обычно бывает больше, чем было стульев у Бендера с Воробьяниновым.
Я подосадовал, что не спросил у Вариводы о часах работы лукашевской чайной, здесь же спрашивать было неловко, и направился в буфет запастись на всякий случай бутербродами, каким-нибудь «дорожным пакетом».
2
Вдоль узкой дороги, мощенной булыжником, от самой Ольховатки зеленели непролазные посадки молодой сосны. Потом впереди показался старый темный лес. Но когда подъехали ближе, я увидел, что это вовсе не лес, это кладбище, обнесенное стеною из тесаного валуна. Было похоже, что теперь хоронили где-то в другом месте — надгробия были давнишней работы. Среди деревьев, возле ворот, мелькнула бело-голубая церковка. На высокой плите, внезапно высвеченной для меня солнцем, я увидел серого кота, который непостижимо спокойно сидел себе и умывался — пророчил гостей… И сразу же за кладбищем потянулись дома Лукашевки.
Наш запыленный снаружи и изнутри ПАЗ развернулся на площади и приткнулся к бетонному навесу, автобусной остановке. Площадь была образована стороною сквера, магазином, где одновременно торговали и продуктами, и промтоварами, сюда же выходила аптека, парикмахерская и чайная (небось «борщь с вежей капустой»). Я скользнул взглядом по прибитой табличке — чайная открыта до восьми вечера — стало быть, жизнь моя будет несколько облегчена, я ж не праздным туристом заворачиваю в Лукашевку, и не час, не день проведу здесь. Наверно, удастся испить и натурального молочка, летом в сельских чайных оно обычно.
На столбе гремел репродуктор, из чего я заключил, что в сквере певчие птицы не селятся, вытурили и зяблика, и скворца, даже грач летит стороною, а жаль. Воробьи, вон они, прыгают на дороге — прилегающая улочка называется по старинке Золотаревской, а по ней хороший конь недавно прошел, ночью овес конь жевал — веселым чирикающим голодранцам все нипочем или это лишь кажется?.. В открытую калитку вышел лохматый пес «дворянской» породы, по имени Шарик или Волчок, сел в пыль и, перебирая передними лапами, прочертил задом полосу поперек дороги. Потом встал, засеменил по улице, свернув кольцом хвост, — с кем бы обнюхаться, с кем подраться?..
Но что у нас там со временем?.. Без четверти двенадцать. Значит, в запасе еще полчаса — через полчаса в сельсовет на беседу (правильнее, — на допрос, но вот хоть убей — не люблю я этого слова) придет ко мне Марина Аркадьевна Ермолик, заведующая магазином, в котором работал покойный, затем — Тамара Киселева, молоденькая продавщица, за нею — сторож магазина Куницкий, потом экономист колхоза Тимофей… фамилию подзабыл, овощная фамилия, то ли Бурачок, то ли Редиска, ну да на первый раз простительно, к тому же есть она у меня, эта фамилия, повторена в протоколах неоднократно, затем после короткого перерыва на обед должен прийти шофер колхоза и, наконец, братья Филипповы, один из них — учащийся ольховатского ГПТУ, возле которого, кстати, жил Чигирь, а второй давно не учащийся, но и не работающий — свидетели по делу, а может, и не только свидетели…
Кроме того, надо будет потолковать с председателем исполкома сельсовета Колоколовым и уже вечером, в ольховатской КПЗ — с Гуриным, трактористом местного колхоза, осужденным за хулиганство и ныне ожидающим этапирования, но, возможно, имеющим к нашей истории самое непосредственное отношение. Словом, дел по делу невпроворот.
Но время пока терпело — в том смысле, что до начала бесед оставалось полчаса, — и я заглянул в магазин. За продуктовым прилавком, там, где прежде работал Чигирь, стояла пожилая женщина неброской внешности. Чувствовала она себя несколько стесненно — конечно, новенькая, да к тому же оказалась на месте погибшего, да такая каша не разбери-пойми…
А за штуками ткани, перед стеллажом, заваленным туфлями-сапогами-пинетками-сандалетками, скучала юная крашеная блондиночка с длинными ресницами, в синем подрубленном халатике, прикрывающем крепкие стройные ноги разве что символически, — несомненно, Тамара Киселева.
Покупателей было мало, вся торговля шла во второй половине дня, почему магазин до недавнего ЧП закрывался около десяти вечера (вместо девяти по расписанию), когда народ возвращался с ферм и полей, из Ольховатки, когда «добавляет» и прочее; да и зарплата по утрам нигде не выдается.
Тамара равнодушно скользнула по мне взглядом, села на табурет, закинув ногу на ногу, стала глядеть в окно, и, признаться, я понял, отчего молодые люди ищут с нею знакомства, голову теряют. В день гибели Чигиря к ней прикатили из Ольховатки двое парней, потом сходили в чайную и вновь вернулись, промаячив около магазина в общей сложности полтора часа. Сами понимаете, что здесь кроется еще один ход… Но, впрочем, обо всем по порядку, не то мы с вами завязнем, как в смоле, запутаемся вконец.
Я без труда нашел сельсовет, где меня уже поджидали председатель Колоколов Василий Николаевич — дядька в годах, крупный, с мясистым лицом, в очках, поднятых на лоб, в льняной прохладной тенниске, и «деревенский детектив» участковый инспектор Полозов Иван Иванович — белозубый малый лет тридцати, мой лукашевский помощник, так сказать, — офицер связи.
— Такая беда, пним, а они себе разгуливают на свободе, водку пьют, пним. И все же вы надеетесь раскопать это дело?
— Надеюсь, — отвечал я, озадаченный странным словом «пним», которое Василий Николаевич произносил совершенно невнятно, как бы пробрасывая его и стыдясь перед незнакомым человеком. Потом уже, с которой попытки, догадался, что это «пним» просто-напросто трансформация слова «понимаете» — без окончания, с единственной гласной.
— Располагайтесь у нас свободно, — сказал Василий Николаевич, — водичка вот в графине, телефон, пним, если что… А пообедаем, может, у меня? — И он взглянул на Полозова, на Ивана Ивановича. Тот смущенно пожал плечами.
— Да у вас чайная небось экстра-класса? — шутливо возразил я, большой нелюбитель стеснять людей.
— Ну посмотрим, посмотрим, — сказал Василий Николаевич и ушел, по-прежнему неся очки на лбу, как забойщик-стахановец на довоенных плакатах — лампочку.
Полозова я тоже отпустил — надо было на всякий пожарный случай обойти всех вызванных, и с минуту на минуту должна была появиться Ермолик.
Вот первые показания, которые она дала Вариводе, сейчас самое время вспомнить:
«30 июня хорошо шла выручка, поэтому работали почти до одиннадцати вечера. Потом закрыли магазин, сдали сторожу. Как обычно, поехали в Ольховатку все вместе — я, Денис Андреевич и Тамара. Еще в магазине я передала Денису Андреевичу недельный отчет и дневную выручку — 1512 рублей, чтоб он назавтра сдал в кассу в сельпо. Конечно, это надо было сделать мне самой, но на утро намечалось собрание пайщиков, и еще я хотела получить товар.
На другой день я ожидала автобус, чтоб ехать на базу. Какой-то незнакомый мужчина спросил: «Как вы себя чувствуете?» — «А как я должна себя чувствовать?» — «Так ведь Дениса убили!..» Я вскрикнула, чуть не хлопнулась в обморок, села не в свой автобус, выскочила, потом подцепила какой-то бензовоз и обо всем узнала уже в сельпо. Когда добралась до Лукашевки, магазин оказался опечатанным ревизорами».
«Вопрос. Не угрожал ли кто-нибудь Чигирю? Не было ли в последнее время каких-либо происшествий в магазине?
Ответ. Нет, не было.
Вопрос. Кто, кроме вас, знал об этих полутора тысячах? Что они у Чигиря?
Ответ. Никто.
Вопрос. Вы передали деньги под расписку?
Ответ. Да, вот она.
Вопрос. В Ольховатке вы все вместе вышли из автобуса?
Ответ. Нет, я первая».
Кажется, все ясно. Но это только так кажется… Уже следующие материалы поставили все с ног на голову.
Из протокола допроса свидетеля Тамары Киселевой:
«Вопрос. В какое время вы закрыли магазин?
Ответ. Как всегда, около десяти. (А по Ермолик — почти в одиннадцать.)
Вопрос. Почему же не уехали сразу? Чем вы занимались целый час в Лукашевке?
Ответ. Не знаю. Не помню.
Вопрос. Вы были предупреждены об уголовной ответственности по статье 177-й за дачу заведомо ложных показаний. Вам непонятно содержание этой статьи?
Ответ. Понятно.
Вопрос. Почему же вы «не помните», что было с вами вчера?
Ответ. Я помню, как же, я просто не поняла вопроса. Мы опоздали. Мы вернулись в сторожку и ждали там.
Вопрос. Кто это «мы»?
Ответ. Я и Денис Андреевич.
Вопрос. Разве Ермолик с вами не было?
Ответ. Она закрыла магазин и ушла к каким-то своим знакомым, сказала, что доберется домой и без автобуса.
Вопрос. Значит, вы ехали с Чигирем вдвоем?
Ответ. Да, я же сказала. (А по Ермолик — ехали втроем.)
Вопрос. Много ли было в автобусе пассажиров?
Ответ. Нет. Кроме нас — три-четыре человека. Я не обратила на это внимания. Моя остановка перед остановкой Дениса Андреевича. Моросил дождь, было очень темно. Денис Андреевич спросил: может, мне сойти с тобою, проводить до дома? Но я отказалась, хотя пугалась каких-то предчувствий.
Вопрос. Вы знали о деньгах, которые Ермолик передала Чигирю?
Ответ. Марина Аркадьевна передала их при мне. (По Ермолик же выходит, что передача денег происходила без свидетелей. Для чего она тут «темнит»?)
Вопрос. Кто еще знал или мог знать?
Ответ. Возможно, о деньгах слышал кто-нибудь еще, но я не уверена в этом. Впрочем, вся же Лукашевка знает, что выручка в магазине на ночь не оставляется, хотя кассир сельпо и приезжает за нею раз в год по обещанию. Обычно деньги возила заведующая».
Из протокола показаний шофера автобуса, следовавшего рейсом Лукашевка — Ольховатка:
«В Лукашевке сели продавец, которого все звали Денисом, и девушка-магазинщица. Судя по проданным мною билетам, были еще двое пассажиров. Я не запомнил их».
(А все ли пассажиры были «обилечены»? Ведь в одиннадцать вечера под шелест дождика за окном хорошо спится человеку, если даже он и контролер автобазы…)
Из протокола показаний сторожа лукашевского магазина:
«Когда я шел на дежурство, то встретил братьев Филипповых. Хлопцы были веселые, но я не обратил на это внимания, потому что веселые мужчины в деревне — привычное дело.
В магазине Денис показал разбитое окно. Сказал, что не дал Филипповым вина и они разбили. (Так, а Ермолик покрывает Филипповых. Какая в этом нужда?..)
Вино хранится у нас в сторожке, в ящиках. Я спросил разрешения у Дениса, можно ли брать вино. Потом он подсчитывал, на сколько я напил, а жена меня ругала. Когда все уехали, опять пришли Филипповы и я дал им вина в долг.
Вопрос. В какое время вы заступили на дежурство?
Ответ. Я пришел к десяти, но мне сказали погулять до одиннадцати. Все сидели в сторожке, но я не видел, кто там был. Ко мне на улицу выходила сама Аркадьевна.
Вопрос. Как уезжали работники магазина?
Ответ. Денис и Тамара — на автобусе, а Аркадьевну увел Тимка-каменист».
Все эти показания были записаны на магнитную ленту, а затем перепечатаны на машинке, то есть прошли известную редактуру и во многом утратили ту прелесть, что всегда проскальзывает в показаниях письменных — живописный словарь, невероятные обороты речи, сквозь которые подчас очень трудно продраться. Но слово «каменист» не было заменено ироничным Михаилом Прокофьевичем на само собою разумеющееся здесь «экономист».
Вообще же, в нашем деле аккуратность в ведении дел играет большую роль, и работы Михаила Прокофьевича были образцовыми. Свое детище не подавай на лопате, как заметил один из мастеров Палеха…
Тимофей Морковка, колхозный экономист, собственные показания записал сам каллиграфическим, достойным писаря генерал-фельдмаршала графа Паскевича, почерком:
«Я хотел покататься на «козлике» с Тамарой, но повез Марину Ермолик. Я сам живу в шофера на квартире и взял машину».
Из первых показаний братьев Филипповых… так, эти ничего не помнят. Конечно, легче всего валить грехи на зеленого змия, это он все, проклятый, а мы в целом — паиньки…
Из показаний Колоколова, председателя исполкома сельсовета: скандал в магазине был, за мною прибежали, чтоб помог утихомирить мальчишек-дебоширов — я ведь рядом живу…
Из показаний матери Филипповых: я сама малограмотная, дети росли без отца. Сын Саша приходил домой всего три раза пьяный, а Павлик еще меньше, может, два раза. Что случилось с Павликом, которого выбросили из магазина, я не знаю… В одиннадцать часов сыновья слушали радио про спорт («Спортивный выпуск» «Маяка», стало быть), никогда не пропускали, потом собрались идти к сторожу за вином. Я смолчала, а бабушка начала ворчать…
Она сидит предо мною, Марина Аркадьевна Ермолик, молодящаяся особа моих лет, роскошная шатенка, капризные пухлые губы, в глазах плохо скрытое волнение и тревожная выжидательность. Ермолик в белых кримпленовых брюках, синей курточке на двух металлических застежках, на груди отороченный белой тканью карман с вышитым пунктирным якорем, большой отложной воротник тоже оторочен, на правой руке обручальное кольцо, на левой — перстень с рубином, часы на батарейках минского производства. Невольно вспоминаю то ли быль, то ли анекдот, как одна старшая сестра знакомила с младшей: «Мы с нею близнецы», — а спустя несколько лет представляла уже как свою старшую…
И еще: не «голова у меня болит» — «у меня мигрень»…
— Марина Аркадьевна, — начал я, — можете ли вы что-нибудь добавить к тем показаниям, которые давали следователю Вариводе?
— Но я не знаю, что в первую очередь интересует следствие. Все произошло так глупо, дико…
— Следствию еще в самом начале было необходимо, чтобы вы рассказали начистоту, как прошел тот злополучный день — 30 июня. Но мы перевели немало пленки, бумаги и чернил на вашу неправду, хотя вы были предупреждены и предупреждаетесь вновь об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.
— Да, я знаю, — поспешно согласилась Марина Аркадьевна.
— И «больше не буду»?
— Да, не буду. Но неужели вы подозреваете кого-нибудь из нас?
— Мы не вправе не подозревать, — вздохнул я в ответ на этот женский вопрос. — Здоровое подозрение есть хорошая основа для успешной работы, как говорил один мой знакомый. Здесь почти ни у кого нет алиби… С вашего позволения, я включу магнитофон, это ускорит работу.
— Включайте, — покорно согласилась Марина Аркадьевна. — Вы уже знаете о Филипповых. Я не хотела, чтоб преступников искали в Лукашевке. Это может перессорить всех. Вы уедете, а нам здесь работать. Случай с Филипповыми… — Она замялась, подыскивая слова. — Этот случай можно считать обычным, что ли. Ну, не дал Денис Андреевич мальчикам вина, обозвал сопляками, выставил за дверь — они наговорили гадостей и ему, и мне, окно вот разбили. Бывает…
— Эти мальчики угрожали Чигирю, — вставил я, хотя понимал, что эта пара юнцов скорее всего отпадет, если только они не действовали чужими руками: наутро следствию были предъявлены и сотрудниками магазина опознаны две бутылки из-под «Вермута», которые Филипповы получили в долг от сторожа уже в двенадцатом часу ночи, — вино было из той партии, что хранилась в сторожке. («Аскафен», — сказали мальчишки.)
— Угрожали Чигирю… — Марина Аркадьевна пожала плечами: дескать, если принимать такие угрозы близко к сердцу, как же тогда жить?..
— Марина Аркадьевна, в течение нескольких дней вы упорно продолжали отрицать факт выпивки в магазине в тот вечер. Подговорили Киселеву и Морковку, они тоже сперва давали ложные показания, пока наконец благоразумие не взяло верх и эти двое не сознались. Но вы стояли на своем даже на очной ставке с Киселевой и Морковкой…
Марина Аркадьевна провела кончиком языка по губам.
— Да, конечно, вот с этой выпивкой, — торопливо сказала она. — Вы знаете что — я боялась и просила не говорить, что мы немножко выпили с Денисом Андреевичем. Я, наверно, запутала вас, я боялась и вообще… Вы знаете что — мне уже дали строгача, но ведь могут и передумать и вообще… с работы снять…
— Успокойтесь, пожалуйста, — обронил я: лицо Марины Аркадьевны пошло пятнами, речь стала сбивчивой.
— Господи, — продолжала она, — и когда это только кончится! Я и думать не думала, что вы способны докопаться…
Способны докопаться!.. В двадцать один сорок пять они закрыли магазин, но не успели за полчаса к автобусу, конечная остановка которого здесь же, на площади, и уехали, во всяком случае Чигирь и Тамара, в начале двенадцатого. Сотрудники сельпо, самого же магазина, жена покойного и соседи в один голос утверждают, что Денис Андреевич хмельное брал в рот крайне редко, а уж тем более в рабочее время. Варивода установил, что он не заходил в железнодорожный ресторан, но вот в его крови экспертиза обнаружила 1,2 промилле этилового алкоголя, то есть человек скончался в состоянии легкого опьянения. Так откуда же оно, спрашивается?
Заполняя в протоколе допроса Морковки его анкетные данные, Михаил Прокофьевич сразу же обратил внимание на то обстоятельство, что день гибели Чигиря и день рождения свидетеля совпадают. Морковка не стал отрицать, что отмечал свое двадцатипятилетие с дружками в чайной до ее закрытия, а затем, около девяти вечера, пришел в магазин — искал культурного и веселого, желательно женского общества. Но о выпивке в сторожке вначале не проронил ни слова. Это позже он показал:
«Я спрашивал Марину Ермолик, допрашивали ли ее по делу убийства, и сказал, что меня допрашивали. Я ей сказал, что я не сказал, что мы пировали в магазине. Она сказала, что ты правильно сказал. Я сказал, что за выпивку рассчитаюсь позже».
Хорошо, конечно, что ты нам об этом сказал, хотя все равно бы сказал, никуда бы не делся. Да беда в том, Тимофей Морковка, что ты до сих пор не все нам сказал, вот ведь в чем дело. Заметался вдруг, осознав, почувствовав, какие тучи сгустились над твоей головой, сделал уступочку следствию…
— Что еще, Марина Аркадьевна, вы решили вместе с Киселевой и Морковкой утаивать от следствия?
— Вы же все знаете…
— Нет, не все.
— Я передала Денису Андреевичу деньги в присутствии Тамары. А потом поминутно вспоминала о них, беспокоилась…
— Это нам известно.
— Вероятно, о деньгах знал Морковка… Но вы не думайте о нем ничего плохого!..
Я кивнул.
— Денис Андреевич и Тамара уехали автобусом…
— Это тоже известно.
— А меня отвез Морковка…
— И это. Кроме некоторых мелочей. Почему, например, вы не поехали автобусом?
— Ну, на «козлике» ж приятней ехать, почти легковая машина.
— Но ею управлял нетрезвый человек!
— А это совсем не было заметно. Морковка, вы знаете что, человек молодой, крепкий.
— В Ольховатке вас мог остановить постовой милиционер…
— Я с самого края живу. Где там постовые и вообще…
— Как долго вы оставались в Лукашевке после Чигиря и Киселевой?
— Мы не оставались, мы сразу же поехали вслед…
— И догнали автобус?
— Нет, даже не видели.
— Морковка подвез вас прямо к дому?
— Да.
— К вам заходил?
— Нет, поехал в Лукашевку.
— Где же он катался до утра?
— Почем мне знать! — произнесла Марина Аркадьевна с вызовом, но в глазах ее была паника. — Может, поломался в дороге…
— Никакого собрания пайщиков не ожидалось. Для чего вы передали деньги Чигирю?
— Наверно, я перепутала день… И потом, я собиралась получить товар.
— Значит, вы предполагали, что назавтра утром у ваг не будет времени на сдачу денег в кассу. Но утром, как ни торопились — ехали даже на бензовозе, словно на такси, — вы появились в сельпо лишь после одиннадцати…
Марина Аркадьевна тягостно молчала.
— Вы появились в правлении сельпо, когда из Лукашевки уже вернулись ревизоры, опечатавшие магазин…
— У меня болела голова, — выдавила Марина Аркадьевна наконец. — Раскалывалась, хоть и выпила всего ничего. С непривычки…
Я отпустил ее, в общем-то ничего не добившись. Она поднялась со вздохом облегчения, будто все самое страшное в ее жизни заключалось именно вот в этих минутах разговора со следователем.
Хотелось бы мне верить, подумал я, глядя ей вслед, что ты намеревалась наутро просто отоспаться…
Во дворе, на лавочке у крыльца, своей очереди уже дожидалась Тамара Киселева. Она сменила халат на легкое платье с круглым вырезом на груди и сочла необходимым еще больше подвести губы, глаза, выщипанные брови. На фальшивых ресницах дрожала тушь. Крашеные соломенные волосы падали на плечи, на висках были завиты кудряшки-завлекалочки. На руке — желтое кольцо из пластмассы, в ушах — клипсы из той же пластмассы. Кажется, за этой грошовой бижутерией ездят в Прибалтику, с ума сойти.
И все же, как ни усердствовала, она не могла погасить очарования, подаренного ей природой. И зачем тебе весь этот маскарад, дурочка?..
Тамара присела к столу, и я не заметил и тени волнения на ее лице. Либо совершенно непричастна, либо умеет владеть собою. Но — посмотрим.
— Так… — пробормотал я, найдя ее анкетные данные, предваряющие протокол первого допроса. — Киселева Тамара Федоровна… девятнадцать лет… место рождения — поселок городского типа Красная Заря… русская… незамужняя… беспартийная… восемь классов… была учеником продавца, ныне — продавец магазина… из крестьян… не судилась… постоянное место жительства — Ольховатка, Гоголя, 9… Частная квартира, видно?
— Частная.
— Я тоже жил на первых порах на частной. Да еще с семьей. Хорошего в этом, конечно, мало. В другое время, может, мы и поговорили бы с вами на эту тему. Но сегодня надо попытаться найти общий язык в вещах иного толка. Согласны?
Тамара не ответила, едва заметно качнула головой. Лицо ее оставалось холодным, непроницаемым. И глаз не отводила. Совсем не деревенская простушка, подумал я.
— Повторите, пожалуйста, все, что вы рассказывали прежде, — попросил я. Повторять бы ей все равно пришлось, но я надеялся, что она, вдобавок, сама себя «разговорит».
Ничуть не бывало: рассказ ее был малоэмоциональный, серенький, нам знакомый. Исключение составляло лишь то, что 30 июня в перерыв, когда она обедала в чайной, за соседним столиком в обществе двух незнакомых ей мужчин уже сидел Морковка. Последний подходил к ней несколько раз, приглашал на вино, но она отказалась.
— Вы ожидали парней из ольховатского депо, Помаза и Глушцова?
— Почему я должна была их ожидать? — Тамара взглянула на меня, кажется, с сочувствием, повела плечами. — Я даже не знала, что они вернулись из командировки. Нагрянули как снег на голову.
— Куда же они ездили?
— Куда-то на Волгу. В Астрахань, по-моему. Работали там на тепловозе. Помаз машинистом, а Глушцов помощником.
Ну, здесь как раз наоборот, вспомнил я: Глушцов машинистом, хотя на три года и моложе своего товарища. Вслух же сказал:
— И воблы небось привезли? Икряной?..
— В основном деньги. А рыбу, если и была, так раздарили симпатичным попутчицам.
— И много, если не секрет?
— Попутчиц или денег? — усмехнулась Тамара. — Хвастали, что рублей по пятьсот вроде бы в месяц выходило. Но я не помню, не могу точно сказать, мне это безразлично. А вам — нет?
— К сожалению… — Я побарабанил пальцами по столу. — Нам приходится иногда считать чужие деньги. Даже лезть в чужую душу, рыться в чужом белье. И обычно непрошенно. Но что поделаешь? Работа такая, шут бы ее побрал, и кто-то должен ее делать, чтоб не страдали невиновные.
Я повторил мысль, которую высказывал много раз и прежде, не очень-то, правда, позаботившись о форме выражения. Я просил наперед прощения за вопросы, которые могут показаться несколько нетактичными, в другой обстановке — склочными, приглашал, как духовник, к откровению и обещал сохранить в тайне это откровение. Другого выхода, увы, у меня просто не было, да простит нас, грешных, все сущее, хоть мы и действуем его именем…
— Простите, но чего они хотели от вас, зачем приезжали?
— Звали в ресторан, — опять усмехнулась Тамара. — Хотели, чтоб ушла с работы пораньше.
— И вы отказали?
— Как видите.
— Давно вы с ними знакомы?
— Месяца три-четыре. Да и то шапочно. Как-то в клубе ко мне подошел Глушцов — и все, потом он уехал. Я и фамилии-то хлопцев узнала лишь во время следствия.
— Не припомните содержания разговора с этими молодцами?
— Какого разговора?! — изумилась Тамара, и легкая улыбка впервые скользнула по ее губам. — Помаз заливал, что его друг ездил на заработки специально из-за предстоящей свадьбы, моей и Глушцова. Представляете? А Глушцов молчал, пьяненько, застенчиво улыбался.
— Все это происходило в магазине?
— Да. Я насилу отвязалась от них.
— Как же вы расстались?
Тамара вздохнула, вполуприщур взглянула на меня.
— Глушцов погладил мою руку. Вот так. — И провела по моей руке кончиками пальцев — быстро, бережно, едва ощутимо. — Раз вы требуете откровенности, — пояснила она, словно извиняясь.
Мы помолчали.
— С Морковкой, надеюсь, вы лучше знакомы? Что вы можете сказать о нем?
— До сих пор я знала его тоже только наглядно.
— В лицо, что ли?
— Ну да, в лицо. — И добавила: — Наглядно.
Хорошо, пусть будет «наглядно». Нам это все равно.
— И никогда раньше он к вам не подходил, не заговаривал? Не приглашал, скажем, на танцы, в кино, ресторан?
— Ну, на ресторан он не раскошелится. А на танцы звал, с месяц назад. Тогда я и отшила его в первый раз: отойди, дяденька, от тебя землей пахнет…
Внутренне я улыбнулся: девятнадцатилетней девчонке уже двадцатипятилетний мужчина кажется безнадежным.
— Вы могли бы смертельно оскорбить его… — заметил я.
— Пусть не лезет. И потом: его не очень-то оскорбишь.
— Однако вечером, когда Морковка пришел в магазин, вы не отказались от его компании…
— Я ж была не одна!
— Морковка переключился на Марину Аркадьевну?
— Спросите об этом у нее сами!..
Вот-вот, этот мой вопрос как раз из разряда «нетактичных»…
Но, поколебавшись, Тамара вдруг рассказала:
— Сперва он снова приставал ко мне — то носки ему покажи, то пылесос. «Зачем он тебе, пылесос?» — «Я ж квартиру, Томочка, получаю, в новом коттедже». — «Так быстро?» — «Почему быстро… Я ж все-таки начальство». — «А-а». — «Пойдем после работы, покажу…» — «На ночь глядя? А потом тринадцать километров под дождем пешедралом?» — «Зачем? Я отвезу. Возьму у Леньки машину и отвезу. Или у меня переночуешь». — Тамара бросила на меня дерзкий взгляд. — Я засмеялась и сказала: «Где ж я буду спать? С твоей хозяйкой, что ли?» — «Зачем? В пуне сено свежее… Ты не спала еще на сеновале, в дождик, с добрым молодцем?..» Здесь в магазин явились хлопцы Филипповы. Дядя Денис стал выпроваживать их, разгорелся скандал. «Ты, дед, не очень, не очень! — говорил Сашка. — Вот тебе трояк, а вино я и сам возьму!» — И схватил с прилавка чужое вино. Дядя Денис пытался отнять бутылки, и тут Сашка высадил локтем окно. Прибежала из подсобки Марина Аркадьевна: «Денис Андреевич! Стекло стоит рубль — дайте им сдачу с тройки!» — «Не нужна мне сдача! Я пойду и вон те два окна высажу! Как раз на трояк! И — квита!» — «Я тебе высажу, сопляк! — Это Денис Андреевич. — Научись сперва делать то стекло, а потом высаживай!» А Морковка тем временем все читал инструкцию к пылесосу. И я побежала к Колоколову за подмогой. А когда вернулась, то сказала ему: ну и дрянь же ты!.. Он вроде бы даже надулся, но потом снова подошел ко мне. Поздравь, говорит, у меня сегодня юбилей — четвертак исполнился, а в двадцать пять пора обзаводиться собственным гнездышком… «Поздравляю. Обзаводись». Он попросил у меня денег, чтоб отметить день рождения. Но я не дала, у меня их не было, а брать из кассы… Тогда он ушел к Ермолик и больше не трогал меня. После выпивки мы с Денисом Андреевичем остались ждать автобус, а они пошли за машиной. Сказали, что приедут за нами.
— Но не приехали?
— Мы их не ждали.
— Они обогнали автобус?
— Нет. Автобус забрал нас минут через пять, до города ехали быстро, без остановок. Я вам откровенно признаюсь: Морковка знал о деньгах, он для меня ничто, но это не его работа. Не тратьте на него зря время.
— Может, у вас есть свои соображения на этот счет?
— Нет, я не знаю, я даже представить не могу, кто мог бы такое сделать. Нет, не знаю, честное слово, не знаю. Но не Морковка и не Филипповы.
— А сама заведующая… — уронил я, словно размышляя вслух. Но Тамара решительно перебила:
— Нет! Да и зачем ей деньги?
— Мне кажется, что вы сейчас вполне искренни, — сказал я то, что думал. Я не мог не верить своей интуиции, хотя именно эта девочка изо всех известных нам свидетелей (и подозреваемых) последней видела Чигиря живым. — Зачем же вы запутывали следствие в первые дни? Из солидарности с Мариной Аркадьевной?
— Магазин Марины Аркадьевны на хорошем счету. Звания, вымпелы, премии… И она боялась, что выпивка в магазине станет известной.
— Такая уж это редкость, невидаль… А за себя не боялись?
— Нет. Что со мной может случиться? Да ничего.
— Однако за несколько минут до гибели Чигиря вы пугались каких-то предчувствий, — напомнил я. — Он даже хотел проводить вас до дома…
— Денис Андреевич был очень порядочный и добрый человек. Он был добр ко всем. Мне, например, всегда говорил «доченька», «девонька». Я ревела, как по отцу, когда узнала о случившемся.
— В автобусе все было тихо, покойно, ничего подозрительного не произошло?
— Нет. — Тамара отрицательно помотала головой. — Я сказала бы сразу, если бы заметила хоть что-нибудь. Когда я выходила на своей остановке, в автобусе кроме Дениса Андреевича и шофера никого не оставалось. Денис Андреевич смотрел на меня и улыбался. Но улыбался, знаете, как-то невесело… С грустью какой-то, жалостью… Теперь я понимаю, почему он так улыбался. Он что-то чувствовал, он все уже знал. Я девка отчаянная, а тут мне стало не по себе. Даже тошнота подкатила. И страх обуял. Домой я бежала, как полоумная. Он улыбался, будто просил пощады, прощения, но я о нем совсем не думала, ни капельки не беспокоилась, вообразить не могла, что э т о произойдет. Дрожала за мать, за отца, с детства дрожала, а все остальные казались какими-то вечными, смерть других людей — несерьезной… Я, наверное, глупости говорю?
— Нет, нет, продолжайте, пожалуйста!
— Да что продолжать! Мне очень хочется, чтоб убийцу поймали. Но иногда, знаете, думаешь: человека нет, и уже не вернешь, что толку, поймают или не поймают… Не поймают, так, может, сам себя казнит…
— Это случается, Тамара, но крайне редко, поверьте мне, — возразил я. — И мы не знаем, какой новый фокус преступник выкинул или еще выкинет. Во всяком случае тихонько сидеть, как мышь за веником, он уже не в состоянии.
В дверь заглядывал молодой человек с большими залысинами. Как я понял — Тимофей Морковка, колхозный экономист, хотя вначале должен был прийти сторож магазина. Чуть позже выяснилось, что участковый Полозов с высунутым языком бегает по всей Лукашевке, разыскивая его, и потому прежде времени прислал Морковку. Ну, да ладно, сыщется и сторож.
Морковка окинул Тамару пренебрежительным взглядом, разминулся с нею и, суетливо улыбаясь, вошел в мою комнатушку. Впрочем, точнее будет — внес себя, как это нередко делают люди, расположенные к ранней полноте и совсем неплохо думающие о собственной персоне.
— Доброго добра, товарищ Скоморохов, — сказал он. — Вы меня приглашали?
Я пожал плечами.
— Ведь вы — один из главных свидетелей по делу… — Я подчеркнул слово «свидетелей», что было воспринято с явным удовлетворением, хотя на его залысинах и проступала россыпь меленьких капель — вряд ли только из-за июльской жары.
— Буду рад помочь следствию. Правда, это впервые в моей практике, — по-прежнему улыбаясь, сказал Морковка. — Надеюсь, вы к нам надолго? — тоном гостеприимного хозяина озабоченно добавил он.
— Я хотел бы завершить следствие в день-два.
— Жаль, — протянул Морковка и быстро поправился: — Жаль в том смысле, что у нас отличные леса, озера. Здесь можно отдохнуть.
— Я использовал отпуск в мае, — солгал я (за прошлый год еще не брал).
— Вы сказали — за день-два? Но ведь это так сложно!
— Во всяком случае — не просто. И днями тут, конечно, не обойтись.
— Желаю вам успеха. — Он определенно брал инициативу в свои руки. — А когда закончите — у вас, конечно, своя машина, можно взять груз, — когда соберетесь домой, в нашем колхозе надо будет выписать баранины по нашей цене — всего по рублю за килограмм.
— Что же, это мясо может выписать каждый? — полюбопытствовал я.
— Да нет, что вы! — всплеснул руками Морковка. — Но я помогу. Ведь мы свои же люди…
— «…пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм»?..
Морковка насторожился.
— Это ж мой эпиграф к выпускному сочинению!.. — вспомнил он. — Маяковский!..
— Да-да, Маяковский… А за предложение спасибо, — насмешливо сказал я, — постараюсь тоже учесть. А теперь о деле. Пожалуйста, со всеми подробностями — как вы отметили свое двадцатипятилетие?
Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, кто сидел предо мною. Как говорится, из молодых, да ранний, чинуша, деляга и, скорее всего, прохвост. Я смею так думать, я смею думать обо всем что угодно, но не имею права выдавать свои чувства поведением, отношением к допрашиваемому. И уж тем более давать оценки вслух. По крайней мере, — на первых допросах, насколько бы мне ни был неприятен человек. (Читатель, возможно, заметил, что даже теперь, по прошествии длительного времени, когда я выборочно привожу записи моих бесед, я всячески стараюсь избегать комментариев подобного толка. Даже теперь — в силу привычки — стараюсь отстраниться…)
— Как отметил?.. — разочарованно переспросил Морковка. — В тот день совершилось убийство…
— К сожалению.
— Рассказать обо всем, даже сколько взял и с кем?
— Рассказывайте обо всем.
Морковка покосился на магнитофон, откашлялся, точно ему предстоял выход на сцену.
Это было унылое изложение уныло проведенного дня. Несмотря на то, что в конторе в эту пору много работы (конец месяца, квартала), около двенадцати ему удалось уйти, чтоб с честью отпраздновать «четвертак». Сперва выпил дома, самую малость, с квартирной хозяйкой (сам хозяин был в районе — возил на «козлике» главного агронома, да и непьющий он вообще), потом встретил Безмена Василия и Глухотко Сергея — залетных строителей, шабашников, переклавших по договору колхозную конюшню и теперь ожидавших расчета, был приглашен ими в чайную, поскольку в руках у них было две по рубль тридцать семь (две бутылки вина, разумеется. Бедные виноделы!.. А может, все верно, может, здесь не вино, а так, крепленая фикция его и название никакой существенной роли не играет, коль свободно подменяется ценою или этими словечками: «чернила», «аскафен», «гербицидовка»). С шабашниками Морковка пошел с удовольствием — время близилось к закрытию чайной на обед, и скоро, он знал, должна подойти Киселева, потому что перерывы в работе чайной и магазина совпадали. Киселева всегда обедала с работниками чайной, так договорились, видно. Я же хотел, не буду скрывать, взяв для храбрости, поговорить с нею, продолжал Морковка. Когда хлопцы-шабашники узнали о моем юбилее, то это дело решено было сбрызнуть: взяли еще три по рубль семьдесят две, потому что по рубль тридцать семь кончилось. В магазин бегал Безмен — лично у меня были затруднения с деньгами. Вели себя пристойно — хоть окна и были раскрыты, выходили курить во двор, — в чайной работают отзывчивые люди и не хотелось их обижать. А те, в свою очередь, вошли в наше положение и во время перерыва не погнали нас.
— Тут и явилась Киселева?
— Да. Я приглашал ее к нашему столику, но она отказалась. Странно, я же все же не простой…
— Что значит — «не простой»?
— Ну, руководящий. А она вообще никому не отказывает.
— С чего вы это взяли?
— Так по ней же видно! Да и люди говорят.
— Но вы, кажется, имели на нее довольно серьезные виды?
— Чтобы очень, так не очень. Конечно, я надеялся ее перевоспитать, ведь в двадцать пять пора обзаводиться собственным гнездышком. К счастью, я вовремя разочаровался в Киселевой, решил насчет ее вопрос. Легкомысленная девушка. У нее сегодня один, а завтра другой. Вот и тридцатого июня два каких-то подозрительных типа увивались около Киселевой. Этих людей никто у нас в Лукашевке раньше не видел — я уточнял. Ведь это важно для следствия?
— Почему же — «вовремя разочаровался»? Разве вы не ради нее пошли того же тридцатого вечером в магазин, не ее звали кататься на машине, рассчитывали, простите, всего три недели назад на близость?
— Я, наверно, не ясно выразился. Я разочаровался уже потом, после убийства продавца. Я с ней, можно сказать, теперь не здороваюсь.
— Вы настолько оскорблены ее отказом?
— Ну что вы, портить нервы из-за всякой ерунды! Просто мне не нравятся компании, которые она водит.
— У вас появились какие-либо новые сведения о ее компаниях? Вы с нею не здороваетесь, ею не интересуетесь — откуда же?
— Новых сведений нет, это правда, но теперь я убежден в ее легкомыслии.
— Убедились, судя по всему, именно с момента гибели Чигиря?
— Именно с того момента.
Морковка несколько раз озабоченно поглядывал на часы. И наконец он сказал:
— Извините, но мне надо срочно позвонить в контору…
— Позвоните.
Он крутнул три раза диск телефона, свел брови на переносице:
— Полина Георгиевна, — сказал он, — вы дождались процентовок из ПМК? Какую сумму выставляют эти бездельники?.. Ого!.. Но этот номер у них не пройдет!.. Председатель! Ну и что председатель, если за финансовую дисциплину отвечает Морковка!.. Да, я скоро освобожусь, мы побеседуем еще немного с товарищем. Сосредоточьте, пожалуйста, все процентовки на моем столе!.. — И поклал с досадой трубку. — Жулик на жулике сидит, жуликом погоняет… — неискренне начал он, но я вернул его на бренную землю:
— Как закончилась ваша пирушка в чайной?
— В восемь часов, — вновь нахмурил брови Морковка, не сразу переключаясь на прежнюю тему разговора, — к закрытию чайной, Безмен принес бутылку шампанского, чтоб стрельнуть в потолок в мою честь. Распили с женщинами, что работают на раздаче. Ребята пошли проводить их в Лозу — так называется та сторона Лукашевки (Морковка показал пальцем за плечо), ну а я, как известно, зашел в магазин, о чем искренне сожалею. Киселева стала опять издеваться — может, у нее были какие-нибудь свои планы, а я мешал ей? Я не настаиваю на таком варианте, но вполне допускаю, — так вот, когда она стала издеваться, насмешничать, я рассердился и сказал, что угощаю всех.
— А между тем денег у вас не было…
— Ну, в долг. Я думал — свои же люди… Заведующая согласилась, закрыла магазин и все пошли в пристройку (опять показал пальцем за плечо), в которой сторож сторожит и хранится вино… Ну, а дальше вы все знаете…
— Чигирь, Ермолик и Киселева выпили втроем бутылку водки, вы же пили вино. Закусывали полукопченой киевской колбасой, нарочанским частиком, маринованными огурчиками производства совхоза «Любань» и черняшкой ольховатской пекарни, — усмехнулся я.
— Все верно! — с восхищением всплеснул он руками. — Правда, продавец-то и пить не пил, был какой-то чахоточный…
— О том, что Ермолик передала деньги Чигирю, вы знали?
— Знал… Сначала не знал, а потом знал… — понурился Морковка.
— Ну да, это судя по протоколам допросов…
— Мне не хотелось впутываться не в мое дело, поймите меня, пожалуйста, товарищ Скоморохов… Какое я имею отношение к этим деньгам, к продавцу?
— Когда Ермолик согласилась ехать с вами: до выпивки в магазине или позже?
— Какое это имеет отношение к нашему вопросу?
— Самое прямое.
— До выпивки я разговаривал с нею немного наедине, но я не помню, когда пообещал отвезти всех в Ольховатку. Кажется, я только шепнул, что у меня нет денег… Кстати, я не одну ее хотел везти, это все подтвердят.
— Да, но какой был смысл Чигирю и Киселевой ждать машину, за которой вы отправились на край села (я тоже показал пальцем за плечо, хотя это было явно не то направление), если через пять минут прибыл автобус?
— Не знаю. Мое дело было предложить…
— Машина стояла во дворе дома, в котором вы квартируете. Вы взяли у Грибонеедова, хозяина и шофера, ключ зажигания… Ермолик вместе с вами в дом не заходила?
— Нет.
— Где же она вас ждала?
— На улице, неподалеку.
— Это в дождь-то? Отчего же не поднялась хотя бы на крыльцо, под застрешек?
— Я обернулся мигом. — И внезапно обрадовался, вспомнив: — Она ждала на перекрестке под липой!
— Ермолик хотела, чтоб о ее прогулке с вами знало как можно меньше людей, не так ли?
— Возможно. Деревня есть деревня, не мне вам объяснять — пойдут чесать языками, что было и чего не было. А у нее ведь семья. Будешь потом ходить как оплеванный.
— Автобус вы не догнали?
— Нет.
— Отвезли Ермолик домой и без проволочек поехали обратно?
— Безусловно. — У Морковки получилось: «бэзусловно».
— В Лукашевке появились, по показаниям Грибонеедовых и колхозных пастухов, около шести утра. Что случилось в пути?
— Буксовал. Дорога ремонтировалась, пришлось ехать кругом.
— Вы утверждаете, что подбрасывали под колеса камни, ветки, но спустя сутки не смогли с уверенностью показать ни одного места, где буксовали…
— Да лихо его знает, где буксовал! Темень, дождь… И хмельной трошки был. Вот за это я готов понести наказание… Грибонеедову, кстати, я дал нагоняй — не видишь разве, что человек пьян? Зачем даешь машину?..
— С Грибонеедовым теперь разберутся и без вас… Стало быть, буксовали. А поломаться вы не могли — водительских прав у вас нету, машину не знаете, — научились только крутить баранку…
— Буксовал, товарищ следователь, ей-богу, буксовал!..
— Отчего же? Как известно, на любых дорогах наилучшая проходимость у государственных машин…
— «Козлик» — не государственная собственность, — слабо улыбнулся Морковка, — колхозно-кооперативная…
— Допустим, — вздохнул я. — Вы свободны. Пока свободны.
О том, во сколько Ермолик появилась дома, нам никто ничего, кроме самой этой пары, сказать не смог: ни соседи — эти не видели и не слышали, ни ее родные — муж был в отпуске, возил заболевшую пиелонефритом десятилетнюю дочь в Трускавец на воды.
Довольно логично соединил быль и небылицу, подумал я о Морковке, как вдруг: «Темень…» Ночь на первое июля, пусть даже дождливая — одна из самых коротких в году. В три часа светает.
Сторож лукашевского магазина Иван Ильич Куницкий… Я уже видел его, когда околачивался в магазине, но не предполагал, что это он. Там, кстати, произошла довольно забавная сценка.
Привезли хлеб, и пока разгрузили машину, у прилавка собралась очередь в пять-шесть человек. Я заметил объявление, написанное на листке из ученической тетради: согласно постановлению райисполкома на каждого члена семьи отпускается не более двух буханок хлеба. Конечно, подумал я, кормить скотину печеным хлебом не дело, но если не хватает, скажем, кормового зерна, комбикормов — тогда чем? Не щебенкой же — на одной траве да картошке далеко не уедешь. Получается заколдованный круг: повсеместно частной скотине, несмотря на некоторые ограничения, скармливается добротный печеный хлеб, его хватает, а того же зерна для продажи или производства комбикормов — не хватает…
Пожилая продавщица, занявшая место покойного Чигиря, была лукашевской и подушно знала каждую семью — это я понял тотчас: она отпускала хлеб, не спрашивая, кому сколько нужно или дозволено, если угодно. Молчком брала деньги, давала сдачу, клала перед покупателем одну, две килограммовых буханки хлеба, а то и четыре сразу, шесть, восемь, двенадцать, и хлеб исчезал и мешках. И тут явился этот мои свидетель Куницкий.
— Здравствуйте! — бодро сказал он от порога, прошел мимо очереди, протянул мятый рубль. — Пачку «Примы», Зиночка, и бутылку вина!
Зина — опять же молчком — подала ему «Приму», отсчитала сдачу и плюхнула на прилавок четыре буханки.
— Да нет, — с легкой досадой сказал Куницкий. — Бутылку вина!
— Какого вина?! Тебя же баба за хлебом послала! — Зина, за которой я вначале замечал некоторую скованность, теперь преобразилась, стала решительной.
— За хлебом баба сама придет, уже собралась.
Куницкий упрямо пытался отодвинуть хлеб от себя, продавщица столь же упрямо возвращала его обратно.
— Не дури головы! Послала баба за хлебом — бери и ступай.
— На кой мне твой хлеб! Я же сказал: пачку «Примы» и бутылку вина.
— В таком случае… — Зина щелкнула на счетах, — гони еще восемьдесят семь копеек.
— Зиночка, дак в долг…
— Не дури головы! — Зина рассердилась. — Живо забирай свой хлеб. — И потянулась за деньгами к следующему покупателю.
Надо было видеть опечаленную физиономию сторожа Куницкого. Даже плечи у него опустились, хоть он и зажимал под мышками по две буханки…
Сейчас он сидит предо мною в потертом сером пиджаке, под которым видна застегнутая на все пуговицы рубашка в крупную «серо-буро-малиновую» клетку, армейских бриджах, в которых он обманул не одно лето и не одну зиму, в новых сандалиях из свиной кожи, купленных скорее всего в «уцененке». Еще в коридоре стащил с головы кепку, помял в темных больших руках, потом с неловкой аккуратностью поклал ее рядом с собою на стул. Загорелое лицо заросло седой щетиною, глаза голубенькие, быстрые, плутовские, ничуть не старые, смущенная улыбка — и та до ушей. Даже через стол до меня доносятся запахи вина и лука, и я думаю — что послал господь на завтрак, пошлет и на вечерю.
Сторожба сторожбою, но в горячую пору, конечно же, он ходит помогать колхозу — за сотки если не ему, так жене положено отрабатывать. Впрочем, сторожба — это так, баловство, отдохновение от дневных забот, никому тот магазин не нужен. Это жене он говорит: «Пошел на службу», — и та проникается уважением. Вон в соседней Букреевке сторожа при магазине нет, но никто ничего пальцем не тронет. Правда, устроили автоматику — проводов понацепляли, коробочек. А может, нам свойственно бояться хитрой машины, как и живого человека?.. Всякие мелкие недоразумения, подобные задержке 30 июня сотрудников магазина и шебуршному визиту хлопцев Филипповых, с легким сердцем мы определяем с ним как досадные помехи в работе. Спал бы себе человек — так нет, «работать мешают»… Словом, Куницкий принадлежит к тому типу простых людей, который пусть не восхищает, но импонирует мне чрезвычайно. Когда же я спросил, отчего он опоздал в сельсовет, он воскликнул: «Дык с конем договорился, каб он сдох! Навоз девать некуда — возил к своим соткам, иху махолку!..»
Я опускаю здесь разговор с Куницким по нашему делу, в том нет особой нужды — он не был предупрежден Ермолик и сразу же дал правдивые показания. «Вот как оно было, товарищ начальник», — с серьезной озабоченностью заключил он.
Куницкий говорлив, мне все время приходилось сдерживать его и терпеливо возвращать к событиям 30 июня. Мои же попытки узнать, как сам он относится к Морковке, Ермолик, Киселевой, окончились безрезультатно. Всякий раз следовал однозначный ответ: «А что? Неплохой человек!..» Или — женщина, девушка, хлопцы… Уже подымаясь со стула, он вдруг огорошил меня вопросом:
— Хочете, я вам козу продам?
— Какую козу?.. — Мне не пристало теряться, но я растерялся.
— Как какую? — Теперь удивился и он. — Обыкновенную. Раньше мы жили не тут, жили в вёсочке, там, за Золотухиным. (Будто я знал, где то Золотухино.) В сорок первом годе, осенью, темно уже было, к моей бабе постучался еврей: пусти, тетка, погреться на печи. А с ним была коза. Этого чертова дива — коз — у нас в вёсочке тогда никто не держал. Пустила баба. А раницей еврей засобирался. «Да куды ж ты пойдешь?.. А козу нашто покидаешь?..» — «Ах, тетка-тетечка! Придут немцы — меня забьют, козу забьют и тебя вместе с нами!..» И ушел. С тех пор и развелись в нашей деревне козы. Переселились в Лукашевку — с собой привели…
Бутылку бы с ним распить, поболтать на крылечке… Я поднимаюсь и, обняв за плечи, провожаю его к двери.
Обедать все же пришлось у Колоколова: тот передал через участкового Полозова, что все готово, стол накрыт, что стынет картошечка, стынет, хозяйка заждалась, и мой повторный отказ выглядел бы неприличным.
— Что ж, надо идти, — полувопросительно сказал я.
— Надо, — сказал Полозов Иван Иванович.
У него здесь, несмотря на близость беспокойного города, все было прежде покойно и мирно. Глухих заборов в деревнях вообще от века не ставили, скотину под замки не прятали, ворот тоже не запирали. Баловали, конечно, сразу после войны, да еще как, но все это не в счет — где тогда было спокойно, если жизнь подчас стоила килограмма колосков или подола мерзлой картошки… Ну, парни задерутся на свадьбе или, скажем, в престольные, в поселке торфозавода из почтовых ящиков регулярно таскают «Советский спорт», тот с женою поцапается, другой навеселе на мотоцикл залезет — таков, примерно, круг лукашевских правонарушений, по ним жить можно. В Лозе, правда, время от времени пакостит человечишко по фамилии Суздальцев, мастер гадить ближнему за шиворот. Этот ночью скосил цветущие помидоры у одного соседа, второму ухнул в колодец ведро солярки, а однажды памятники на кладбище позаваливал. И срок ведь, падло, уже отсидел, чтоб я видел его на одной ноге, а он меня — одним глазом! — отсидел, спалив тещину хату: разложил на полу костер, запер дверь, а затем высадил окно, чтоб пламя не задохнулось. Что же касается гибели Чигиря, то Иван Иванович, не колеблясь, ответил: нет, Лукашевка к ней непричастна. Мне бы его уверенность, сколько времени сэкономил бы…
Иван Иванович запер кабинет, и мы вышли на безлюдную в этот час улицу. Солнце давно сошло с полудня, сияло в белесом, выгоревшем, как ситец, небе, слепило глаза. Его отражали и стены построек из белого силикатного кирпича, и чистые окна, и раскаленная кабина грузовика, стоявшего во дворе чайной, и даже, казалось, сухая пыль на дороге. В сквере, в тени сирени и желтой акации, сидели вялые нахохленные куры с раскрытыми клювами, на выжженных полянах в жесткой желтой траве лениво, коротко отзывались кузнечики, и молчал, точно тоже спекся, репродуктор на столбе.
Колоколов жил на Золотаревской, в двух шагах от сельсовета и торгового центра села. Немолодой сад, огород, цветник, рубленный на чистый угол дом и различные хозяйственные постройки — хлев, сарай с поветкой и тепличка — все это размещалось на положенных сельскому служащему пятнадцати сотках земли.
По скамейке, врытой в кустах смородины, катал обшарпанный грузовичок малыш лет четырех, в панамке и трусиках, — внучек Колоколовых. Увидев нас, он крикнул Полозову:
— Здравствуйте, дядя Катя!
— Вот нерусский! — весело чертыхнулся Полозов. — Семь раз нерусский!.. — И, понизив голос, пояснил: — Катей зовут мою жену. Он слышит все время: Катя да Катя, — вот и решил, наверное, что это фамилия. Или — что?.. Катя в этом доме любимица… Но я не против «дяди Кати», так даже интереснее, мне нравится. Я чуть не заплакал, когда впервые это услыхал!..
На крыльце, вытянув лапы, блаженно спал большущий серый, в белую и черную полоску кот.
— Романов! — укоризненно сказал ему Полозов. — Что же ты валяешься, бездельник?
Кот резво встал, поднял кверху упругий хвост, замурлыкал.
— Рома-анов!.. — гладя его, нараспев приговаривал Полозов. — Ах, какой мудрец!.. Нет, вы посмотрите, какой он мудрец!.. Ах, какой мудрец!..
— Но почему — «Романов»?..
— В честь династии Романовых… А хвост?! Нет, вы посмотрите, какой хвост, какой орган!.. — дурачился Полозов. — Вообще-то в миру его имя «Босяк».
«Дядя Катя», «Романов» — не правда ли, славно?.. Под гимнастеркой у Полозова катаются тугие мышцы, от него исходит ощущение здоровья, целостности, какой-то покамест непонятной мне уютности. И самым полным, пожалуй, определением, применительным к нему, будет «органичность», небеспричинно подзахватанное нашими страждущими современниками. Я думаю, что он, должно быть, счастлив в семье, обожает жену, любит без памяти дочку и доволен работой. Жаль, если пути расследования уведут меня из Лукашевки…
В доме пахло свежевымытыми полами, круглый стол в гостиной, застеленный тяжелой бархатной скатертью и прозрачной пленкой, был заставлен тарелками с домашней ветчиной, салом, салатами. Колоколов достал из холодильника потный графинчик водки, настоянной на длинной — от донышка до горла — ветке зверобоя, да ведь дела, брате, дела, не обессудь, в другой раз. Он был все в той же льняной с лавсаном тенниске, в очках, задранных на лоб, на лице блестела испарина — усердно помогал, видно, хозяйке собирать на стол.
Полозов чувствовал себя в колоколовском доме свободно, как чувствовал, наверное, свободно не только в любом доме лукашевской округи, но и района, области, республики — на своей земле, да ходить с оглядкой?.. «Александра Францевна, — говорил он, заглядывая под края тарелок, — а где же горчица? Не видно горчицы…» Хозяйка, заливаясь краской, всполошенно подхватывалась, но Полозов, успокоительно коснувшись ее плеча рукою, сам шел на кухню, находил горчицу, возвращался, белозубо улыбаясь, густо мазал ею ветчину, промокал слезы удовольствия манжетом гимнастерки и затем, отдышавшись, начинал искать на столе тоже забытый хрен… Дверь с веранды во двор была распахнута, марлевый полог шевелился под легким ветром, надувался, с крыльца заглядывала в дом черная курица, что-то недовольно бурчала под нос. И когда, улучив момент, она подлезла под полог, Полозов встал вытурить ее.
— Куда в лаптях да на паркет? — проворчал он.
Разговор вертелся, разумеется, вокруг событий 30 июня. И более всего меня интересовало участие в них самого Колоколова.
Да, за ним прибежала Тома Киселева, когда мальчишки Филипповы уже разбили в магазине окно и никаким уговорам утихомириться не поддавались. Его же ребята послушались, удалились восвояси, но брали, оказывается, вино около полуночи уже у сторожа — разболтались вконец, безотцовщина, нету на них управы, «пним», прямо напасть.
— Василий Николаевич, — сказал я, — мы затребовали из ГПТУ, где учится старший Филиппов, его личное дело, характеристику. Характеристика неживая, казенная, в ней имеются теперь допустимые тревожные нотки, нелестные оценки. Еще накануне гибели Чигиря они вряд ли были возможны. Но сейчас я хочу сказать вот о чем. Прошлой зимой Александр Филиппов после безобразной пьяной драки попал в вытрезвитель, и в милиции мы обнаружили ваше ходатайство о прощении…
— Не хотелось губить мальчишку, пним, — пробормотал Колоколов. — Ему надо было сдавать экзамены за семестр, а дело пахло судом. Благодаря письму отделался тридцатью рублями штрафа за хулиганство и пятнадцатью — за медвытрезвитель.
— Но наука впрок не пошла…
— Не пошла, — вздохнул Колоколов. — И младшего брата совращает, сцикун.
— Так стоило ли ходатайствовать?
— Ко мне пришла его мать, плакала. Она малограмотная, попросила написать письмо за нее. Я и писал, по-моему, от ее лица…
— Но подписались-то сами…
— Нечаянно, пним…
«Нечаянно…» Эх, голубчик Василий Николаевич, как же «нечаянно», если и по содержанию то письмо — не письмо матери, а ваше, представителя местной власти, и как же нам установить границы, до которых может распространяться подобное милосердие, всепрощающая доброта?..
Но — молчу, молчу, не дело смущать хлебосольного хозяина, ловить на неуклюжих враках, будь оно все неладно. Самое время переключиться на погоду…
Он вошел, чем-то предварительно брякнув в коридоре, от порога, закрывая за собою одной рукою дверь, уже тянул вторую, встряхнул мою — мне показалось, тоже с шумом, и вопросительно, с участием заглянул мне в глаза.
— Салют изо всех батарей!.. Рад с вами познакомиться, Дмитрий Васильевич!.. Прибыли на подмогу местным сыщикам?.. Леонид Грибонеедов, — представился он, громко дыша.
— Грибонеедов… В отличие от Грибоедовых вы, что же, в самом деле не едите грибов?
Я порядком уже устал, мною владела послеобеденная вялость, и этот свидетель в замасленном, расстегнутом на узкой груди комбинезоне со своим живым и, наверное, взбалмошным характером был как нельзя кстати.
— Где там к черту! — бранчливо возразил он. — Только что уплел целую миску мачанки из лисичек! Пан сдурел, дав такую фамилию моим предкам. В вашей фирме, между прочим, не найдется миноискателя?
— Что? — изумился я. Вялость как рукою сняло.
— Миноискателя, — повторил он. — Пан на своей усадьбе закопал золото, это как пить дать, а где — никто не ведает. Мой дед, а он до тридцать девятого года служил кучером у пана, рылся в земле, пока были силы, но ни рожна, если можно так выразиться, не нашел. Теперь сидит в валенках на печи, телевизор смотрит, изводит разговорами об этом кладе. А с помощью миноискателя мы б его быстро — того, — ковырнул он большим пальцем в воздухе.
— А ваш дед, он как насчет… того? — с надеждой спросил я.
— Ну что вы! Душа у деда младенческая, но память!.. Все сказки Пушкина помнит назубок! И, разрешите вам сделать замечание, — «Пана Тадеуша»!
— Ну, хорошо, подумаем на досуге, — пообещал я. — Да вы садитесь, разговор у нас долгий.
— Спасибо, Дмитрии Васильевич! — дернул он головою, сел на стул и тотчас отъехал на нем с грукотом от стола.
— Не за что, Леонид Федорович, — в тон ему сказал я, скосив глаза на протокол допроса Вариводою: все верно, я не ошибся — его звали Леонидом Федоровичем. — Ваш дед возил пана, а вы — председателя?
— Уже отвозился, Дмитрий Васильевич. Теперь я автослесарь. ГАИ лишила прав.
— Надо полагать, справедливо?
Грибонеедов аж подскочил, опять стукнул стулом, коротко вздохнул, словно ему был задан донельзя детский вопрос, и торопливо, снисходительно объяснил:
— Но, Дмитрий, Дмитрий Васильевич! У меня же мать на руках, дед и трое пацанов! Орлы едят, как за себя бросают! Справедливо!.. — фыркнул он. — Но ничего, я оптимист — у меня есть ранчо, а на руках миллион специальностей. Работал на бульдозерах, на экскаваторах, автокранах — я ж грузы поднимал! А в юности бочки ладил, бобров ловил, был пожарным, составителем поездов и даже, представьте себе, каюром — возил почту по таймырским стойбищам. Нарты, дюжина свирепых псов, мешок вяленой рыбы, мороженое мясо, карабин про запас — романтика!.. Домой я вернулся немного писателем, и с тех пор про меня говорят: Джек Лондон из Лукашевки. Словом, проживу!
— Дай бог вам удачи… Однако Тимофей Морковка, не имеющий шоферских прав и будучи вдобавок в подпитии, с вашего ведома ночь напролет катался на машине, за которую отвечаете вы…
— Наша Морковка хоть и плюгавенькая, а с брюшком.
— Такое уж он для вас и начальство, — усомнился я.
— Ого, Дмитрий Васильевич, не скажите! С ним, дело прошлое, ездить в район одна морока. За сигаретами из машины не вылезет, все бегай шофер!
— А вы б не бегали?
— Так посылает!
— Ему самому впору бегать за сигаретами для вас — он почти в два раза моложе.
— Так я ж не курю!
— Ну, коль не курите, тогда бегайте, — сказал я, дивясь логике Грибонеедова. И как только он, наивный, нескладный, расхристанный, живущий словно впопыхах, мог разъезжать по тундре на нартах, где еще не так давно встречи с белым медведем или «полосатиком» не были редкостью, мог сидеть за рычагами экскаватора, автокрана и уж тем более водить машину сегодня, когда, как горох из мешка, высыпали «жигулята», соображал между делом я. Или преображается за рулем и дорога дисциплинирует его?.. Миноискатель, скажите на милость! Идея о кладе, подброшенная деду телевизионным «Экраном приключенческого фильма», ожившей памятью о роскошных панских покоях с зеркальными половицами, амбарах под островерхими бордовыми черепичными крышами с розовыми от рдяного низкого солнца сизарями на коньках, о выездах, охотах, парковой культуре и карповых прудах на немецкий лад, об отопляемой застекленной теплице с ранней зеленью, печатке с панским факсимиле, напольных часах с золотым блюдцем-маятником в гостиной, и одночасье, по разумению деда, затолкнутых в кубышку, эти бриллианты, так сказать, для диктатуры пролетариата — не могло же, в самом деле, все бесследно пропасть, испариться, сгинуть! — и воплощение этой идеи непоседой внуком. Что стар, что млад!..
— Леонид Федорович, почему, кстати, вы оставляли машину у себя во дворе, не отгоняли в гараж?
— До гаража два километра — он на новой колхозной усадьбе. А председатель живет рядом со мною, через пять дворов. Карета может потребоваться в любое время суток: «Леня, подай машину!..»
— Когда вернулся Морковка, вы выходили к нему, разговаривали?
— Я его отчитал! Я бываю очень сердитым! — И надул худые щеки, как хомячок. Но получилось это совсем не страшно.
— Как же он реагировал?
— Да никак.
— Был пьян?
— А кто его знает… Вообще-то он всегда прямоходящий, его трудно свалить. Во всяком случае, пизанским я его не видел.
— Падающим, как Пизанская башня, что ли?.. — не сразу понял я. — Паустовский, возможно, похвально отозвался бы об образности вашего языка…
— И — о воображении. Например, работая шеф-поваром в целиноградском ресторане, я изобрел суп из зеленого горошка. А позже узнал, что у французов, оказывается уже разработан рецепт аналогичного супа и называется он «суп Сен-Жермен».
— Вы и поваром были?
— Кем я не был, так это космонавтом, — хмыкнул Грибонеедов. — Но вам это известно из газет. А вот актером, правда, в любительской труппе, был. Я играл Фирса. Не пропаду!..
— Еще бы, с таким набором самых разнообразных и неожиданных профессий. У «домушника» в чемодане отмычек меньше… Но вернемся, Леонид Федорович, однако к Морковке. Давно он у вас квартирует?
— С год приблизительно.
— Стало быть, у вас должно сложиться определенное мнение о своем постояльце. Что вы можете сказать о его привычках, слабостях?..
— Так я уже все сказал. Гонорливый малый. И, если вас это интересует, — недалекий. К политике равнодушен, в литературе, театре, живописи не смыслит ни бельмеса. За год не посмотрел ни одной программы «Время». Говорить с ним просто не о чем… Помните, что сказал Аракчеев, узнав о вторжении Наполеона в Россию?
— Нет, не помню… Не знаю.
— Что мне до Отечества, воскликнул Аракчеев, скажите, не в опасности ли государь?! Аналогично мыслит и Морковка. Только мелкомасштабно, местечковыми категориями. Или это — до поры до времени? Словом, деньги, тряпки, девочки — вот и все его пристрастия.
— Ну, это не так уж и мало, — уронил я, думая о своем. — Он питает слабость к женскому полу?
— А кто ж ее не питает! Разве что больные люди… Не поверю, чтоб вот вы, например, никогда не блудили хотя бы в мыслях, поневоле, были бы исключением. Признайтесь, признайтесь, не ханжествуйте! Но вы — человек интеллигентный и, надеюсь, умеете держать себя в узде, и потом — у вас на правой руке колечко, а он — не интеллигентный и вдобавок холост…
И вдруг насупился, умолк, ушел в себя. Смотрел в пол, дергая тонким нервным носом и гоняя по скулам желваки. Что за внезапные смены настроения…
— Леонид Федорович… — напомнил я о своем присутствии.
Он мотнул головою, выпрямился на стуле.
— Разболтался я, как три бабы у колодца, — с искренним сожалением произнес он. — Даже противно!.. Не люблю говорить о человеке за глаза, ведь земля тебя услышит и ему передаст… Отпустили бы вы меня на сегодня с миром, а? Пойду хлопну рюмку русской горькой, хоть я и трезвенник, — нервы шалят…
— Ну что ж, ступайте, хлопните.
Грибонеедов аж просиял.
— Дмитрий, Дмитрий Васильевич!.. — воскликнул он с жаром. — Я окажу вам посильную помощь, не сомневайтесь, пожалуйста! С этим делом, я ж понимаю, надо кончать. Я ж понимаю, что благополучие общества зависит от каждого из нас, от нашей доброй воли! Мы ж не в Америке, где безнаказанно щелкают даже президентов, прямо как в ольховатском тире — железных осликов и слоников. Я помогу во всем, в чем только смогу, — не сомневайтесь! Дмитрий, Дмитрий Васильевич!.. — говорил он с чувством. — Всего вам доброго, прощайте или простите — это все равно, как сказал умирающий Даль своим сыновьям. До свидания, держите пари!.. — И пожал мне, вновь сбитому с панталыку, руку.
Наверное, это «держите пари» вылетело случайно, вместо «по рукам». Впрочем, чеховский Фирс тоже ведь ляпал нередко невпопад…
— Леонид Федорович, — остановил я его у порога, — не припомните, как там было у Фирса…
— У пирса? — на лету подхватил он. — Когда мы пришвартовывались к пирсу с полным трюмом рыбы, — а я сперва плавал юнгой, или на языке моряков «ложкомоем», это потом уже третьим механиком, — когда мы пришвартовывались, то кричали девушки «ура» и в воздух шапочки бросали!..
И опять пошло-поехало… Грибонеедов, изображая тяжело груженный СРТ, подняв согнутую в локте левую руку — это была, надо полагать, мачта, — и загребая правой, описал от двери полукруг, «пришвартовался» к моему столу…
Вряд ли он в свое время слушал суфлера. Но зритель смеялся и в обиде не был — любительский спектакль с участием Леонида Грибонеедова…
Держать «конец» я не стал.
3
Из Лукашевки я возвращался машиной, присланной Вариводой. Наши шоферы — люди воспитанные, без надобности разговоров не начинают, и если тебе угодно молчать — пожалуйста, молчи, в претензии мы не будем. Я и молчал, уже наговорившись досыта, и неспешно думал о проведенном в Лукашевке дне. Лишь однажды шофер, с лица застенчивый, смешливый и юный, из армии, видно, недавно пришел, нарушил молчание. Над полем низко — из рогатки достанешь — кружил «кукурузник», опылял картошку, зараженную, судя по всему, колорадским жуком (огороды, окаянный, хотя бы не зацепил, сады не опылил!), потом сел за копанями возле небольшой деревни, пробежал к темной купе старых деревьев и стал. Должно быть, вышли ядохимикаты. Шофер, проследив за моим взглядом, усмехнулся:
— Там магазин. У летчика «Прима» кончилась…
Я улыбнулся. «Прима» так «Прима», и полез в карман за той же «Примой», гродненской — иных сигарет не курю, только в крайнем случае.
Да, но что я увозил из Лукашевки?
Прежде всего уверенность, что покамест мне ясно, что многое не ясно. Например, почему Ермолик именно 30 июня передала под расписку деньги Чигирю, если прежде подобного не бывало?.. (Сама пригласила его на работу, давно знала его и — под расписку…) В какое время она и Морковка приехали в Ольховатку, в какое расстались?.. Где и чем занимался Морковка всю ночь на 1 июля?.. И так ли уж безобидно окружение Киселевой, как хотелось бы думать?..
Ермолик всеми силами пытается отвести следствие от Лукашевки, нервничает, но в то же время ведет себя так, будто у нас не может быть подозрений на ее счет… Киселева, напротив, спокойна, хотя и понимает, что у нее с алиби дело похуже, чем у других… Ермолик терпимо, даже с каким-то материнским покровительством относится к Морковке, Киселева — с очевидным презрением, но обе не допускают мысли, что Морковка может иметь какое-либо касательство к убийству. Тот же малодушничает, недвусмысленно намекает на Киселеву и, если потребуется, готов, пожалуй, обвинить и Ермолик, продать весь божий мир — лишь бы выпутаться самому…
Мне претило думать, что Тамара Киселева соучастница преступления, скажем, наводчица, пусть даже невольная. Она не настолько наивна, за внешней ее холодностью, за кажущейся, мнимой неразборчивостью в связях — по-моему, здесь во сто крат больше зависти, сплетен, нежели правды, — таилась душа чистая, целомудренная, я не сомневался в этом. Она носит маску некоего пренебрежения, если не высокомерия, и это понятно, девочка избалована чрезмерным вниманием мужчин, ей это льстит, как льстит всякой нормальной женщине, в противном не устоял бы мир, но она успела подустать к своим девятнадцати годам, и что-то дальше будет?.. Впрочем, зачем загадывать, Дмитрий Васильевич, твои пророчества никому не нужны, от них ничего решительно не изменится, обратись-ка лучше к нынешнему дню.
Братья Филипповы… Этих мальчиков мы с Вариводой исключили из наших списков почти напрочь, несмотря на ералаш, который они подняли в магазине. У меня еще сидел Грибонеедов, мы перебивались с ним с разговора по существу на разговоры на отвлеченные темы, на тары-бары-растабары, когда на улице раздалась джазовая музыка. Она приближалась и, громкая, бесцеремонная, истязала душу. Это со включенным магнитофоном к сельсовету шествовали братья Филипповы. Ни минуты без музыки, как «ни дня без строчки»…
Я допускал, что они вот так же заявятся и в мою комнатушку, но нет, выключили на крыльце.
Мальчишки погодки, старшему семнадцать, учится в ГПТУ, младший бросил школу, лынды бьет, но нынче намеревается вроде бы тоже пойти в училище. Оба белобрысы, румяны, высоки, я со своими ста восемьюдесятью сантиметрами чувствую себя возле них неуютно. Легкие рубашки навыпуск едва скрывают юношескую хрупкость, худобу.
Да, согласны, они некрасиво вели себя вечером 30 июня, но кто же думал, что так трагично закончится тот день… К Чигирю у них никогда никакой вражды не было, хороший был дед, честное слово, товарищ следователь, и мать хорошая, и бабка ничего, жалко их, но что поделаешь, коль в одном месте ветер свищет…
30-го, позавтракав, они отправились в лес по землянику. Набрали двухлитровый бидончик. На обратном пути, примерно, в полдень, завернули в поселок торфозавода, где живут знакомые ребята, — проголодались, захотелось хлеба, лука, огурцов с грядки. Но на самом краю поселки их остановила Вера, молоденькая женка заводского механика, что ли, они ее плохо знают: «Хлопчики, мне помощь нужна, а муж — на беду — в командировке…» Работа оказалась пустячной, однако веселой: предстояло выгнать из дома мух, налетевших от близкого хлева. Но хозяйка усадила их сперва за стол, налила под яичницу по стопарику самогонки. Потом сама — «вы мне все горшки с цветами посбрасываете», — приставляя табуретку, лазала по подоконникам, маленькая, крепенькая, тянулась к гвоздям, прибитым под потолком: занавешивала постилками окна. И, наконец, распахнув двери, со смехом сообща выгнали мух из затемненных комнат. Потом снова сидели за столом, ели землянику, жгли свечку, слушали негромкий проигрыватель…
Да, верно, выпив вина, чувствуешь себя взрослым… «А как, по-вашему, чувствует себя взрослый, выпив вина?» — «Ну как…» — растерялись, не приходило прежде в голову…
Хозяйка встала сполоснуть бидончик из-под земляники, Павлик тоже было встал, но зацепился за ножку стола. «Знать бы заранее, где упадешь, соломки бы подослала!..» — засмеялась Вера (гороховой, зло подумал я, — на ней курчавые детки получаются). Вера попыталась устроить Павлика на тахте, Саша стал помогать ей, но тоже загремел. «Эх, мужик!..» — в сердцах сказала Вора. Кончилось тем, что раздосадованная хозяйка выпроводила их в конце концов домой: «Шагайте и по-быстрому…»
А потом был обоюдный провал в памяти, развезло, видно, по дороге, ведь солнце еще припекало, около восьми, оказывается, озоровали в магазине, разбили стекло, оскорбили Дениса, заведующую. Потом спали в пуньке на сене и в одиннадцать, пробудившись, слушали «Маяк», огорчились из-за проигрыша минчан и оттого пошли в сторожку к дядьке Куницкому за вином. Эта старая шельма знает свое дело туго: вино дает с готовностью, но с пятидесятикопеечной наценкой, будто в ресторане. Если же в долг, наценка увеличивается до рубля. Наутро обе порожние бутылки из-под дешевого «Вермута» были предъявлены следствию, круг замыкался…
Сегодня, во время этих моих бесед, в Лукашевку дважды звонил Варивода. «Я ведь чего звоню?.. — невозмутимо сказал Михаил Прокофьевич. — Я только что узнал из газет, что минское «Динамо» вновь продуло. Представляешь?..» Я не представлял, поскольку не очень-то интересуюсь футболом. Михаил Прокофьевич, кажется, тоже был не ахти какой болельщик. Просто подал голос, не вылущилось ли случаем зерно. «Ну и как там на Западном фронте?» — без всякого интереса в голосе спросил он затем. «На Западном фронте без перемен…» (Лукашевка и в самом деле была к западу от Ольховатки, и сейчас наша черная «Волга» катила аккурат на склоняющееся к горизонту солнце.) Мы шутливо, как придется, кодировали разговор, потому что не было в общем-то особого доверия к телефону, тут всякое может быть и поберечься не мешает. (По телефону, кстати, каким-либо образом могла быть передана в Ольховатку информация о деньгах в кармане Чигиря…) Мы обращали наш разговор в несерьезный внешне треп еще и потому, что покамест не было неожиданных, обнадеживающих результатов, что червячок совести, как ни крути, точил нас, и юмор, пусть не всегда удачный, хоть немного, да поддерживал «морально-боевые силы личного состава», если прибегнуть к языку нынешних военных…
Мы въехали в Ольховатку, старую часть города — сады, заборы, кирпичные и деревянные дома, колонки у перекрестков. Где-то здесь проживала Ермолик.
— А что, братец, — сказал я шоферу, — кроме этого шоссе есть какая-нибудь дорога на Лукашевку?
— Да, проселок, бывший шлях.
— Час от часу не легче!..
— Но я не знаю, можно ли по нему проехать. До армии ездил, два года назад, а теперь не приходилось. По шляху ближе, ведь шоссе прокладывали на Покровск, а на Лукашевку бросили ответвление… То есть проехать-то проедешь, но душу на колдобинах вытрясешь. — И, помолчав, спросил: — Куда вас отвезти?
— В гостиницу, — отвечал я. Надо было принять душ, слегка передохнуть, прежде чем идти в КПЗ. — А вы можете возвращаться в прокуратуру.
На площадь, на которой размещались райком, исполком, гостиница и несколько магазинов, из боковой улочки вывернула «скорая». С сиреной и включенной мигалкой, она пошла на красный свет светофора, лавируя в поперечном потоке враз сбросивших скорость машин и напоминавших сейчас понуро разбредшееся стадо. Я ведь и сам нередко езжу на машинах, оборудованных синими мигалками и сиренами, правда, на машинах милицейских, и нам вот так же уступают дорогу, и мы вот так же летим на красный свет. Но всегда, когда вижу «скорую» (почему-то кажется, что и она попала в беду), когда я ощущаю ее требовательность, нетерпение и одновременно мольбу о прощении за поднятый на улице переполох, мне бывает не по себе. Жалко человеков, дай-то бог здоровья всем добрым людям…
Мой номер, однокомнатный, с телефоном и крошечной «сидячей» ванной, был на третьем этаже в конце коридора, сразу за «люксами». С одним из этих «люксов», под № 323, на моей памяти была связана прескверная история — истории не скверные, увы, это ведь не для нас, они больше подходят газетчикам.
Я уже работал старшим следователем, но занимался не преступлениями против личности, как сейчас, а расследованиями хищений социалистической собственности. Впрочем, классификация преступлений у нас довольно условна, ибо они нередко смыкаются, это, как правило, звенья одной цепи.
Мы гонялись по нескольким смежным областям за ловкими авантюристами, и эта погоня привела меня в Ольховатку — следовало установить, как, когда и через кого в руки преступников попали в большом количестве этикетки, отпечатанные местной типолитографией и предназначенные для консервов ольховатского мясокомбината. Дело в том, что то в одном городе, то в другом на оживленных улицах внезапно появлялись лотки, с которых торговали мясными и рыбными консервами, расфасованной в полиэтиленовых мешочках красной икрой. Товар, естественно, шел нарасхват и уже через полчаса кончался. За лотками прибывал «Москвич»-пикап, и все следы тотчас простывали. А в мешочках вместо красной икры изумленные граждане обнаруживали подкрашенное вареное сорго в банках вместо кеты, горбуши, крабов, тресковой печени, свиной или говяжьей тушенки — зеленый горошек, кабачковую икру, перец, баклажаны или голубцы. Подобным образом несколько сотен банок кабачковой икры, благо хоть качественной, сошло за свиную тушенку ольховатского мясокомбината. Преступников изобличили тогда не в Ольховатке, за тысячи километров от нее — обо всем этом я вспомнил лишь потому, что в ту пору мне пришлось заниматься одновременно и историей вокруг номера 323.
А суть ее такова.
В одной благополучной семье вконец отбилась от рук дочь-десятиклассница, променяла школу на легкие знакомства. Как-то среди дня ее мать забежала домой посмотреть, чем занимается доченька, в какой компании курит «БТ», зубрит фразы по русско-шведскому разговорнику, но квартира была пуста. Тут затрезвонил телефон. «Машка?» — спросил мужской голос. «Да», — ответила мать (ее голос был очень похож на дочерин, даже старые знакомые путали). «Это я, Сеня Фолитарик. Уже четко четыре часа, а тебя все нет. Мы же ждем…» — «Но я не могу сейчас, я могу в семь». — «Ну ты даешь!.. Ладно, приедь хоть к семи». — «А куда?» — «Как договорились… — удивился голос. — В гостиницу… И Лелю, конечно, прихвати». — «Ясненько, ясненько», — игриво сказала Машкина мать любимое словечко дочери.
Она печально знала эту голенастую девицу по имени Леля, и оттого знала ее родителей, уважаемых людей, бывших партизан, и сразу же поехала к ним. А потом — вместе с ними в гостиницу. На вопрос, в каком номере проживаем Фолитарик, дежурный администратор ответила, что он здесь не проживает, он здесь работает — сантехником, надо спуститься в цокольный этаж, там его обитель.
Сеня Фолитарик — прыщеватый человек лет тридцати, в бакенбардах, с крупным серебряным перстнем на мизинце — оказался в своей комнате, накручивал диск телефона.
«Девочек ждешь?!»
«Нет, каких девочек?..» — опешил он.
«А Машку?! А Лелю?! Так вот, она — это Машка, а я — это Леля!.. Гад, да мы такую мразь из автоматов стреляли!..»
Тут заверещал телефон. Машкина мать опередила растерявшегося Фолитарика.
«Маша, ты? И Леля с тобой?.. Умнички!.. Так поднимайтесь ко мне, 323-й «люкс»…»
Лелин отец побежал за милиционером, мамы понеслись в 323-й. В номере из-за столика с приготовленными коньяками и закусками им навстречу встал респектабельный господин, давно перешагнувший сорокалетний рубеж; ослепительная улыбка застыла на его смуглом лице жалкой гримасой. Нервы мам не выдержали, лицо расцарапали они этому господину. «В Одессе фрайеру везет, да?! На деньги и на шалав?!» Досталось и коридорной: «Ты что же, гнида, за мандарины несовершеннолетних девчонок в номера пропускаешь?!» Сбежалась вся гостиница, главное поняла, мнения разделились. Оскорбленный фазан прыгающими пальцами все пытался набрать экстренный номер милиции. «Да вот и милиция!» — истерично крикнула ему Лелина мать, указывая на подоспевших мужа и милиционера.
При обыске у мошенника изъяли десять месячных командировок с Кавказа в Ольховатку.
«А ты, оказывается, смелая у меня, мать, — сказала потом Машка. — Ты не представляешь, с кем связалась».
…Я прошел в свой номер, разделся и залез под душ.
Покамест я думать не думал, что и на этот раз, в этот мой приезд в Ольховатку, судьбе будет угодно подсунуть мне новое, дополнительное дело, самым тесным образом переплетенное с делом по убийству Дениса Андреевича Чигиря.
4
Первый этаж гостиницы занимал ресторан, и я спустился наспех перекусить.
Народу было совсем немного, но уже появились оркестранты, принялись настраивать свои инструменты, которые я лично воспринимаю, как орудия пыток.
Я покопался в меню, пытаясь определить, в каком мясном блюде будет больше этого продукта, и заказал шашлык и под бутылку лидского пива маринованную салаку с луком. Шашлык был неплох, пиво — превосходное, а насчет рыбы вспомнилась реплика чиновника из «Дамы с собачкой»: «А давеча вы были правы: осетрина-то с душком!..»
— Что-то я не вижу перца, — полозовским тоном сказал я официантке, без всяких впрочем претензий.
— У нас нету перца, — поджала губы официантка, худая, моих, примерно, лет.
— В ресторане? Странно…
— Может, мне на свою зарплату покупать вам перец? — В голосе ее сквозит раздражение. А ведь напрасно раздражается — не о перце у меня забота. — Вы сколько получаете?
Что я мог ей сказать?
— Много, — сказал я.
— А я восемьдесят рублей!
— Не учились?
— Почему не училась? Училась. Восемь классов кончила…
Вряд ли, от силы семь.
— …рано пошла работать — нам трудно жилось.
— И я рано пошел работать. На стройку, по первому разряду. Нам тоже жилось несладко.
— Молодая была, по вечерам бегала на танцы… — Она говорила все доверительней — чем я только расположил ее к себе?..
— Вот здесь наши дороги и расходятся. Я тоже хотел бегать на танцы, а ходил в вечернюю школу. Потом заочно окончил строительный техникум и, продолжая работать мастером, снова…
— Снова учились?!
— Да.
— Зачем? Ведь была же на руках специальность, и хорошая…
— Теперь нам трудно понять друг друга. Работал и учился заочно на юридическом… Всего, значит, на учебу ушло восемнадцать лет… Если честно, когда вы прочли последнюю книгу?
— Не помню… Я телевизор смотрю.
— Вот вы получаете 80 рублей… Плюс — питание, так?.. Плюс… идете с работы домой — две сумки с продуктами небось тащите, — лошади оборачиваются. Разве не так?
Официантка замялась.
— Ну а вам-то какое дело?
— К сожалению… — вздохнул я. — Да ко всему прочему — плюс «навар»…
— Ну, я человек скромный! — Она уже возмутилась. — Я не как другие… Я всего лишь на пятерку «навариваю»!..
Наконец ее позвали к соседнему столику, и она, взъерошенная, колючая, оставила меня наедине с моими мыслями.
Я заблаговременно планировал встречу в КПЗ с лукашевским трактористом Гуриным. Ранее судимый, он был доставлен 30 июня в ольховатский медвытрезвитель, но наутро, после безмятежного глубокого сна, не был отпущен восвояси, поскольку накануне дебоширил на станции, расквасил стрелочнику Сидоренко нос и, сдернув с пожарного щита багор, ходил с ним в пиковую атаку на пассажиров. Гурину было предъявлено обвинение в хулиганстве, из вытрезвителя его переправили в КПЗ. Затем состоялся суд, и теперь Гурин ожидал этапирования в колонию. Гурина задержали в 11 вечера, и поэтому по отношению к делу о Чигире у него было стопроцентное алиби — Денис Андреевич скончался почти на час позже. Но Гурин некогда работал на станции, последний год снимал угол в Лукашевке и хорошо знал покойного. Я не питал особых надежд на встречу с ним, однако совсем уж сбрасывать ее со счетов было бы опрометчиво.
Сейчас же, после краткого разговора с Михаилом Прокофьевичем по гостиничному телефону, встреча с Гуриным стала прямо-таки необходимой. Из разговора я понял, что все время после задержания Гурин находился в камере либо в одиночестве, либо в компании людей, доставленных в ольховатскую КПЗ из других районов, что свиданий у него не было — никто даже не просил, следователю, ведшему дело, было предложено если говорить о Чигире, то лишь вокруг да около и ничего конкретно, а коль так, то о трагедии с Чигирем Гурину до сих пор ничего не должно быть известно.
Я неспроста написал «до сих пор»: теперь он мог уже знать — после полудня к нему подселили Федора Шадурского, того парня, с которым я столкнулся утром в дверях прокуратуры, — собранных улик оказалось более чем достаточно, чтобы взять его под стражу (тут и угон двух мотоциклов, и кража в буфете при столовой — сигареты, шоколад и пятнадцать бутылок вина, и ограбление газетного киоска — опять же сигареты). Быть того не могло, чтобы «человек с воли», не очень-то огорченный арестом, предстоящим судом и заключением на год или два, мальчишка, чувствующий себя героем всей Ольховатки, не похвастал бы перед «другом по камере» своими похождениями, проделками знакомых, близких и не близких, всем, чем наслышан и от чего приходит в сладостный озноб непутевая его душа.
В деле Гурина я натолкнулся на собственноручно написанную им «Автобиографию». Это был мятый лист бумаги (умудрился же помять!), исписанный неразборчивым корявым почерком, точно какая-нибудь графическая копия с какой-нибудь берестяной псковской грамоты. Но содержание было вполне современное.
— Дежурный по вытрезвителю велел клиенту Гурину, когда тот проспался, дать письменные показания на тему, как он провел день 30 июня, — усмехнувшись, пояснил Михаил Прокофьевич. — Так он сочинил. «О дружбе, о товарищах и о себе».
Решив включить этот любопытный документ в мои записки целиком, я выправил орфографию и пунктуацию — в противном докопаться до смысла хватит терпения только у очень старого-престарого китайца. Итак,
«Автобиография.
Я, Гурин Геннадий Павлович, родился в Ольховатке (тогда она еще не была городом) в 1947 году. В 1954 году пошел в школу, окончил семь классов в 1964 году, так как пошел работать.
С Попковой Надеждой прожил три года, имею от совместной жизни дочь. Жили у тещи, поэтому отношения были неприязненными. И сама Попкова — только официально колобок, а натурально — деспот. И однажды я забрал из холодильника пачку пельменей и навсегда покинул дом.
Я познакомился с женщиной, девичья фамилия которой Ловецкая, а по мужу Роль. Поскольку она разводилась с мужем, отношения у нас были дружескими. В это время пришла повестка явиться в суд по поводу алиментов. На суде я повел себя не так, как положено, и получил 7 суток. После этого был зол на жену и сказал знакомому Ивану по фамилии Кривец, трижды, вернее, четырежды судимому, что знаю продавщицу ларька, которая носит выручку с собой. Я показал ему жену, которая шла с работы, и он взял у нее 475 рублей. Кривцу дали шесть лет, а мне — пять.
Когда я освободился, то зажил трудовой жизнью коллектива. Вчера приехал в Ольховатку купить будильник, чтоб не просыпать на работу, и зашел на стадион выпить пива. Ларек оказался закрытым изнутри. Я постучал в перекладину рамы. Находящаяся внутри женщина замахала руками, и стекло оказалось у меня на ногах или под ногами. Подошли два человека, якобы дружинники, изъяли у меня водительские права и составили акт. Я поехал на вокзал, где встретил Арсена Назарова. Потом хотел ехать домой, а дальше не помню.
15 руб. обязуюсь уплатить.
К сему — Гурин».
И — дата: «1 июлья».
— Сейчас к нам приведут этого субчика, — сказал Михаил Прокофьевич и, приоткрыв дверь, бросив дежурному милиционеру: «Гурина, пожалуйста!» — пошел было обратно, но вернулся к двери: «Но сперва бы чаю!..» — И потом кряхтя протиснулся за стол.
— Что говорит Шадурский о Чигире? — спросил я, уверенный, что такой разговор состоялся, и неоднократно.
— Утверждает, что знает об этой истории не больше, чем какая-нибудь ольховатская сорока. — Михаил Прокофьевич подтолкнул ко мне дело Шадурского. — Дескать так, слышал звон, но не знает, где он, что имя покойного для него ровным счетом ничего не значит. Этого следовало ожидать.
Чай принесли в эмалированных железных кружках, переслащенный, чуть теплый, пахнущий отваром палой листвы.
— Ты что же, новенький? — вкрадчиво сказал Михаил Прокофьевич дежурному.
— Новенький, — сознался сержант.
— Прошу тебя, запомни, пожалуйста: чай желательно подавать в стаканах тонкого стекла, круто заваренный в крутом кипятке, а сахар — отдельно.
— Не положено, — виновато потупившись, обронил сержант. — В стаканах не положено, — добавил он.
— Фу ты, я и забыл, где мы… — Михаил Прокофьевич насмешливо глянул на зарешеченное окно. — Как пишут во французских романах, дом был меблирован в стиле эпохи Людовика XIV. Впустить-то нас сюда впустили, но как же выйти-то, вот незадача… Вытаскивай, Дмитрий Васильевич, пояс из брюк, он тоже тут не положен. Засадили горемык без суда и следствия… Креста на тебе нету, понял? — Это уже опять вконец растерявшемуся сержанту. — У вас там в шкафчике должны быть три стакана, моих собственных, купленных на трудовые сбережения, но в тайне от жены, то есть с риском для жизни, и пачка рафинада, если только собакам не скормили… Ладно, окажи любезность, Гурина приведи…
Вид у Михаила Прокофьевича был утомленный. Рабочий день кончался, а работа у следователя — далеко не увеселительное времяпрепровождение, да и года брали свое. Михаил Прокофьевич очень смахивал сейчас на гувернера, доброго и ворчливого домашнего дядьку.
Мы, конечно, успели переговорить с ним об этом уходящем дне.
Гурин оказался высоким нескладным малым с неряшливой густой чуприной, прямым длинным носом, длинными руками, впалой грудью, острым адамовым яблоком и неспокойными темными глазами. Он был в тапочках и «выходном», незасаленном «хебе» — в этом костюме его задержали, из кармашка пиджака торчал обломок голубенькой расчески. Это был не тот человек, который мог бы представиться по «Автобиографии», и здесь нет ничего удивительного. Сноровистый катать колесные пары вагонов, привычный к тракторам и машинам, вообще — к железякам, он испытывает робость перед листом чистой бумаги, плетет черт-те что и потом сам поражается своему сочинению. В душе у меня шевельнулась жалость — вот прожил человек тридцать лет, родных схоронил, семью потерял, мужал на лесосеке да в пивных, друзей не завел, и никто не пришел к нему даже справиться: «Ну что же ты, Гена, сумасброд малахольный, дурень великовозрастный, а?.. Снова на прямой плацкарте в острог?..» Итоги грустные, согласитесь.
Мне почудилось, что Гурин был подавлен, и я не ошибся.
— Как же так, — хмуро, с укором произнес он, — Дениса убили?.. — И обвел нас воспаленным взглядом.
Мы переглянулись с Вариводой. Мы промолчали, но умолк и он, опустив голову. По улице проехала машина, донеслась приглушенная расстоянием музыка. Кажется, я слышал тиканье моих часов.
— Его убили 30 июня, вечером, около вокзала, — осторожно сказал я наконец.
Гурин поглядел на меня непонимающе и недоверчиво.
— А вас забрали именно тридцатого, вечером и на вокзале…
— Вон чего, — горько усмехнулся Гурин. — Пьяный, я в основном пугаю людей, а трогать не трогаю. К тому же — разве ногами, обутыми в тапочки, человека убьешь? — И выставил ноги в брезентовых тапочках. — Тут каблуки по крайней мере нужны, подковки…
Боже, я действовал против правил, создав у Гурина иллюзию, будто мы вправе подозревать его, для достижения цели не все средства хороши, и я был готов покаянно пасть перед ним; я был готов и плясать от радости, услыхав бесценное его сообщение. Но вместо всего этого, столь бесхитростного и человечного, был вынужден держать себя в руках, оставаться холодным, непроницаемым и трезвым до тошноты, черт бы все побрал в самом-то деле! Ведь до сих пор мы не знали, что Чигиря били ногами, но об этом, выходит, со слов Шадурского знает Гурин. Судебно-медицинская экспертиза обнаружила на ранах Чигиря следы слабой металлизации, что наводит на мысль о подковках, но только — наводит. Тут же категоричное: били ногами в тяжелой, с подковками обуви!.. Металлические предметы, найденные в районе места происшествия — на улице, в близлежащих дворах (сломанный разводной ключ, анкерный болт, скоба, кусок дюймовой трубы, арматурные прутья), изъятый у Волосевича свинцовый наладонник — все это было отвергнуто экспертизой.
«Подписка
Мы, нижеподписавшиеся, судебно-медицинский эксперт области кандидат медицинских наук Карасев В. Ф., судебно-медицинский эксперт Ольховатского района Семенчиков В. П., судебно-медицинский эксперт г. Ольховатка Михайловский Л. М., назначенные постановлением следователя Прокуратуры экспертами по делу об убийстве гр-на Чигиря Д. А., предупреждены об уголовной ответственности по ст. 177 УК БССР за дачу заведомо ложного заключения.
Карасев,Семенчиков,Михайловский».
— Каблуки нужны, подковки, — повторил Гурин. — Вы это знаете не хуже меня. И не такой уж я конченый человек, чтоб идти… чтоб совершить… — Он облизал сухие губы. — И потом, я же любил Дениса, помню его с детства: он приходил к моему отцу, хлопотал о пенсии для него — ведь отец был малограмотный, а с войны тоже вернулся инвалидом… Знал бы паскуду, которая подняла на него руку, раздавил бы, как мокрицу… Я так и сказал ему, я ж вам не вру…
— Кому — ему?
— Да этому ребенку, которого сегодня посадили.
— Он не называл имени преступника?
— Нет. Конечно, нет. Говорит, что и сам не знает.
— И не сказал, откуда ему известны подробности?
— Нет. Кажется, нет.
— А если без «кажется»?
— Нет, не говорил… Хотя черт его ведает… Я так расстроился… Я вам не вру. Я вообще никогда не вру. Пусть будет хуже, чем есть, но врать меня не заставишь. Я все ждал, что хоть Денис ко мне придет, а он не шел, и я думал: хана тебе, брат, последний человек от тебя отвернулся…
Да, Гурин был явно удручен известием о гибели Чигиря. И искренне сожалел, — он нисколько не пытался этого скрыть, — что по пьянке снова влип в постыдную историю, что снова очутился в одной компании с публикой, перепачканной в крови, с хулиганьем и казнокрадами всех мастей. Вернуться бы в день 30 июня, прожить бы его иначе… А лучше бы вернуться в дни шестилетней давности, да не встречать там Кривца, не наводить его по хмельной бестолковщине на вчерашнюю жену, пусть даже она сто раз не «колобок», а «деспот»… И совсем было бы хорошо, если бы удалось отсчитать обратно лет десять, вернуться к той замечательной поре, когда еще печенка, не то что душа, была здорова, не разрушена алкоголем, когда только-только проявился тревожный, предостерегающий симптом — выпив с получки с мужиками, он, фитиль двадцатилетний, стал съезжать на детских саночках по лестнице станционного перекидного моста, горланя при этом: «Вот кто-то с горочки спустился…» И врезался в старушку, руку ей сломал… Тогда и состоялся первый суд, суд товарищеский, на котором взяли его на поруки, а председателем суда был никто иной, как Денис Андреевич Чигирь… Вон как оно в жизни все хитро перекручено…
Мы велели поместить Гурина в другой камере и затем привести к нам Шадурского.
Шадурский держался так, словно репетировал роль перед скорым судом, на котором надеялся сорвать «аплодисменты» приятелей. Если утром следовало вникать в суть вопросов Михаила Прокофьевича, обдумывать ответы, чтоб не сболтнуть лишнего, не навести напраслины, не «заложить корешей», то теперь, когда следствие закончено, явилось чувство внутреннего раскрепощения. Правда, этот поздний вызов на допрос и мое присутствие оказались неожиданными и озадачивали — что нужно этому очкарику, приехавшему из области, что нужно в девять часов вечера, коль все его «шалости» известны и доказаны? — но не умея долго рассуждать, он попытался попросту отмахнуться от докучливых вопросов. И виду старался не подать, что встревожился — это было бы оскорбительно, — но мы-то все видели и все понимали. Волк обходит стороною свежие пни и выворотни, они страшны для него своей новизною, загадочностью, а тут перед тобою все же, простите, не пни… Разумеется, мы принадлежали в его глазах к категории путающихся под ногами людей — и по нашим служебным обязанностям, и по чисто человеческим качествам, это безразлично. И коль так, позволительно было дерзить, надменно усмехаться, небрежно изрекать «интеллектуальные» чужие фразы вроде: «Седина еще не есть признак мудрости», и прочее, прочее. Столкновения с подобным народом, они по сути у нас каждодневны. Не знаю, как Михаил Прокофьевич, но что касается меня, я не могу, я не в состоянии свыкнуться с их жалкой фанаберией, с притязаниями на самому себе данную исключительность. Понятно, что я держу себя в руках, мой тон довольно ровен, канва допроса, надеюсь, логична, но не скрою, что это стоит больших душевных сил. Неуч, он не способен облечь в слова и объяснить своей «философии», он выражает ее поведением. Ему все должны. Все — его родители и его бывшие учителя, я и Михаил Прокофьевич, ты, читатель, и тот, кто прошел мимо этих записок, все живое и мертвое. Ему должен калининградский собор, где похоронен Иммануил Кант, и он карабкается по стенам, по кружевам из камня, чтоб аршинными буквами намалевать свое имя, ему должна земля, которую он топчет, должно все, что ползает по ней, бегает, прыгает, летает над нею, плавает в ее водах и тянется зеленой мутовкой кверху. Но почему?..
Из протокола допроса свидетеля Надежды Н., абитуриентки БГУ, бывшей одноклассницы Ф. Шадурского:
«По существу Федор даже на тройку никогда не знал ни одного предмета. Припоминаю подготовку к экзаменам за восьмой класс. Учительница русского языка и литературы сказала Федору, чтоб он вызубрил хотя бы один билет, на его собственное усмотрение. Было договорено, где этот, Федоров, билет будет лежать на столе.
Однажды на уроке он вновь довел ее до слез, и она сказала, что пойдет жаловаться директору. «Ступай, ступай, твое дело, — заявил Федор. — Но знай: билета твоего я брать назло не стану — красней перед комиссией. А трояк вы мне все равно поставите, никуда не денетесь».
— Ты продолжаешь упорствовать, будто тебе совершенно не известны обстоятельства гибели Чигиря…
— А чего мне может быть известно? Ничего мне не известно. Я знаю лишь то, о чем болтают повсюду. Даже меньше, потому что особенно не прислушиваюсь. Зачем мне этот — как его там? — Снегирь-Чигирь?.. А он, — небрежный кивок в сторону Михаила Прокофьевича, — все пристает. Теперь и вы приехали. Сядьте на седьмой автобус, прокатитесь от вокзала до химволокна — об убийстве узнаете больше, чем от меня. Или поймайте тех, кто это сделал. А меня не дергайте.
— И никогда нигде ни при ком ты не вспоминал о нем? — раздельно, жестко сказал я.
— Нет.
— У тебя, что же, память девичья?
Шадурский наморщил лоб, словно силясь что-то припомнить, но это что-то все ускользало и ускользало. Глаза его бегали, и он торопливо опустил их.
— Ты трепал имя покойного не далее, как сегодня, уже здесь, в КПЗ.
— Где это?.. Не знаю, зачем мне трепать…
— Но трепал же.
Шадурский тщетно пытался изобразить недоумение на своем лице.
— Что ж, придется пойти на очную, — сказал я. — Врал бы, да не завирался — понятия о товариществе, мужской солидарности у тебя весьма превратны. Не там ищешь, парень. Кстати, когда привезут в колонию, в драмкружок не записывайся — актер из тебя, извини, бековой.
Из протокола очной ставки:
Вопрос. Знаете ли вы друг друга и какие между вами взаимоотношения?
Ответ Гурина. С сидящим предо мной Федей познакомился сегодня в камере — его привезли во время обеда. Какие могут быть взаимоотношения…
Ответ Шадурского. Подтверждаю, что познакомился с Геной только сегодня. Отношения нормальные.
Вопрос. Как и при каких обстоятельствах был упомянут Денис Андреевич Чигирь?
Ответ Гурина. Федя рассказывал, за что его повязали. И сказал: за ерунду. А вот парней, которые избили ногами Дениса Чигиря до смерти, мол, никак не возьмут. И еще пожалел, что парни не догадались обчистить карманы Дениса, что пропало полторы тысячи рублей.
Ответ Шадурского. Я говорил в камере только то, что известно всей Ольховатке.
Вопрос Шадурскому. Вы дали подписку, что несете уголовную ответственность за дачу ложных показаний. Однако полчаса назад пытались убедить следствие, что не знаете никаких подробностей из истории с Чигирем. Как это понимать?
Ответ. Я говорил о том, что всем известно.
Вопрос Гурину. Не говорил ли Шадурский, от кого он знает об этих подробностях?
Ответ. Нет.
Вопрос. Не называл ли имен участников преступления?
Ответ. Нет.
Вопрос Шадурскому. От кого вы узнали, что Чигиря били ногами?
Ответ. Не помню. Может, на танцах, может, в кино. А может, на базаре, когда семечки покупал. Кто-то сказал, что били ногами, и — все.
Вопрос. Постарайтесь припомнить, кто сказал.
Ответ. Не помню. Я не старался запомнить.
Гурин и Шадурский были изолированы друг от друга. То есть каждого мы оставили наедине со своими мыслями. Шадурскому было предложено поразмыслить кое над чем на досуге, в тишине и одиночестве.
5
И еще целый день в Лукашевке. И почти та же череда свидетелей. Главные из них — Ермолик, Киселева, Морковка. Парни, — по Гурину и Шадурскому, — в подбитой подковками обуви, избившие Чигиря до смерти и сожалеющие, что не догадались проверить карманы своей жертвы, — это покамест все же слабый аргумент в пользу того, чтоб оставить в покое лукашевскую троицу.
Работать же с Шадурским остался старик Варивода.
На сей раз я взял машину в угрозыске, решив протрястись прямой дорогой, заброшенным польским шляхом, или бруком, как здесь говорят. Подумалось, что одолеть ее на «газике» будет проще.
Дорога шла вперемежку лесом и полем. Лес был самосейный, смешанный, грибной. В полях росли травы, злаки, картошка. Овес красовался уже в кафтане, а греча только примеряла рубаху. «Газик» то резво бежал по уцелевшему бруку, меленько дрожа всем своим существом, то нырял из колдобины в колдобину — на участках, где от булыжного покрытия остались одни лишь воспоминания. Деревня из двух-трех десятков дворов, одичавшие хуторские усадьбы, погост на холме, деревянная каплица, речка в черемухе и ольхе. Припорошенный соломенным сметьем мост был ветхий, на грузовике не проехать. Наверное, можно было просидеть на перилах моста, широких и теплых, и час, и два, бездумно глядя на темную под сваями воду, — и никто бы не потревожил тебя.
Шофер мой, по фамилия Коляда — молоденький, очень худой и внешне анемичный парень. И очень ироничный, как вскоре выяснилось.
— Вы — следователь по особо важным делам?.. — осторожно спросил он в самом начале пути.
— По особо подлым… — ответил я.
— А я, знаете, какой-то мурой занимаюсь. Какими-то таинственными похитителями велосипедов. Крадут, сволочи, средь бела дня. Придется жаловаться в «Литгазету». — И усмехнулся.
Усмехнулся и я.
— Прибегает как-то ко мне гражданин по имени Леня — в драном пиджачишке, сапогах с отворотами: отработав ночную смену, собрался на рыбалку. Так вот, выкатил Леня велосипед за ворота, привязал к раме удочки и побежал в дом, где на газовой плите уже раскалилась сковорода — поджарить яичницу. И вдруг видит в окно, как на его машину взбирается какой-то юный верзила и налегает с места на педали, словно олимпийский чемпион Сухорученков. «Эй, эй!.. Куда ты?!» — с воплем вылетел Леня на улицу… Спрашиваю Леню: «Каков он из себя?» — «Синенький, минского велозавода…» — «Да нет, этот, похититель?» — «А черт его ведает, я не разобрал. Вроде как пацан еще, акселерат. В светлой курточке…» И тут вспомнил, что дома газ не выключил. И смех, и грех…
И снова был лес, было поле, посадки сосны и — Лукашевка. Я прикинул, и получилось, что эта дорога заняла примерно столько же времени, что и новая, кружная.
Но Морковка был «под шафе», и тогда шел дождь. Дождь, колдобины, ночь, неопытный водитель за рулем — это с одной стороны. А с другой — разве не известно, что везет в основном дураку да пьяному?..
Марина Аркадьевна, кажется, чуточку привыкла ко мне. Во всяком случае нет-нет да и проскользнет в ее словах, мимике, взгляде, жесте пусть робкая, но доверительность. А от нее, похоже, только через доверительный контакт и можно чего-либо добиться. Душа подвижная, непоследовательная, склонная к внезапной безрассудочности, истеричности, она особенно чувствует бережное обращение с нею. Натура женская, явно выраженная.
Я не исключал, конечно, что с моим приездом Марина Аркадьевна перестала ждать новых своих «мучителей» — действительно, сколько же можно: участковый инспектор милиции, районный угрозыск, районная прокуратура и, наконец, областная! — и потому немного успокоилась, смирилась с положением, в котором очутилась.
Сегодня она была в белых сабо, в сарафане из сиреневого трикотина и пелеринке на тесьме — достаточно легкого движения руки, чтоб распустить ее. Покусывала нижнюю губу, видимо, отрепетированно. Несмотря на неприятности последних недель, на внутреннее напряжение, с которым жила, она не забывала о своей внешности, весьма незаурядной, кстати. Она сидела на стуле у стены, закинув ногу на ногу и полуобернувшись ко мне, в этой несколько неудобной, но выигрышной позе. Прическа «сэссун», отметил я, тоже ей шла. Поменяла даже перстень — на серебряный, с топазом. Серебро снова в моде.
— И опять, Марина Аркадьевна, я хочу поговорить с вами о Морковке. Простите, но меня интересуют даже ваши личные отношения. Вы виделись с ним вчера, сегодня?
— Нет, не виделись.
Я помедлил, поглядел в окно. На ступеньках чайной, расстелив газетку, бабка раскладывала для продажи зелень. Поодаль прыгала боком серая ворона, повернув в бабкину сторону голову.
Я сказал как можно простодушнее:
— А ведь прежде вы обычно встречались после допросов, не так ли?
— Да, он всякий раз приходил в магазин. А вчера, — она развела руками, — нет, не показался.
Любопытно, значит, Морковка больше не желает договариваться об общей линии поведения?..
— А сами вы не пытались его найти?
— Я надеялась, что он придет…
— Вам есть о чем поговорить?
— Ну как же… — Марина Аркадьевна замялась. — Вы знаете что, ведь все мы чувствуем за собой какую-то вину и вообще…
Кончики ее ушей порозовели. У нее свежее лицо, чистая кожа, подумал я, потому что кроме губной помады она не признает другой косметики и до сих пор не разучилась краснеть.
— Марина Аркадьевна, вы работаете в лукашевском магазине без малого семь лет и, должно быть, успели изучить здесь всех и вся. Наверное, знаете и прямую дорогу на Ольховатку? Я имею в виду старый польский шлях… В ночь на первое вы ехали шляхом?
— Да…
— Почему же вы сразу не сказали об этом?
— Не знаю… Наверно, не придала особого значения. И никто не спрашивал… Можно мне закурить? — В ее голосе почудилась мольба.
Марина Аркадьевна достала из сумочки пачку «Явы». Достал и я свою «Приму», тоже испросив разрешения закурить. Она затягивалась нервно, часто.
— Шлях выходит прямо к моему дому. А вчера вы сами спрашивали, не опасались ли мы милиции — ведь машиной управлял не совсем трезвый человек и без прав, — с надеждой улыбнулась она. — На этой дороге мы не рисковали встретиться с милицией.
— Вполне резонно, — согласился я. — Береженого бог бережет. А какой дорогой возвращался Морковка?
— Этого я не знаю.
— Я слышал, Марина Аркадьевна, что у вас вполне благополучная семья. Муж заботлив — взял, например, отпуск, чтоб свозить больную дочь в Трускавец…
Марина Аркадьевна глядела на меня с настороженным изумлением. Она не ожидала столь резкой перемены темы разговора.
— Беда с Чигирем приключилась в его отсутствие, — продолжал я. — Как он принял это известие? Вероятно, очень переживал, сочувствовал?..
— Да, конечно, он очень жалеет Дениса Андреевича, боится за меня.
— А как отнесся к выпивке в магазине?
— Я сама призналась. Он простил ее мне, вошел в положение, и вообще… Он — хороший!
— В этом, кажется, и я не сомневаюсь.
— Он очень вспыльчив, и тем не менее его все любят — и сослуживцы, и рабочие, и соседи. Иной раз кажется — убьет, а через полчаса ластится, прощенья просит за невыдержанность. Однажды накричал на рабочего — тот что-то там со сваркой напорол, а вечером места себе не находил, поплелся извиняться через весь город. Думал, что и рабочий страдает, может, по-темному горькую пьет, а был удивлен — сам признался, — когда увидел его во дворе, весело играющим в рамс.
— Видимо, люди знают характер своего начальника участка…
— Да, конечно, — согласилась Марина Аркадьевна. — Он добрый, отзывчивый, справедливый. И — трудяга. Поверьте, он тянет за своих прорабов и мастеров.
— Его, по-моему, уважают на зависть, коль отпустили среди лета, в самую горячую для строителей пору…
— Да, конечно, его очень ценят.
— К тому же надо было непременно подлечить девочку, пока у нее каникулы… У меня тоже дочка, теперь, слава богу, взрослая — скоро шестнадцать и, знаете, хворала с пеленок, извелись мы с нею. Корь, ангина, скарлатина, опять ангина, а потом и Боткина, прямо напасть… А что, когда говорят «на нем воду возят» — это ведь и про вашего мужа?
— Да, на нем возят. И не только воду, а все, что угодно. Я уж и ругала его, и просила — будней, видите ли, ему мало, так и выходные торчит на объектах. Ни в кино с ним не сходишь, ни к друзьям, ни позагорать. Все некогда, некогда, некогда.
— И ревнив небось? Такие люди обычно ревнивы…
— Он убил бы меня… если бы что-нибудь такое случилось…
— Да, но мы попали не в ту степь, отвлеклись — хотели поговорить о Морковке.
— Не надо его подозревать. Честное слово, Морковка не причастен к убийству. Он не способен на это.
— Ну, хорошо… Следствие по делу, к сожалению, несколько затягивается. Вы для нас очень важный свидетель. С другой стороны, не хотелось бы портить вашего отдыха. У вас когда отпуск?
— В сентябре.
— Ну, до сентября мы управимся. Куда же поедете?
— Не знаю, пока ничего не решала.
— В сентябре очень хорош Крым…
— Откровенно говоря, Крым мне немного надоел…
— Тогда Кавказ?.. Болгария?.. Каролина-Бугаз?.. Любопытная деталь — первыми туристами из нашего города на Филиппины оказались две парикмахерши. Умудрились же собрать кругленькие суммы…
— Не знаю, Дмитрий Васильевич, я об отпуске сейчас не думаю. Поверьте, так тяжело на сердце.
— Ну что ж — до свидания?
— До свидания.
Она вышла, оставив после себя летучий запах тонких духов.
— Сначала прочтите ваши вчерашние показания, — предложил я Морковке, передавая ему отпечатанный протокол допроса на подпись. И пока он читал, хмуря брови и шевеля губами, я думал, как же мне добиться от него истины.
— Вы уже начали прощупывать окружение Киселевой? — спросил вдруг Морковка, оторвавшись от бумаг. У него был такой вид, будто ему удалось удачно бросить в ящик подметное письмо.
— Мы прощупываем, как вы изволили выразиться, тех, кого находим нужным, — холодно ответил я. — И потом: я не вправе распространяться, с кем мы говорим и о чем. Мы храним тайну исповеди, так сказать.
— Верно, верно, — поспешно согласился Морковка и мелко покивал своей лысеющей головой.
Мне же в голову лезла всяческая чертовщина. Например:
— его светло-синий пиджак усыпан перхотью…
— наверное, когда сбрасываются по рублю, долго возится в кармане, стараясь на ощупь определить, какая из бумажек — рубль…
— и даже восклицание Аракчеева, о котором вспоминал Грибонеедов…
Но — довольно, довольно.
— Так какой же дорогой вы отвозили Ермолик в Ольховатку?
— Разве я не говорил?.. — Морковка попытался изобразить искреннее удивление. И замолчал, должно быть, в надежде, что я начну раскрывать свои карты. Я терпеливо ждал, хотя такая постановка вопроса уже говорила о том, что мне на этот счет кое-что известно.
Видит бог, я хотел помочь Тимофею Морковке, хотел загнать на дно души неприязнь к нему, но он сам подливал масла в огонь. Ну вот опять — это фальшивое изумление, круглые глаза, в которых — блуд. К чему, зачем? И неужели он надеялся, думал я, что первоначальное упущение следствия так и останется непоправимым упущением?
— Вы подозреваете меня? — произнес Морковка одними губами, пересохшими и непослушными.
Я вздохнул.
— Мне очень жаль, но нам нередко приходится докучать невинным людям. Невинным по отношению к делу, которое интересует нас, но это выясняется, как правило, много позже. Поймите, наконец, нам очень сложно воссоздать полную картину трагедии, определить роль всех тех людей, которые принимали или могли принять в ней участие. У волка одна дорога, у преследователей — во все стороны. И мне важно знать, какой дорогой вы ехали в ночь на первое, что видели и что слышали…
(Я совсем упустил из виду одно обстоятельство: вернувшись к предыдущим страницам моих записок, я понял, что разговор с Ермолик о заброшенном польском шляхе в моем пересказе выглядит излишне упрощенно — ведь ее признания я добился не вдруг, дело это оказалось не таким уж зряшным. Человек, в общем-то, прямолинейный, она не умеет лгать и путается, когда говорит неправду. И это — при избытке женской затаенности и, кажется, честолюбия, властолюбия, тех самых, которые исподтишка правят миром…)
— Да, ехали шляхом… — произнес Морковка. — Но мы выбрались из Лукашевки позже, чем Киселева и продавец. Мы не смогли бы их опередить, если бы и хотели. Я отвез Марину… Возвращался новой дорогой, буксовал на объезде… Я сделал большую петлю, но ничего не видел и ничего не слышал…
В ожидании Тамары Киселевой я изучал список, затребованный нами из паспортного стола. Это был полный список граждан, выехавших из Ольховатки и района в последние три недели. У преступника часто не выдерживают нервы, и он бежит куда глаза глядят. Но нередко идет и на новые злодеяния. Последнее — либо от ощущения мнимой безнаказанности, либо, что чаще, из-за невозможности совладать с теми же нервами.
Растущему городу недоставало рабочих рук, тем не менее довольно много молодых людей уехали на новостройки Сибири, Севера. Эти фамилии, имена, отчества и года рождения ничего решительно мне не говорили, я хотел показать список Тамаре и старшему Филиппову, учащемуся ГПТУ. Сегодня же к вечеру милицейские службы должны были дать по списку свои соображения.
Наконец пришла Тамара. Если Ермолик полностью поменяла на сегодня свой туалет, то Тамара была в том же легком платье с глубоким вырезом на груди. Видимо, гардероб у девушки был небогатый.
— Вам, случаем, не знаком Шадурский? — спросил я. — Федор Шадурский? По каким-либо вечеринкам, танцам?.. Ему семнадцать лет.
— Нет. По-моему, нет, — подумав, сказала Тамара. — Я знаю одного Федора, так ему за двадцать. Уже успел жениться и развестись, — усмехнулась она.
— Посмотрите, пожалуйста, этот список. В нем ваших знакомых нет?
Я показал список, не зная, не предполагая даже, как будет сформулирован мой следующий вопрос. Я знал только одно: сегодня в беседах с Ермолик и Киселевой, а может, и Филипповым я буду по возможности как можно реже обращаться к прежним вопросам следствия, ведь дотошность, подобная нашей, безусловно необходимая в нашей работе, — далеко не лучшее качество человеческого характера. Тебе прощают ее, принимают как должное, но тебе-то от этого не легче и нередко она не идет на пользу делу. Ты живой человек, ты тоже вправе встать не с той ноги, — но тогда пиши пропало, с иным свидетелем беседы не будет, по деревянному контакту ток не пойдет. Ну да что тут рассусоливать, суду ж все ясно…
Тамара, не задерживаясь, пробежала по списку глазами, потом вернулась назад, стала перечитывать, уже не торопясь.
— Вероятно, я знаю этого парня, — ткнула она пальцем. — Зовут Мишей, фамилии точно не помню, но вроде похожа: Шедко.
— Что он за парень? Смирный, драчун, задавала?
— Обыкновенный парень. Очень, правда, здоровый. Пару раз приглашал меня на веранде танцевать. От него пахло вином, и я отказывала. «Поди проспись, мальчик». Я не боюсь отказывать ребятам, меня почему-то не трогают. Не подумайте, что я хвастаюсь. Просто это действительно так. Миша что-нибудь натворил?
— Хотелось бы и мне знать это, — признался я. — С кем он водит компании? Не припомните?
— Да со всей Ольховаткой! Сегодня видишь его с одним, завтра с другим.
— Здесь, в Лукашевке, он не появлялся?
— Нет, — уверенно сказала Тамара. Но вдруг в глазах ее мелькнуло сомнение. — Приезжал! — обрадовалась она. — Приезжал как-то весной или в конце зимы, заходил с Санькой Филипповым в магазин, брал у Дениса Андреевича вино. Да, зимой или в начале весны — ребята были, помню, в пальто, затолкали бутылки в карманы. Я тогда еще совсем не знала Мишу и обратила на него, наверное, внимание лишь потому, что уж очень смешно он попросил фруктового вина: «Дайте нам, батька, две бутылки «Слез Мичурина», — а такого я еще не слыхала. Даже Денис Андреевич невесело усмехнулся.
— Любопытно, — обронил я. — Как давно вы видели Мишу в последний раз?
— С месяц не видела. Откровенно говоря, он не очень меня интересует. Велика фигура, да…
— Возможно, — усмехнулся я. — Ну хорошо. Если что-нибудь припомните о Шедко, пожалуйста, сообщите мне. Вот телефоны, по которым меня можно разыскать. — Я вырвал из настольного календаря листок и, сверившись с записной книжкой, написал целый столбик цифр — телефоны прокуратуры, угрозыска, КПЗ, домашний Михаила Прокофьевича и мой гостиничный. — Спасибо за информацию.
— Не за что, — пожала Тамара плечами. — Кстати, в Лукашевке я работаю последние дни. Перевожусь официанткой в ольховатское кафе «Весна». Сельпо не хотело отпускать, но как же здесь оставаться после всего, что произошло?..
К столбику телефонов я присовокупил телефон лукашевского сельсовета.
Александру Филиппову я тоже предъявил список выехавших из района. Среди своих знакомых он уверенно назвал Михаила Шедко. А дальше дело застопорилось. Филиппов не знал за Шедко криминала, не понимал, почему мы интересуемся им, и явно не хотел давать показаний.
«Ну, парень как парень… Нормальный… Ну, мог выпить, случалось… Ну, уехал куда-то в Сибирь… Может, на БАМ, а может, еще куда… Я с ним был плохо знаком, товарищ следователь… Нет, не знаю, ничего этого не знаю. И этого не знаю… Да нет, нормальный был пацан…» — неохотно тянул Филиппов.
— Ты говоришь, что знаком с ним плохо. А между тем он приезжал к тебе в Лукашевку. Как же это совместить?
— Он приезжал смотреть магнитофон. Одно время я хотел его продать. Но потом передумал… Мы знаем друг друга давно, школой на школу в футбол играли, но знакомы неважно. Приехал он ко мне — зимою, что ли? — послушал пару пленок — и все, с приветом.
— И общих знакомых у вас нет?
— Не-а…
— Когда последний раз ты видел Шедко?
— Давно.
— Как — давно?
— Недели две, наверно, назад. Может, три.
— Где, при каких обстоятельствах?
— На «Локомотиве».
— На стадионе?
— Да. Под «Д».
— Не понял…
— Там большими буквами написано: «Добро пожаловать», — стал объяснять Филиппов. — Под букву «Л» ходят девочки, «леди», покупают всякий бабий хлам.
— Что же искупают и чем торгуют «леди»?
— Ну, помадой, компактной пудрой, колготками, тенями. А под «Д» ходят пацаны, «джентельмены» — джинсы, сигареты, жвачка…
— Шедко что-нибудь продавал, покупал?
— Он этим никогда не занимался. Просто болтал с пацанами.
— Ты с ним разговаривал?
— Не-а… «Привет!» — «Привет!» — и все.
— Миша был под мухой?
— Да, наверно… Я не обратил внимания.
— Под сильной?
— Наверно… — Филиппов поскреб в затылке.
— Кто с ним стоял?
— Я не очень присматривался.
— Но все же?
— Кажется, Володя с Первомайской… Потом…
— Потом?..
— Федя Шадурский…
— Потом?..
— Остальных пацанов я не знаю.
— Миша говорил о своем отъезде?
— Нет. Уехал неожиданно для всех дня через два, за свой счет. Даже о путевке не стал хлопотать.
— И правильно сделал?
Филиппов промолчал.
— Я спрашиваю: и правильно сделал? — мягко настаивал я.
Филиппов вздохнул, посмотрел мне в глаза.
— Правильно, — наконец выдавил он. И снова вздохнул. — Миша перессорился со всеми ребятами, задирался, как Печорин. У кого-нибудь нервы могли и не выдержать.
— Ты хочешь сказать, что на Шедко нашелся бы свой Грушницкий?
В ответ — снова тягостное молчание.
— Ничего плохого мы твоему Мише не сделаем. Ведь никто нам не пожаловался…
В конце концов, после долгих мытарств я добился от Филиппова показаний, представляющих для нас определенный интерес.
Из показаний А. Филиппова:
«С Мишей что-то случилось в последнее время. Таким он раньше не был. Мог побузить, но не больше других. А недели две-три назад, когда мы виделись в последний раз, я не узнал его. Миша был пьяный, дурной, ко всем приставал. Федя Шадурский что-то сказал ему, и он ударил Федю, тот упал, выбил плечом доску в заборе. Помню, Федя крикнул: «Я свой!» Я подтащил Федю к колонке, привел в чувство. Потом Миша ударил Володю с Первомайской, сбил с ног, разбил губу. Володя — боксер, я удивляюсь, как мог Миша сбить его с ног. Володя упал на кучу песка, и Миша ударил его ногой по лицу. Володя тоже потерял сознание. Его я тоже подтащил к колонке и привел в чувство. Миша ударил еще одного хлопца — с этим я не знаком, — но парень был выпивший и стал обороняться. Я хотел их разнять, Миша замахнулся на меня, но я успел увернуться. Тогда Миша заплакал. Мы подошли к забору и выломали по колу. Миша все плакал. Мы не подрались, но Миша затаил на меня обиду. От ребят я слышал, что Миша уехал. И правильно сделал, ему в Ольховатке не было места. Ребята были злы на него».
Зазвонил телефон, и, бросив Филиппову: «Минуточку!» — я снял трубку. Я слышал, как на том конце провода тяжело, астматически дышит Михаил Прокофьевич.
— Мои дела неважные, — сказал он, и я понял, что Шадурский уперся, ничего дельного не говорит. — Но Борисевич, кажется, взял-таки след… Я имею в виду услышанный тобою разговор в кафе… — И я вспомнил трех девушек, озабоченных судьбой какой-то Тани. — Делишки — дальше некуда. А что у тебя?
— Скоро освобожусь.
— Так приезжай прямо ко мне домой. Женка окрошкой и молодой картошечкой собирается попотчевать. Тогда и потолкуем. Лады?
— Лады. — Я положил трубку. — Ты назвал имя Федора Шадурского, — продолжил я. — Что он за парень?
— Выскочка, — незамедлительно ответил Филиппов.
— ?..
— Лебезит перед сильными ребятами, а слабыми помыкает. Я не очень уважаю его. Скажите, это правда?
— Что — правда?
— Ну, это…
— Ты имеешь в виду новые цены на жидкое мыло?
— Я слышал, что Федя в ларьке нашкодил…
— Он уже арестован.
— Вот видите…
— Шадурский был дружен с Шедко?
— Вряд ли. Что у них общего? Но Шадурский, конечно, гордился бы Мишиной дружбой.
— Миша публично ударил Шадурского. Как ты думаешь, Шадурский простил ему?
— Факт. Мише он все простит.
— В конечном итоге, Саша, мы поговорили с тобою, надеюсь, откровенно. Отъезд Миши Шедко иначе как бегством не назовешь. Что же все-таки заставило его это сделать?
— Перед ребятами было стыдно, — предположил Филиппов.
— В таком случае, почему он запил, почему стал задирать всех?
— Не знаю, сам этому удивляюсь.
— Может, неразделенная любовь?.. Любимые штаны на заборе порвал?.. Ссора с родителями? мастером на заводе?.. Юношеская, вполне реальная, неудовлетворенность жизнью?..
— Понятия не имею. Пьяный, он ни в чем не признавался, а трезвым я его давно не видел.
Но освободился я довольно не скоро — пришел Морковка и попросил срочного свидания.
Он явился, когда я уже поджидал из Ольховатки машину, размышляя о том, что история, рассказанная Филипповым, о некоем Мише Шедко, несомненно, любопытна, но к чему она может привести? Еще к каким-нибудь мелким пакостям, вроде пакостей Федора Шадурского? К обнаружению новоявленного молодого Вертера? А может, тут просто клинический случай, которым надлежит заниматься не нам, а медикам? Но это имя — Шедко — предъявить Шадурскому следует обязательно, посмотрим, как он себя поведет. Тревожило и сообщение Михаила Прокофьевича. Неужели слухи, всполошившие Ольховатку, особенно женщин, небезосновательны? Только этого сейчас нам недоставало…
— Вы хотите дополнить ваши прежние показания, если не ошибаюсь? — сказал я Морковке.
— Да, именно дополнить, вы правы. Не опровергнуть, а дополнить.
— Вот и выкладывайте начистоту, где вы с Ермолик провели ночь на первое июля. Не беспокойтесь, до ее мужа это не дойдет.
Морковка ошеломленно посмотрел на меня и потом, кажется, облегченно перевел дыхание.
— Мне кажется, что вы уже сами обо всем догадались, — сказал он медленно.
— Вы проницательны. Но моих догадок мало, ими не обойтись. Итак, получив отказ от Киселевой, вы переключились на Ермолик. По существу, вам было безразлично — Киселева ли, Ермолик, хоть первая и вдвое моложе…
— Да, это так. Киселева легкомысленная девушка, но строптивая. А с Мариной мы знали, чего хотим друг от друга. Взрослые же люди. Я пожалел ее… Я говорю с вами как мужчина с мужчиной, и вы должны понять меня.
— Благодарю, — склонил я голову. — Вы и не помышляли отвозить Киселеву и Чигиря?
— Мог бы и отвезти. Но я понимал, что они не станут ждать. В Ольховатку я попал около двух ночи, когда с продавцом все было кончено. А точнее, я, можно сказать, даже не въезжал в город, высадил Марину у начала ее улицы. Утро было серенькое, моросил дождь, на улице не было ни души, но Марина все равно пряталась на заднем сиденье и не захотела, чтоб я подъезжал к ее дому. Помню, я подумал тогда: молодчина, умело остерегается! Ведь мы распили с нею еще бутылку коньяка, но она не потеряла голову.
— За восемь двенадцать?
— За восемь двенадцать.
— Где же вы развлекались?
— В лесу, отъехали от шляха всего метров на пятьдесят. Если вам знаком старый шлях, — сразу же за мостом там есть заросшая травой дорога… Я прошу прощения у вас, Дмитрий Васильевич, вы столько времени потратили напрасно…
— Почему — напрасно?
— Но вы же не станете капать на нас! Наше ведь дело неподсудно…
— Увы… Однако же опять у нас не сходятся концы о концами. Подвезли вы Ермолик к ее дому — по вашим же словам, — сереньким утром, то есть не в два ночи. В Лукашевке же объявились лишь около шести. То есть на полтора десятка километров дороги у вас ушло четыре часа…
— Я не успел обо всем рассказать, мы как-то отвлеклись… Прежде чем отвезти Марину домой, мы заехали в парк…
— Новый, старый? Тот, что возле Кильдимовки?
— В кильдимовский… И вот часа в три к машине подошли два парня. Попросили закурить. Марина угостила их, а потом, чтоб они поскорее отвязались, отдала им последнюю бутылку коньяка…
— Щедрая женщина… — не удержался я.
— Щедрая… — вздохнул Морковка. — Короче, расстались мы около пяти часов утра… — Он помолчал. — Пожалуйста, не говорите Марине, что я во всем сознался. Сделайте как-нибудь так, будто сами докопались… Она умоляла меня молчать. Даже деньги предлагала. Но я, пораскинув мозгами, понял: буду молчать — загремлю в тюрьму. Я давно собирался виниться, но мною руководило ложное понимание порядочности. Я искренне прошу у вас прощения, Дмитрий Васильевич… Мне можно идти?
— Погодите. Кто вел переговоры с парнями, от которых вы откупились коньяком и сигаретами?
— Я. Марина слова не обронила, из машины не выходила. Она не знала их, и это не удивительно — молодые, а она ведь на виду, ее все здесь знают. Парни попросили закурить, и Марина протянула им из темной машины пачку. Они отошли, но уходить как-то не торопились. Тогда Марина шепнула мне, чтоб я отнес им бутылку — мы одну уже выпили, эта была вторая, — отнес и сказал, что у нас семейный праздник, пятая годовщина свадьбы, и пусть мальчики выпьют где-нибудь за наше здоровье. Ребята послушались и ушли. Но зачем вам нужны все эти подробности? Ведь главное я сказал…
— В их поведении ничего странного не было?
— Они были «на взводе». А так — ничего. Очень обрадовались коньяку…
— Каковы они из себя?
— Я не присматривался. Один — высокий, блондин, совсем мальчишка. А второй — маленький, чуть выше штыковой лопаты… — Морковка натянуто улыбнулся собственной шутке. — Мы хотели одного: поскорее отвязаться от них. Или вы опять мне не верите и будете искать этих свидетелей… свидетелей нашей непричастности к убийству?
— Теперь я верю вашим показаниям. Да ведь фокус в том, что Денис Андреевич Чигирь был убит неподалеку именно от кильдимовского парка. И мне хотелось бы знать, с кем это вы там повстречались…
Так одна за другой либо лопались, либо ставились под сомнение версии по Лукашевке. Господам Случаю и Стечению обстоятельств было угодно подбросить их слишком много, пустых, отвлекающих внимание. Собака, возможно, была зарыта вовсе не здесь, хотя оставалась еще Киселева с ее окружением и внезапно наметилась цепочка Чигирь — Филиппов — Шедко… Подумать только, сколько времени морочил нам голову один лишь Морковка.
Если же Лукашевка вообще ни при чем, убийство может оказаться непреднамеренным. И тогда расследование при нынешнем положении вещей усложнится во сто крат.
Я позвонил Вариводе и сказал, что его обществу, пусть не обижается, на ближайшую пару часов я предпочту все же общество Гурина и Шадурского. Старик ответил, что составит мне компанию, коли так, в КПЗ.
6
Сухой ветер наполнял наш «газик», за окном однообразно бежали посадки сосны. Пахло июльской пылью, пыльным кипреем, зверобоем, щавелем, вереском, чабрецом. Кое-где в разрывах лесочка показывались желтеющие клинья хлебов; я знал, что там перепела и кузнечики, знал, но давно не видел, а перепелов даже не слышал.
Доведись, внезапно пришла мне в голову невеселая мысль, пересечь вон то поле, пешком, в благословенном одиночестве, — и здесь, быть может, не услышал бы, слушать отвык. А ведь когда-то всерьез подумывал о биологическом факультете, имея, кажется, на то основания. Сам сознаю, что с каждым годом все заметнее выхолащивается, все беднеет за суетностью душа. И одна отрада — отпуск, вернее думы об отпуске, ибо и тут зачастую неволен, покорно едешь туда, куда решено ехать женою, куда велит пресловутый долг перед семьей, и взамен деревенского дома, желанной пуньки, набитой сеном, земляники и речных дымных плесов получаешь комнату в южном санатории, сильно смахивающую на твою городскую. Ну да не след плакаться — впереди уже видна Ольховатка…
И новый заход на новый — который уже! — круг: «Припомните, пожалуйста, гражданин Гурин, еще раз все, что вам известно со слов Шадурского о гибели Чигиря… Не называл ли он каких-либо имен, прозвищ?.. Припомните, пожалуйста, весь разговор, поведение Шадурского, жесты, мимику. Нас интересуют мельчайшие подробности…»
И в который раз: «Были человека ногами… по карманам не шарили, денег не взяли… Тут крепкие ботинки нужны, не тапочки…»
Эти «тапочки» идут у Гурина навязчивым рефреном, хотя мы вовсе о них не спрашиваем, и в глазах нескладного худого человека бьется такая мольба о том, чтобы вразумил нас господь, наставил нас на путь истинный, на котором и надлежит изобличать преступника, просьба о том, чтоб не возводили мы, всесильные, напраслины и оставили его, горемыку, вне подозрений, — такая мольба, что и я невольно вздыхаю. Как маленькому, мы объясняем Гурину ситуацию, говорим о его стопроцентном алиби и видим, опять же по глазам, что он нам не верит, он разуверился в племени людском…
— Ну, хорошо… Может, Шадурский упоминал своего знакомого Михаила Шедко?
— Может, упоминал, а может, и нет — разве запомнишь по именам всю шантрапу! Для меня они все одинаковы, я с ними не вожусь. Сам в молодости был дурной, дурным остался, но их не люблю. Знаете, как этот Шадурский вошел в камеру? Замер в дверях, огляделся и, растерянно улыбаясь, спросил: «А где же полотенце?..» Ну, вы же понимаете — стелят у порога полотенце, и если ты перешагнул его — значит, салага, новичок, а ноги вытер да еще носком поддал — старый битый волк, рецидивист. Я сидел, но выносить не мог, как они делили всех на этих «воров», «ломом подпоясанных» или «один на льдине»… Полотенце!.. Кошки скребут на сердце, хоть в петлю лезь, а я буду с ним в бирюльки играть! Но, вы ж поймите меня, я ж был один — я вам не вру, — а тут человек с воли, все же живая душа, обрадовался, думал, веселее станет. А он — полотенце, да про то, как угнал мотоцикл, как мужик, хозяин мотоцикла, гнался вслед по улице с половинкой кирпича и орал как оглашенный, а потом вот сказал и про смерть Дениса Чигиря. — Гурин сглотнул слюну. — Я бы этих гадов своими бы руками!..
— Это невозможно. Лучше руками правосудия…
— А ночью, когда я опять остался один, знаете, мне почему-то почудилось, что пацан знает, кто убил Дениса. Или догадывается… Толком он ничего не говорил, но мне почудилось. Я не знаю почему так, я не могу вам этого объяснить…
Из показаний матери Михаила Шедко, взятых инспектором угрозыска Непорожним:
«У Миши нет отца. Миша рос очень скрытным. Много читал. С прошлого года стал выпивать с получки, а в последнее время — каждый день. Буянил, однажды попал в милицию. Не помню, во сколько он пришел домой в ночь на 1 июля. Он часто являлся после полуночи.
Я очень обрадовалась, когда он решил поехать на молодежную стройку в Сибирь. Я сказала: «Давно пора…» Я поцеловала его, поздравила. И вот я узнаю, что Мишу снова разыскивает милиция. Я не знаю его адреса, он не пишет, даже не прислал телеграммы. Нет предела моему материнскому горю. Я его на такой путь не наставляла».
Из показаний отчима Михаила Шедко:
«Я сам работаю с 14 лет, и нечего было ему есть мой хлеб. Михаил работал с 7-го класса. Учился в вечерней школе. Работал сначала грузчиком в магазине. Потом пошел на завод, но его не взяли — малолетка. Подрос — приняли на завод».
Я прокручивал в памяти все эти свидетельские показания о Михаиле Шедко — его матери, отчима, Тамары Киселевой, Филиппова — и ждал, что же ответит Шадурский на простой вопрос: знаком ли он с Шедко?
— Да, — наконец выдавил Шадурский, — знаком. Но так, поверхностно.
— Поверхностно — как я с алгеброй? — сказал Михаил Прокофьевич.
— Поверхностно… — угрюмо повторил Шадурский. На его челе отражалась трудная работа мысли, непонятная для меня растерянность. Я уже привык, что этот мальчик довольно скоро оправляется от неожиданных, каверзных вопросов и в его глазах вновь начинает тлеть нагловатый снисходительный огонек, но сейчас он был явно обескуражен. Наблюдая за ним краем глаза, я с отрешенным видом смотрел в окно, будто мне делать нечего, будто мне все доподлинно известно и настолько осточертела игра в прятки, двухчасовое выуживание всякого захудалого признания, что рот раскрыть лень: выкладывай теперь, любезный, все сам, авось столкуемся.
Михаил Прокофьевич, сопя, листал подшитые папки, подыгрывал мне.
— Ну что, рассказывать будем или молчать? — наконец задал он обожаемый сценаристами детективных фильмов вопрос, отчего я внутренне улыбнулся. Шадурский ерзал на стуле, ждал и боялся следующих вопросов, но молчанье затягивалось, он мог собраться с мыслями, а мы опасались растерять преимущество внезапности атаки.
— О чем рассказывать?
— Да обо всем, — равнодушно сказал я.
— Не знаю, о чем…
— Ну это естественно, — снова встрял Варивода. — Спроси, например, мы о детстве — и ты с удовольствием развел бы антимонии, для которых не хватило бы тысячи и одной ночи. Но ты щадишь наше с тобою время, не хочешь показаться навязчивым и потому предупредительно спрашиваешь, о чем же именно… Давай для начала вспомним, когда ты видел Шедко в последний раз…
— Месяц или два назад, точно не помню.
— Но, надеюсь, ты смеялся с ним над тем, как хозяин мотоцикла, вылетев из общественного туалета, не застегнувшись как следует, но прихватив половинку кирпича, гнался с воплями за тобою?
— Рассказывал.
— Значит, месяц назад ты его видел. А потом?.. Или опять не помнишь?
— Не помню.
— Ну вином-то и стибренными сигаретами «Родопи» ты его угощал, не пожадничал, надеюсь?
— Угощал.
— Так. — Михаил Прокофьевич заглянул в обвинительное заключение по делу Ф. Шадурского, — в столовку ты залез три недели назад, а точнее девятнадцать дней назад. Случилось это около двенадцати ночи. Не той же ночью вы пили, надо было отнести бутылки, спрятать… Или как?
Шадурский кивнул.
— Значит, могли пить на следующий день, то есть ты видел его в последний раз по крайней мере восемнадцать дней назад. А позже?
Шадурский молчал.
— Неужели снова не помнишь? Ну и память у тебя, что за память, — засокрушался Михаил Прокофьевич. — И я, кажется, уже не в силах тебе помочь, вот беда — столовкой оканчиваются твои похождения, наш календарь… Ну, хорошо. А как проходили ваши встречи?
— Как — проходили?
— Всегда ли в теплой, дружественной атмосфере?
— В теплой, дружественной.
— Что-то ты, Шадурский, слово в слово повторяешь меня, не проявляешь никакой творческой инициативы… Неуж ни разу не поссорились?
— Немножко поссорились один раз…
— Как в детском садике, фантики не поделили?.. А под знаменитой «Д», где собираются ольховатские джентельмены? Короче, что ты сказал Шедко, после чего он стал бросаться на всех с кулаками? Тебе и досталось первому…
— «Ну что, Мишенька, боишься?..»
— Почему ты так спросил?
— Ну он же пил ворованное вино… Я пошутил.
— Хорошенькие шуточки — бить своего парня по лицу так, что потом приходится отливать водою!
— Кто вам обо всем рассказал?
— Сорока на хвосте принесла. Что ты имел в виду, когда «шутил»?
— Ворованное вино…
— Вот и неправда. В столовку ты залез двое суток спустя. Так что?
— Ничего я не имел!
— Тебе, я думаю, и вино потребовалось в основном затем, чтобы примириться с Шедко. В принципе из-за него ты и попался. Ну да это не столь важно. Обвинительное заключение, гражданин Шадурский, было готово. Боюсь, что его придется пересмотреть. И не пришлось бы завести еще одно дело. Хотя бы за дачу ложных — преступных! — показаний.
— Я слышал, что он замешан в истории с продавцом… Но я только слышал, болтал кто-то. Я совсем ничего больше не знаю!..
Михаил Прокофьевич хлопнул по столу:
— Ты опять говоришь не всю правду!
— Миша сказал, что он ненавидит себя. Это было на другой день после убийства. Я а подумал, что он виновен, я и сказал. И он полез драться…
7
И упало каменное слово
на мою еще живую грудь…
В мае прошлого года работа завела меня в Ленинградскую область, и я не преминул побывать в Комарове. Спросив дорогу на кладбище, я долго шел лесом, пустынным асфальтированным шоссе. Так долго, что стал сомневаться, верно ли я иду, не миновал ли кладбище среди соснового леса. День был солнечный и свежий, на теплых взгорках, должно быть, росли сморчки. Доносился шум электричек.
Кладбище было уютным и сравнительно небольшим. Из тех, на которых, по словам Пришвина, хорошо лежать. Здесь не хоронили под экскаватор. На главной аллее пожилая женщина собирала в кучки сухие ветки, летошнюю листву. Вероятно, она была служительница кладбища. В ее движениях не ощущалось суетности и присутствовала красота. Мне подумалось, что все эти могилы — ее родные.
Служительница показала тропу к Ахматовой, и я остался один. Я перебирал в памяти стихи из «Реквиема». Я пришел туда не из любопытства и не за тем, чтоб «почтить память», — все это было противно ее натуре. Я пришел оттого, что был живой человек.
…На могиле Дениса Андреевича Чигиря стояла стопка, оставленная, видимо, в девятый, поминальный день; забрызганная дождями, она была прикрыта ломтиком хлеба. Водка до конца еще не испарилась. Точно такую же я видел и в доме Чигирей, стояла на блюдечке на наглухо завешенном темной тканью — невключаемом — телевизоре. И там, и тут рядом были свечи в граненых стаканах, тоненькие, желтые, наполовину оплывшие. С фотоснимка, прикрепленного к временному надгробию — красному деревянному столбику, на эти свечи напряженно глядел Денис Андреевич. На его лице дрожала тень сиреневой ветки. Снимок был десятилетней давности, более позднего, подходящего случаю, наверное, не нашлось. Не знаю, что было у Дениса Андреевича перед глазами, когда он фотографировался для Доски почета ольховатского депо. Теперь же помимо поминальной стопки, хлеба и свечей — еще и стеклянная банка с цветами из его же палисадника. Я положил сбоку сигарету, другую выкурил и пошел прочь. Ничего-то этого ему уже не было нужно, ни сигареты, ни меня самого с моими сомнениями, догадками, погоней на взмыленных лошадях… Все осталось с живыми…
8
После обеда и чаепития с традиционным для этого дома вареньем в традиционных розеточках, на сей раз было клубничное — крупные багровые ягоды и розовый сироп, — мы вышли с Михаилом Прокофьевичем во двор, сели на лавочку под роскошным кустом бузины. Бузина росла по всем четырем углам крошечного сада, и стало быть, вместе с петухом оберегала от нечистой силы. Михаил Прокофьевич сбросил сорочку, облился под краном по пояс водой, но все равно его душил пот: кипящий самовар не зальешь, когда будешь плескать на его бока. Старик сидел, набросив на волосатые круглые плечи влажное махровое полотенце, утирал лоб, бормотал, словно оправдываясь: «Бач ты, якая духота!..» Я же разулся и, вытянув ноги, поставив их на туфли, расслабился на лавочке, ловил легкие движения медленно остывающего воздуха. Мы лениво, под стать тягучему вялому вечеру, переговаривались, и со стороны, наверно, можно было подумать, что вот сидят два мужичка, полугорожане, полудачники, то ли механики авторемонтных мастерских, то ли сменные мастера пивзавода, а может, даже краснодеревщики, сидят, блаженствуют, честно отработав положенные восемь часов, дернув с устатку по рюмочке — той самой, что по четыре двенадцать, как сказал бы бедняга Тимофей Морковка, — безусловно охлажденной в холодильнике или — наспех — под струей воды, слаб человек, сидит, благодушествуют, дожидаясь, когда освободятся жены, одной под сорок, другой под шестьдесят, но несмотря на разницу в возрасте, женщины дружны между собой — благодаря дружбе своих суженых, — сидят, дожидаются, когда же уберут жены со стола посуду, выйдут к ним, чтоб сыграть на крылечке в кингарика, «девятку» или подкидного пара на пару, с погонами и без, попеть вполголоса под гармошку.
Увы, все это было лишь со стороны — в огороде ж бузина, а в Киеве дядька. Разговор наш вился вокруг вещей куда как безотрадных.
Конечно, мы не без оснований полагали, что Шадурский вытряхнул из рукава крапленые козыри и следствие заполучило их. В самом деле. Ведь именно от Шедко он первый и последний раз услыхал о том, что Дениса Андреевича Чигиря избивали ногами. Шедко сказал об этом вскользь, как о само собой разумеющемся, не придавая тому особого значения, когда наутро после убийства случайно встретил Шадурского в городском парке на «бочкодроме», то есть у пивного ларька и когда по всей Ольховатке только и было что разговоров о Чигире. Мелочишки наскребли лишь на два бокала, но Шедко от пива развезло — вероятно, сработали «старые дрожжи». А вечером под известной теперь даже мне буквой «Д» в присутствии шестерых отроков у Шедко внезапно вырвалось вместе со сдавленными рыданиями, что он ненавидит себя, и стал тереть кулаками красные глаза. На работу в тот день Шедко не ходил, прогуливал. Несколько позже, когда он вроде бы успокоился, Шадурский отозвал его в сторону и доверительно шепнул: «Ну что, Мишенька, боишься?» Шадурский нисколько не хотел поддевать обожаемого, недосягаемого Мишеньку, он хотел своей причастностью к общей с ним тайне добиться для начала хотя бы его расположения, но получил взамен зуботычину, да такую, что не удержался на ногах, вышиб плечом доску в заборе — вот тебе и кум королю, сват министру. Он не понимал, не допускал мысли, как не допускает по сей час, что на стезе разгула его удел — выносить параши… Миша же пошел крушить все налево и направо. Это было невероятно и чудовищно, но это было. Древние греки говорили, что один свидетель — не свидетель, и мы нашли всех ребят, присутствовавших при слепом неистовстве Шедко, — Шедко дрался, все верно, но к этому ни слова, ни полслова нового не добавилось, ничего, ничего, ничего… У парня оказалось много приятелей и просто знакомых, он был общительный, Миша Шедко, и мы с Вариводой и люди Борисовича работали с полной нагрузкой, число допрошенных вскоре перевалило за полусотню, и нас брала оторопь — что же, вызывать подряд всех ребят Ольховатки от шестнадцати, скажем, лет до двадцати — двадцати двух, доколь же можно?.. Мы знали о Михаиле Шедко так много, как он, пожалуй, о себе не знал, мы не знали лишь одного, мы не знали главного: кто он, Шедко, — преступник?.. косвенный участник преступления?.. свидетель преступления?.. или здесь замешан кто-то из дорогих ему людей?.. Допрошенные ребята, все как один, первое предположение отрицали напрочь — Миша убить человека не мог. Как ни крути, нам необходим был сам Шедко, он же уехал неизвестно куда, он бежал, вестей не слал, во всяком случае, даже о приблизительном местонахождении нам никто ничего не говорил. А объявлять всесоюзный розыск было преждевременно, для всесоюзного розыска было мало оснований, кот наплакал улик, чтоб будоражить громадную страну. Шедко мы и сами найдем, но как скоро?..
И все же не это было главное в нашем нынешнем разговоре с Михаилом Прокофьевичем: в срочном порядке нам приходилось менять направление всей работы — сегодня рано утром ко мне в гостиницу позвонила Тамара Киселева, мы встретились с ней, и ольховатские панические слухи о двух неизвестных насильниках обернулись реальностью…
Но сперва о материалах, собранных угрозыском, поскольку они поступили в наше распоряжение раньше, нежели заявление Киселевой. Правда, оговорюсь заранее, что эти материалы — опять же, как и версия насчет Шедко — давали только повод к предположениям.
Через Машу-растеряшу с телеграфа и ее подруг — помните завтракавшую в кафе толстушку и двух девушек в ситцевых красных платьях? — майор милиции Борисевич вышел-таки на действительно существующую (или существовавшую?) девушку по имени Таня Контуш, неизвестно как, где и кем оскорбленную и вслед за этим исчезнувшую из Ольховатки. Борисевичу удалось установить следующее.
Турбинист местной электростанции Анатолий Широков готовился играть свадьбу с Таней Контуш. Два дня в Ольховатке, в доме своих родителей, и день в Словатичах, что расположены в восьми километрах от города, — там жила Танина мачеха… Все было готово — подвенечное платье, фата, белые туфельки, черный костюм, колечки, сказаны приглашения. Танины родители покоились на кладбищенском бугре возле Словатичей — мать умерла, когда девочке было пять лет, отец — ровно год назад. Таня окончила восемь классов, ГПТУ и теперь работала швеей-мотористкой в ателье при комбинате бытового обслуживания. Анатолий до демобилизации — до мая прошлого года — плавал на противолодочном корабле, обслуживал «машину», перворазрядник по водному поло. За годы службы привязался к морю, к черноморским бухтам, к белокаменному Севастополю, и было договорено о поездке в Крым. Ольховатка была единственным городом, который видела Таня в свои девятнадцать лет. Таня наотрез отказалась от Толиковых денег и словатичскую часть свадьбы хотела праздновать на свои. Немного собрала, немного одолжила, получила за отпуск. Уехала в деревню, чтоб помянуть в годовщину отца, прибрать хату и двор, утрясти с односельчанами последние неувязки насчет кабана, птицы, яиц и всего такого прочего, как вдруг ночью оказалась в Ольховатке, вызвала Анатолия по внутреннему телефону к проходной ТЭЦ.
Из заявления А. Широкова:
«Таня приехала ко мне в третьем часу ночи на велосипеде. Не знаю, где она его взяла. Была вся истерзанная, с кровоподтеком под глазом, в порванном на груди платье. Она рыдала, и я ни в чем не мог разобраться. Наконец с трудом понял, что на нее напали два хулигана, потребовали назавтра в 11 вечера принести к городскому парку сто рублей. Я сказал, черт с нею, с этой сотней, а про себя подумал, что кому-то придется поваляться на больничной койке. Но Таня все повторяла: «Ты не знаешь, что они со мною сделали, ты не знаешь…» И просила прощения. Я пытался хоть как-то успокоить девушку, но все напрасно. Я побежал к сменному инженеру, чтоб отпроситься с работы. Таня обещала подождать у проходной. Когда я вернулся, ее не было. Я побежал к ее квартирной хозяйке, поднял дом на ноги — Тани нет и не было, не появлялась с тех пор, как уехала в деревню готовиться к свадьбе. Из-за бездорожья ни один таксист не захотел везти меня в Словатичи, да я и не знал, где искать Таню, думал, что она в Ольховатке, у кого-нибудь из подруг. Лишь около десяти часов я добрался до Словатичей рейсовым автобусом. Таню не застал — она только-только была дома, сказала мачехе, что свадьба отменяется, что уезжает в отпуск. На попутной машине я вернулся в Ольховатку, искал Таню на вокзале, автостанции, в аэропорту. Потом уже узнал, что Таня вылетела в Минск на Ан-2.
Мне трудно было предположить худшее, я не верю в это до сих пор, и поэтому, боясь скомпрометировать девушку, не заявил в милицию сразу же…»
Из показаний Антонины Сергеевны Контуш, Татьяниной мачехи:
«В 9 часов вечера у нас в хате должны были собраться соседи, помянуть моего мужа и Таниного отца — исполнялся год, как он умер.
Примерно в половине седьмого Таня взяла у знакомых велосипед и поехала в Новый Двор за хлебом: из-за дождя в наш магазин хлеба не привезли. Вернулась Таня только на следующее утро, около шести часов. Была очень расстроенная, плакала. Сказала, что свадьбы не будет, что Толик ни в чем не повинен, только она. Выстирала платье, просушила под утюгом, отмыла от грязи велосипед, собрала сумку и на молоковозе уехала в Ольховатку. Шофер сказал потом, что подбросил ее до аэропорта…»
Из показаний С. В. Лозняка, шофера совхоза «Букреевский»:
«На словатичскую ферму я приехал как обычно — в восемь утра с минутами. Когда мы уже кончали переливать молоко из бидонов в цистерну, прибежала Таня Контуш. Я сразу же заметил, что девочка очень рассеяна, подавлена и что она не отрывает ладошки от глаза, прикрывает синяк. По брошенным в жижу доскам и кирпичам она прошла прямо к кабине, чуть не оступилась, как я догадался позже — не хотела, чтоб ее разглядывали доярки: «Дядя Степан, родненький, мне надо чем быстрее в Ольховатку, опаздываю на самолет…» Когда я спросил, куда же она летит, она заплакала. Больше я ни о чем не спрашивал, отвез ее в аэропорт, хотя меня ждали на ферме в Рудкове. По тому как Таня брала билет, я понял, что ей все равно, куда лететь. Я стоял в стороне, но слышал, как возмущенно кричала кассирша: «Я вас русским языком спрашиваю!.. Какая же бестолковая!.. Так — куда? куда?..» А Тане был нужен самый первый «кукурузник», да попробуй вразуми это орущей бабе…
Таня купила билет на Минск, на 9-55, по-моему. «Ты покачай мне крыльями, девочка», — сказал я — думал, улыбнется, а она опять расплакалась, бросила сумку, уткнулась лицом мне в плечо. Горе сиротам…»
Вечером того дня, когда мы впервые ознакомились с этими документами, мы вот так же, как и сейчас, сидели с Михаилом Прокофьевичем на лавочке под бузиной, и Михаил Прокофьевич водил хворостиной по земле: вычерчивал нечто вроде карты южной части Ольховатского района.
— Вот погляди… — говорил он. — Это — Словатичи, село на семьдесят пять — восемьдесят дворов… Затем — Узляны, двадцать дворов… Новый Двор — восемьдесят… А это — Ольховатка. Все почти на одной линии. Между Словатичами и Ольховкой — восемь верст. В год по отцу Таня поехала за хлебом в Новый Двор, но и сюда в тот день хлеба не привозили. Делать нечего, пришлось крутить педали до города. Восемь верст по раскисшей дороге заняли у нее около часа. А к Анатолию она попала только в два, в начале третьего ночи. Где же она пропадала, что с нею было по крайней мере в течение пяти часов? Вот вопрос… К южной окраине города, кстати, подступает лесопарк, довольно глухой, безлюдный, осенью в нем опенки растут, дорога пересекает его… Чертовы «маски», и не иначе, — помолчав, заключил он. — Это их работа. В лесопарке, видимо, они ее и подстерегли…
Тогда у нас не было никаких доказательств относительно этих чертовых «масок», никаких зацепок, чтобы что-то предпринимать. Одни лишь предположения, а их не хватало даже на то, чтоб возбудить уголовное дело. Татьяна пропала, «вещдоки» (вещественные доказательства) частью уничтожила, частью увезла с собой. Анатолий ходил как потерянный, у него тоже начался отпуск, и вот, пожалуйста, получил все сразу — и отпуск по-человечески, и свадьбу, и свадебное путешествие к морю. Таню жалели, Анатолию сочувствовали, изустной легенде верили, она растекалась с такими невероятными и противоречивыми подробностями, будто все произошло на глазах нескольких десятков совершенно несхожих людей и в разное время, ну да это явление обычное. Как обычен разряд и тех людей, что маме собственной не доверяет, влипла — значит, суждено, ничего подобного с другой бы не случилось, греховодница, сбежала из-под венца, потому как знала — вовек не простится.
А ведь девочка, судя по всему, милая, гордая… Два мерзавца уже в зародыше погубили молодую семью, нанесли неизлечимую душевную травму, подорвали веру в людей. Недели через две-три Таня вернется в Ольховатку — может, немного успокоенная, может, за тем, чтоб взять на комбинате расчет и навсегда расстаться с городом, который так обошелся с нею, кто знает. Но эти две-три недели нас никак не устраивали, я однажды обмолвился о том печальном счете, что предъявляет обществу преступник за каждый день, который он проводит на свободе: возможны, даже закономерны новые злодеяния, коль пакости одна за другой сходят с рук. Преступник наглеет, а жертвы, увы, становятся все податливее, страх шествует впереди.
Должен сказать, что уже после начатой угрозыском работы по делу Татьяны Контуш, в милицию почти одновременно пришли два анонимных письма. От потерпевших. Но это были лишь сообщения о происшествиях трех- и четырехнедельной давности, исступленный крик души, униженная мольба, чтоб поскорее изобличили двух негодяев в черных масках и — только. Корреспондентки настолько опасались огласки, что не указали даже района нападения, и для расследования, по сути, эти письма были абсолютно бесполезны. Но ничего, пригодятся на суде, уж судить-то будем.
Насильников боялись и ненавидели.
Шла уже третья неделя наших поисков Михаила Шедко и Тани Контуш, — а она, как выяснилось, купила в Минске билет на симферопольский самолет и прошла регистрацию, — силами милиции и общественности третью неделю кряду велось ночное патрулирование на наиболее глухих улицах города, как позвонила Тамара Киселева. И сейчас на основе ее рассказа я попытаюсь воссоздать то, что произошло вечером накануне.
Итак, она перевелась официанткой в ольховатское кафе «Весна». Не было счастья, да несчастье помогло, хоть это и звучит, быть может, с оттенком некоего кощунства по отношению к памяти о Денисе Андреевиче, но ведь что верно, то верно — кафе было лучшим в городе. Находилось оно в старой его части, занимало уцелевшее по недоразумению здание какого-то бывшего уездного присутствия. В свое время, когда расширяли улицу и под снос шли постройки куда лучшего вида и большей ценности (например, деревянная церковь XVIII века, на стене которой в XX веке написали масляной краской: «инв. № 87»), его делили между собой, если не ошибаюсь, булочная, магазин «Культтовары» (детские игрушки, музыкальные инструменты и писчебумажные принадлежности), нотариальная контора, парикмахерская (стрижка «бокс», «полевка», шестимесячный перманент) и фотография (на холсте во весь опор скачущий всадник в натуральную величину, копия с этикетки к папиросам «Казбек»; желающий мог стать за холстом на табуретку и просунуть свое суровое, решительное лицо в дыру, которая была на месте лица всадника. Какое касательство имела Ольховатка к Кавказу, никто не знал, но это не всех смущало. Так вот, когда реконструировали улицу, какое-то из названных заведений переселить было некуда и здание на время обошли стороной, а там и забыли. Потом же, с внезапно вспыхнувшей ностальгией, к затрапезного вида домишке присмотрелись знающие люди, предложили определить его под кафе, разобрали внутренние переборки, почистили что называется ему перышки, и все ахнули, так хорош он оказался.
Тамара, получив кокетливый фартучек и наколку, простирнула их, накрахмалила, выгладила. С фирменным платьем (двадцать сантиметров выше колена, трехчетвертной рукав и гладью вышитый вензель на груди «КВ») дело обстояло посложней, надо было шить за свой счет, да не абы из какого материала, а из такого же, в крайнем случае, похожего на тот, из которого пошили себе девочки «Весны». А где ты теперь его возьмешь… Тамара сдернула простыню, под которой на гвозде, вбитом в стену, висели на плечиках ее платья, блузки и юбки. Более всего подходило голубое, строгих форм, она влезла в него, повязала фартук, подобрала волосы и надела наколку. Все это Тамара проделывала перед зеркалом и осталась довольной — хозяев дома не было, и она чувствовала себя свободно. Красивые сильные ноги (Тамара еще не знала, что почти все женщины несправедливо находят свои ноги красивыми, но этот укор — не про нее), мягкие руки, мягкие волосы, нежная шея и чуточку удлиненные глаза, которые мы еще немного подведем, — вот так, и вот так, в меру скромно, и дерзко в меру, пожалуйста, вот меню, все, что там указано, имеется, кроме мясного салата и цыплят… этих, как их… цыплят-табака!.. а водки или коньяка можно заказывать, простите, не более ста граммов на человека, да ведь разрешается повторять… что, солоночка пуста?.. Ну нет, какая вам разница, как зовут меня, и не надо ожидать после работы, за мной придут… спасибо, но скоро свадьба, жених ревнив, вы правы, — ревнив, как пудель, до свиданья, адью, адью!.. Тамара еще раз крутнулась перед зеркалом, поставила на бедра руки и, отставив ногу, повертела его на каблучке и счастливо засмеялась — молода, прелестна!.. Даже воспоминанье о следователе Скоморохове с его невнятными подозрениями на ее счет не омрачило дум, впереди два полуторасменных рабочих дня, а там выходной, отгул и можно будет съездить к родителям в Красную Зарю, поваляться в траве у речки, сходить за лисичками в лес… А глаза у меня, и в самом деле, немного лисьи, вон ведь какие чертики пляшут, и раскосые, но мы их назло чертям еще подведем!..
Время приближалось к двенадцати, а в двенадцать открывалась «Весна», — пора идти на работу. Фартук, наколку сложила в сумочку, надела светозащитные очки, закрыла дом и пошла, не подозревая, что у нее почти балетная поступь, не вымученная в тренировках, а сама по себе, от папы с мамой и господа бога.
Возле кафе какая-то тетка по-вороньи заглянула в мусорную урну, достала из нее скомканный обрывок газеты, едва разгладила и, обернув стебли букета, выставила руку с товаром на продажу — у чертовки тоже сервис…
До двух пришлось побегать — обеденные часы, и народу было хоть отбавляй, благо, хоть придумали комплексные обеды. А потом поток посетителей как-то сразу иссяк, и вполне разрешалось поболтать с девочками и метрдотелем, потом настал черед своего перерыва на обед, и наконец пошел клиент неторопливый, основательный, большей частью уверенный в себе, не копающийся в карманах, но копающийся в меню, а в дверях, пока без надобности, появился швейцар в лоснящейся тужурке, и за медные пятачки охотно заиграл музыкальный автомат.
А в девять вечера к одному из ее столиков подсел Тимофей Морковка.
— Здравствуй! — дружелюбно улыбнулся он, и она отвечала «Здравствуй!», враждебно застыв над ним с раскрытым блокнотиком и карандашом в руках.
— Меня посадила сюда вон та девушка, — показал Морковка глазами на метрдотеля. — Извини, я не нарочно.
За этим столиком уже второй час ужинала компания из двух тридцатилетних женщин и парня, рыжеволосого, щуплого, сперва робевшего в обществе своих бестолковых шумных спутниц, — какая-то заезжая киношная группа, как поняла из их разговоров Тамара. Она слышала: «У Васи Куриловича, не скажите, фотогеничная мордашка и — зело!..» «А Машка?! Машка — бот с правой ноги, это всем известно, от ее фильмов на версту портянками разит!..» «Попомните мои слова — в потенции это настоящий художник. Но не бережет себя, а жаль, как бы не спился…» «Ага, из нее толк выйдет… Толк выйдет, а бестолочь останется…» — почему-то преимущественно превозносили коллег-мужчин и поносили женщин. Впрочем, трудно было допустить обратное.
Тимофей спросил сто водки, бутылку пива, салат из огурцов, выложил пачку гродненских сигарет и распахнуто оборотился к дамам в злате и пунцовощекому мальчику, который с каждой рюмкой заметно обретал уверенность в себе, в своих талантах — душевных, умственных и физических. Тимофей заинтересованно слушал их, всем своим существом выказывая, что не прочь принять участие в дружеском трепе, что и он не лыком шит, — усмехался в ответ на остроты, но сдержанно — как полагал — уместно и тактично, переводил взгляд с говорящего на бросавшего реплику, даже, кажется, встрял с парой междометий. Но на том все и кончилось — киношабашка рассчиталась, бесцеремонно оставив Тимофея за столом в полном одиночестве. Когда Тамара отсчитывала им серебряную и медную сдачу, что-то около рубля, рыженький мальчик легонько сжал ее пальцы в кулачок и поощрительно улыбнулся:
— Не надо, детка.
Тамара вспыхнула. Девочки говорили, что чаевые — это в порядке вещей, что ничегошеньки в них нет зазорного, ты понравилась клиенту, и он благодарит тебя, а не поправиться ты можешь разве что кретину или последнему жлобу. Разумеется, Тамара не свалилась с луны, она знала, что эти деньги составят солидную добавку к ее зарплате, и, не желая признаваться себе, приготовилась к ним, втайне ждала, и все же это было противно и срамно. И ко всему прочему: лукашевский распрекрасный Тимочка оказался свидетелем этой сцены. С масляными глазами и одобрительной улыбкой, казалось, он говорил: молодец, девка, преотличную работу себе нашла, — принесла же его нелегкая на ее голову…
Сегодня у Тамары уже отобедали два южанина. Оба смуглые, с тонкими седыми усами, белозубые, неторопливые, они попросили принести из кухни перьев зеленого лука, побольше укропа и перца. — Что за город, девушка, как здесь жить, если перца нет, ай-ай-ай! Рассчитывая этих своих смуглых дядечек, Тамара заранее решила округлить счет, недодать двугривенного — все равно ведь э т и не возьмут, а ей придется меньше краснеть. И обомлела, когда из рыхлой разноцветной бумажной сдачи один из них вытянул синюю пятерку и уверенным щедрым движением отодвинул ее от себя — спасибо, дорогая!..
Тамара настолько была ошеломлена, что промямлила: «Спасибо», — и пятерку взяла. А минуту спустя возвращать ее было некому…
Но что теперь прикажете ей делать?
И внезапно Тамару осенило. От своего серванта с посудой, салфетками и фруктами она отыскала глазами Морковку. Тот, уже рассчитавшись с ней, не спеша потягивал свое пиво, курил, слушал «меломана», разглядывал веснянскую публику, лепной потолок, с которого на длинных шнурах свисали медные трубы-светильники, и исподтишка бросал на нее откровенные взгляды. Тамара решительно пошла в буфет и, вернувшись, поставила перед Морковкой графинчик с тремя порциями молдавского коньяка и тарелку с тонкими дольками лимона и конфетами «Ромашка».
— Но я ничего этого не заказывал, — изумился Морковка.
— Ты заказывал, — сказала Тамара и повернулась идти.
— Я не заказывал вина! — запинаясь, запротестовал Морковка и суетливо полез рыться по карманам. — У меня, наверное, и денег-то больше нет. Как же так, Тамара?
— Это бесплатно, Тимофей, на халяву, — пояснила она. И смягчила тон, почувствовав, что излишне жестока: — Ну, от меня, понимаешь?.. Ведь ты меня как-то угощал…
Морковка смотрел на нее недоверчиво.
— В тот день, когда убили Дениса Андреевича… Я просто возвращаю должок.
— Фу, черт!.. — Лицо у Морковки просветлело. — А я думал, что ты решила на моем кармане делать план.
— Пей осторожнее, это не вино, — сказала Тамара и ушла.
9
Я продолжу мои записки теперь уже изложением рассказа Тимофея Морковки — в надежде добиться большей достоверности. Ведь если ты не в состоянии оправдать человека, то по меньшей мере попытайся его понять. Припоминаю, что в свое время Илья Эренбург регулярно читал нашу «Правду» и французскую «Фигаро», хотя некоей пристрастности, видимо, не избежать и здесь.
…Тамара ушла, оставив его с коньяком, лимоном и пригоршней шоколадных конфет, слегка смущенного и немало взволнованного, то и дело промокавшим лоб с большими залысинами скомканным платком. Смущенно, впрочем, вскоре прошло, а вот взволнованность не оставляла, даже коньяк не брал. Больше того, — вконец разбередил душу. Он пытался поймать ее взгляд, но взгляд ее ускользал, поймать за руку, когда проходила мимо, коснуться платья, извинительно и нежно, но она, словно нарочно, держалась от его столика в стороне. Для чего ей все это было нужно? Ставить коньяк, а потом делать вид, будто не замечает его, будто он — тьфу! и разотри?.. И под конец, когда уже укатил инкассатор, когда в кафе притушили огни и метрдотель со швейцаром принялись выставлять последних, самых веселых и чрезвычайно последовательных гуляк, когда сказали и ему: «Кафе закрывается, молодой человек, и нечего тут рассиживаться!..» — Тамара не заступилась за него, не оставила в зале — как не родная. Он пошел прочь, теперь уже сам не желая оборачиваться на Тамару, едва сдерживая гнев, досаду, обиду. Сперва думал хлопнуть, ну, не хлопнуть, так в сердцах закрыть за собою дверь или бросить ее настежь распахнутой, но в последний момент устыдился, все переиначил — к чему метать бисер попусту, девчонка взбалмошная и никто никогда не знает, что у нее на уме, что она собирается отчебучить…
Тимофей охлопал карманы, которые топорщились из-за конфет, нашел спички и раскурил сигарету, стоя в тени аккуратной уличной липы и не спуская глаз со входа в кафе, — Тамара не шла…
Но он был экономист, то есть в принципе был аналитик, и понемногу успокоился, допустив, что она оттого вела себя так отчужденно, что не хотела сплетен с первого же дня своей работы в «Весне», — Тамара не шла…
Постепенно он вернулся к мыслям, которые досаждали ему еще в кафе. В кафе он думал, что, судя по всему, опоздает на последний лукашевский автобус. Теперь же строить предположения на этот счет было незачем — он опоздал. И оставалось одно из двух: либо надеяться на милость шофера ночного покровского экспресса (захочет ли останавливаться на лукашевской развилке), либо провести ночь в Ольховатке. Но не в гостинице, конечно, не на вокзале, а с Тамарой в каком-нибудь укромном уголке. Скажем, на лавочке над рекой, в сквере при стадионе — да мало ли где. К себе, наверно, она не поведет, постесняется хозяев, этот номер пустой.
Ну, а если, размышлял Морковка, вдруг если поведет?.. — и хмельная горячая кровь хлынула в голову, и он ощутил мощь своего тела, мощь каждой мышцы, бешеную силу рук. Несдобровать бы тому, кто злонамеренно задел бы его сейчас!..
Но тут всплыло одно неприятное «но»: его элегантные, редкостной расцветки носки были с дырочками. Впрочем, если уже быть откровенным до конца, не то что с дырочками, а дырявы, еще точнее — без пятки, считай что без ничего, одна лишь видимость. Как манишка под пиджаком на голых плечах или плащ у пройдох Франсиско Кеведо… Помню, я где-то читал о партизанском командире, не боявшемся ни черта, ни дьявола и все же перетрусившем донельзя: на лесную деревеньку, где отдыхал отряд, вдруг налетели немецкие самолеты, и этот командир, мывшийся в баньке, едва под лавку в панике не залез — испугался, что убьют нагим… Говорю это в оправдание Морковки: ведь он о смерти нисколько не думал, как не думал утром о том, что может вечером оказаться в гостях у Тамары, — Тамара не шла…
Уж не одурачила ли она его, не улизнула ли с черного хода? Тимофей заглянул в щелку меж тяжелых оконных штор, разглядел движение каких-то людей — и опять успокоился.
Само собой, при надежном его положении и нынешней ее работе они скоро бы стали на ноги, обзавелись бы и мебелью и «жигулем», про запас кое-что имеется, — будьте спокойны на этот счет. Дело за квартирой, но и квартира обещана через месяц-другой. Правда, колхоз намерен дать однокомнатную, хоть и со всеми удобствами. А если родится семья, что ж, эта семья не достойна двухкомнатной? Или как? Кухня и зал — на первом этаже, спальня и лоджия — на втором. И не брать то, что само идет в руки, — по меньшей мере, глупо, — Тамара не шла…
Тимофей закурил новую сигарету и подумал, что для следствия он теперь вне подозрений, не в пример Тамаре и ее дружкам, разным там слесаришкам, шоферишкам и лоботрясам… Безусловно, рисковать своей репутацией он не намерен, и в омут головой он не бросится, — и вышла Тамара.
Не замечая его, скорой походкой она прошла мимо и тотчас свернула за угол улицы. Тимофей не очень уверенно двинулся следом.
— Тамара! — окликнул он наконец.
Она вроде бы как споткнулась от неожиданности, быстро обернулась и опять пошла, но уже помедленней, позволяя догнать себя.
— Я столько ждал, — пожаловался Тимофей.
— Бедненький… А зачем?
— Ну, как же…
Дальше шли молча. Тамара чуть впереди, своей балетной легкой поступью, размахивая одной рукой и придерживая сумочку, висевшую через плечо, другой.
Так, в молчании, вновь свернули в какой-то переулок. Лишь впереди, на столбе у перекрестка, города лампочка. Большинство домов за глухими заборами и листвою деревьев были темны. Если же хозяева не спали, то свет, как правило, сочился уже сквозь щелка ставень. Под ногами сухо скрипел песок, которым была притрушена мостовая, и они невольно придержали шаг, словно опасаясь выдать себя.
— Спасибо, что проводил, — сказала Тамара, когда выбрались к автобусной остановке. В ее голосе Тимофей уловил, прежнюю несносную иронию. — До автостанции недалеко, но городские автобусы еще ходят. Всего!..
— Могла бы быть более повежливей… — хотел защититься Тимофей, но Тамара, не дослушав, поторопилась улицей домой.
Преследовать ее было унизительно и бессмысленно. «Ну и черт с тобой, — с внезапным спокойствием подумал Тимофей. — Цаца!..» Закурил сигарету, попытался разобрать на жестянке с буквой «А» — указателе остановки — расписание автобусов после полуночи, но из-за скудного освещения не разобрал. Постоял, заложив руки за спину, походил взад-вперед, сел было на скамью у забора, как в той стороне, где скрылась Тамара, раздались голоса, почудилось — Тамарин, испуганный, протестующий, и мужской, невнятный, бубнящий, потом донесся топот, и Тимофей увидел Тамару и тяжело бегущего вслед человека, все понял, поспешно поднялся и, крадучись, прижимаясь к заборам, скользнул в переулок.
— Тима!.. Тимочка!.. — в отчаянье во весь голос закричала Тамара.
В ближнем доме тотчас погас свет, но в доме напротив — вспыхнул. Загремела цепью и надрывно забрехала собака.
— Тима-Тимочка… — повторил он одними губами. — У тебя хахалей пруд пруди, и при чем тут Тимочка?! Кобели сводят счеты, а Тимочка заступайся… Да, — бормотал он, — теперь я знаю, что из-за нее погиб продавец, конечно из-за нее. Вот так же, наверно, встретили, не разобрали впотьмах, что старик, и кокнули, а всякие дурни… — От быстрого бега он захлебывался словами. — А всякие дурни… — Теперь он имел в виду следствие, цепляющееся к невинным. — Нет, наше вам с кисточкой!..
Его душило благородное негодование, но в глубине души он чувствовал, что неправ.
10
Полусонный, вялый, я водил бритвой по отекшему со сна лицу, когда затрезвонил телефон. Часы показывали четверть седьмого. Странно. Кому я мог понадобиться в такую пору?
— Дмитрии Васильевич?.. Это я, Тамара… Вы просили позвонить… — Голос у девушки был взволнованный. — Вот я и звоню…
— Что-нибудь случилось? — спросил я некстати — случилось, мог бы не спрашивать.
— Мне хотелось бы с вами встретиться. Я все объясню. Куда мне прийти?..
— Сейчас?.. Ну, приходите в гостиницу. — И в довершение еще раз сморозил: — В буфете есть кофе…
Действительно, до кофе ли ей сейчас, если звонит так рано.
— Нет, там много народу, а я в синяках. — Тамара всхлипнула.
Сон как рукой сняло.
— Да что с вами, миленькая? Кто вас обидел?
Тамара не отвечала. Я слышал, как она жалобно шмыгала носом.
— Хорошо, вы знаете, где прокуратура?
— Нет.
— А райотдел милиции?
В ответ — опять молчание.
— Алло, Тамара! Скажите хоть в двух словах, что все-таки стряслось? Алло!..
— Меня избили. Эти… «маски»… Не подумайте ничего другого.
— Вы откуда звоните?
— Из автомата. Это недалеко от моего дома.
— Улица Гоголя, дом номер…
— …девять.
— Ступайте домой. Я еду к вам!
— Хорошо…
— Только не плачьте, пожалуйста!
Тамара повесила трубку.
Я позвонил дежурному, чтоб немедленно выслал мне машину и чтоб связался с начальником райотдела полковником Елисейчиком, с Борисевичем и Вариводой — по срочному делу я буду в угрозыске в половине восьмого. Кое-как добрился, ополоснул лицо, оделся, сунул в рот печенье и, запив его стаканом холодной воды, сбежал вниз. К подъезду гостиницы уже подруливал «газик».
Я потратил немало усилий, чтоб уговорить Тамару ехать со мною в милицию. Там буду я, будет Михаил Прокофьевич — добрый старик, тоже хорошо ей известный, майор Борисевич — именно он занимается делом «масок», его никак не обминуть, и полковник Елисейчик — этому вообще по службе сам бог велел.
Помню одну десятилетнюю девочку, горько рыдавшую от стыда, от ужаса, — у нее обозначились грудочки. Тамара далеко не наивна для своих 19 лет, преступники ничего от нее не добились, и тем не менее… Не знаю, позвонила бы Тамара, пришла бы к нам, случись все же с нею беда, тут бабушка надвое гадала, но несомненно одно: Ольховатка, растревоженная беспрецедентными слухами о «масках», будет благодарна ей, хотя, вероятнее всего, никогда не узнает в этой связи ее имени. Ведь чем мы располагали до сих пор? Одними лишь слухами, двумя анонимками и предположениями относительно истории с Таней Контуш. То есть, по сути, ничем.
Должен сказать, что Маша-растеряша с телеграфа приняла несколько дней назад телеграмму, предназначенную для Антонины Сергеевны Контуш, Таниной мачехи. Вот ее текст: «Все благополучно не волнуйтесь Таня». Телеграмма была отправлена из Севастополя, как выяснилось позже, — с Северной стороны, приморской окраины города. Борисевич передал в Севастополь подробные Танины приметы, попросил проверить, прописалась ли она, искать на пляжах, но не объявлять по селектору, дабы не спугнуть. Сейчас, когда все так живо в ней, узнав, что ее ищут, она могла бежать и из Севастополя.
Анатолий Широков, Танин суженый, выслушав просьбу постоянно держать нас в курсе всех дел, тоже вылетел в Крым. Но обнадеживающих вестей, равно как и севастопольская милиция, пока не слал…
Итак, Тамара Киселева, расставшись после полуночи с Морковкой, была встречена на перекрестке улиц Гоголя и Товарищеской двумя неизвестными в черных матерчатых масках, напяленных на голову, как чулок. Ей было предложено уступить по-хорошему, в противном они будут «нахальничать». Но она вырвалась и убежала…
Тамара полагала, что в этом кратком заявлении заключена вся информация, которой нам будет вполне достаточно. Не для изобличения преступников — как ты их теперь найдешь, а скорее просто для констатации факта. Девушка немного успокоилась, она сидела в кабинете полковника Елисейчика спиною к окну, держала ладошку на свежем кровоподтеке под глазом, ждала, когда же мы отпустим ее. Да ведь скоро сказка сказывается, не скоро дело делается…
— Значит, так, — сказал Михаил Прокофьевич. — Вы шли по Товарищеской, и вас встретили на пересечении с улицей Гоголя…
— Да.
— Там, кажется, водопроводная колонка?
— Верно. Мы ходим к ней по воду.
— Перекресток был освещен?
— Нет. Не знаю почему, но лампочка вчера не горела. Я увидела это издали и сперва остановилась, мне как-то сразу стало не по себе. Потом пошла, почти побежала, ну, знаете, трусцой, чтоб поскорее проскочить перекресток. И вдруг слышу голос: «Девушка, что вы делаете?» — «Бегу». — «Побежим вместе». Это был высокий парень. Я глянула, а он в маске, у меня все и оборвалось. Парень сказал, что не надо бояться, что со мною хочет поговорить один человек — и показал рукой на второго, маленького, тот поджидал у забора. Я заплакала. Этот маленький был тоже в маске. «Постойте, мадам, успокойтесь, мы вам ничего плохого не сделаем», — сказал он. Когда я перестала плакать, он взял меня за руку: «Вот и хорошо. Что мы страшные, что ли, такие?»
— Вы сказали — высокий парень…
— Да, высокий.
— Но почему — парень?
— По всему было видно, что он сопляк, пацан — голос петушиный, ломкий, слушается низенького. Оба были выпивши, но не очень.
— Во что были одеты, не разобрали?
— Этот маленький хвастал, уже потом, что дружки привезли ему брюки из Испании. Все заставлял меня пощупать материал. Да, брюки испанские, он несколько раз напоминал об этом. Очень гордится ими.
— Цвет, покрой?
— Я не помню, я ничего не разобрала.
— Вы перестали плакать…
— …и маленький спросил, где я живу, где работаю. «Кафе «Весна» — это тут, рядом», — заметил высокий. «Что ты плетешь — мы же нездешние», — шепнул маленький, но я расслышала. Тут я вырвалась и побежала в обратную сторону, к остановке, где был Тимофей. Здесь как раз подошел автобус. Из него вышла женщина с ребенком. «Женщина, спасите меня!..» — я подхватила ребенка на руки, думала, с ним не тронут. Женщина перепугалась: «Ратуйте девушку!..» Я закричала: «Тима, Тимочка!..» — но этот Тимочка так шарахнулся в переулок… Маленький велел напарнику: «Дай так, чтоб замолчала!» И вот… — Тамара приоткрыла синяк. — Взяли с двух сторон под руки и повели. Потом я все же снова вырвалась, убежала.
— На какой улице, в каком месте?
— Где-то на Садовой, — неуверенно ответила Тамара, закусив губу.
— Ого, куда завели! — присвистнул Варивода.
— Они водили меня по городу около часа.
— И вы за это время не смогли их хоть как-то рассмотреть?
— Мы обходили все освещенные участки улиц.
— Примерный рост преступников?
— Маленький — вот такой, — встала Тамара, — на голову, наверное, ниже меня. А второй… — Она вскинула вверх руку. — Блондин.
— Блондин?!
— Когда я вырвалась, я сдернула с него маску. Блондин.
— И вы смогли бы его опознать?
— Не знаю… По голосу, может, и узнала бы, хотя он почти все время молчал, шел сзади. Маленький говорил, чтоб я не боялась, что никто ничего не узнает. «А этот?» — Я показала на его дружка. — «А!.. Немая скотина!.. Зато Сергей — самый сильный парень Ростова».
— Ростова?..
— Маленький внушал мне, что они приехали из Ростова к товарищам, проигрались здесь… «Я сегодня расплачиваюсь, я нездешний, я приезжий. Завтра я, может, буду уже на кладбище. Рисковать мне нечем. У меня нету даже матери… Где ваш парк? Куда вы ходите на танцы? Номер вашего дома?» — «Девятый». — «Сергей, запомни — девятый номер. Завтра, если бы мы встретились, вы узнали бы меня?» — «Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра я вас не узнаю и знать не хочу». Потом он бросал нож в деревья, заборы и все повторял: «Я бью без промаха!» У них была водка, они пили из горлышка и заставляли пить меня. Их совсем развезло, я бы смогла убежать от них, как это я сейчас понимаю, и раньше, но тогда не решалась, была очень напугана, у меня просто ноги отнялись.
— Как же вам это удалось?
— Мы с маленьким вошли в какой-то двор. Высокий остался на улице караулить. Когда я снова заплакала, в доме загорелся свет и выскочили двое мужчин. «Если это «маски» — стреляй, нам ничего не будет!» — сказал один из них. Я не знаю, было у них ружье или нет, но маленький побежал в глубь двора с криком: «Только попробуйте!.. Вы не знаете, что вам за это будет!» — а за ним и высокий. Но вначале тот схватил меня за руку, я вырвалась и нечаянно сдернула с него маску, увидела, что он белый. Вот и все. Я бежала до своего дома как угорелая.
— У них была поллитровая бутылка водки?
— Да.
— Что же, они держали ее в руках? В карманах брюк, пиджака?
— Не знаю, не видела. Но когда они распечатали бутылку и немного отпили, то отняли у меня сумочку, поставили бутылку в нее. Высокий убежал с сумочкой и остатками водки, унес мой паспорт.
— Деньги в сумочке были?
— Немного, около пяти рублей.
— Вы были в этом платье?
— Ну что вы! Они порвали платье.
— Платье мы привезли с собой, — сказал я. — Мы все привезли. И лифчик.
Тамара покраснела при этих моих словах.
— Нам придется все это посмотреть, — буркнул Варивода. — Коротышка называл своего сообщника все время Сергеем?
— Нет. Раз или два — Виталиком. Когда опьянел.
— Понятно. А Сергей-Виталик — коротышку?
— Никак. Кажется, никак. У меня голова идет кругом, а вчера я вообще ничего не соображала. Я, может, и теперь что-нибудь перепутала… Мне можно идти?
— Еще рано, милая, — вздохнул Варивода. — Вам надо дать показания на месте происшествия, а нам — разыскать всех свидетелей, и в первую очередь тех двух мужчин, что спасли вас, пройти с подворным опросом. Сейчас вами займется судебный эксперт, это недолго и не страшно. И он же заодно закроет гримом ваш синяк… Сволочи!.. — ругнулся он напоследок.
11
Оперативно-розыскная группа, Михаил Прокофьевич и Тамара выехали в район происшествия, мы же с полковником Елисейчиком отправились час спустя: пришла еще одна потерпевшая — все от тех же «масок». Невероятно, но история с нею случилась более месяца назад и она уже приходила сюда с устным заявлением…
Срочным порядком, как только Божена Антоновна Ручаевская изложила причину своего прихода, полковник Елисейчик послал за сержантом Марчуком, и теперь тот сидел, румяный парень, опустив голову и с трудом соображая, что он наделал.
Полковник был вне себя. Наверное, не присутствуй в кабинете эта женщина, сорокавосьмилетняя няня детского сада и я, Марчуку пришлось бы и того хуже.
В тот злополучный полуторамесячной давности вечер муж Ручаевской пришел навеселе, и Божена Антоновна сочла за благо уйти вместе с четырнадцатилетней дочерью к соседям. Смотрели телевизор. Около полуночи пошла глянуть, не угомонился ли ее мужик, ведь дочери пора спать, и у своей калитки была остановлена двумя парнями в шутовских тряпичных масках, плюгавеньким и высоким. Сначала ничего не могла понять, ведь в городе все было спокойно, да и не до этих придурков, по правде говоря, ей было. Парни потребовали денег и начали обыскивать, хотя видели, что ничего при ней нету, а одета в одно легкое платье. (Это понятно: свое дело им легче начинать с имитации заурядного ограбления.) Угрожали штангенциркулем. Плюгавый посылал напарника, которого называл Васей, проверить, все ли кореши на местах, то есть создавал иллюзию, что их здесь много. Божена Антоновна оттолкнула плюгавого, но тот подставил ногу, и она упала. Не успела подняться, как подскочил высокий и толкнул пинком. Внезапно, чего-то испугавшись, хулиганы бежали. Она же отправилась прямо в опорный пункт правопорядка. С пятое на десятое ее выслушал вот этот, сидящий в кабинете, сержантик и сказал: «Выдумываете, тетка, абы-что. Наверно, мужик пришел пьяный. Вот и напишите на него заявление, упекем, как миленького, на пятнадцать суток!..»
Вчера вечером слова смотрела телевизор у соседей. Потом, услыхав крики, выбежала на крыльцо. Заметила двух ребят, похоже, тех же самых, преследующих по улице Гоголя девушку. И вот теперь Божена Антоновна пришла с претензиями к самому полковнику — когда будет положен конец безобразиям?..
— Полтора месяца!.. Полтора месяца профукали ни за что ни про что!.. — возмущался Елисейчик. — Кто дал право пропускать мимо ушей заявления граждан?! Почему никому не доложил?.. Почему и потом, когда поползли слухи, молчал по-прежнему?.. Угрозыск по крупицам пытается установить, откуда, как распространяются слухи, а он в шашки играет, и не мешайте ему, идите вы со своими смехотворными заявлениями!!! В городе шпана, а Марчуку… Марчук играет на гитаре!.. — Заметив на лице сержанта тень робкой улыбки, Елисейчик взвился вновь: — Ты разве не понимаешь, что наделал?! Так и знай: даром тебе это не пройдет! — И с размаху сел на свое место, не поднимая головы, побарабанил пальцами по столу, полез за сигаретами. — Недавно прислали к нам — дескать, «готовенький», — кивнул он на дверь, за которой скрылся Марчук. — Еще раз напортачит — вытурю, хай катится ко всем чертям… — И добавил устало: — Вы уж извините нас, Божена Антоновна, люди, они везде ведь только люди, что в космосе, что в батискафе…
На «Волге» начальника милиции я отвез Божену Антоновну домой. Связавшись с Вариводой по рации, я узнал, что он, Тамара и эксперты уже находятся на Садовой, разыскивают двор, где Тамаре удалось вырваться из рук негодяев, что сотрудники угрозыска и члены опорного пункта правопорядка идут по всем домам подряд в сторону той же Садовой, начав с перекрестка улиц Гоголя и Товарищеской, — то есть проводят так называемый подворный опрос: беседуют с жителями, собирают крохи о ночном происшествии — кто что видел и слышал. Уже найдена женщина, которая после полуночи выходила с ребенком из автобуса, обнаружены следы ножей, которые преступники метали в заборы и деревья. Кроме того, людям предлагается тщательно осмотреть свои дворы, тем более, если они открытые, осмотреть участки улиц перед домами. Ведь преступники были пьяны, Тамара сопротивлялась, они преследовали ее, сами потом бежали и не исключено, что могли что-то потерять, оставить какие-либо другие следы. Следствие интересует все — будь то оторванная пуговица, оброненная расческа, огрызок карандаша, обрывок газеты, ткани. И, конечно же, никого из нас не оставляла надежда, что, быть может, кому-нибудь известно и нечто большее. Замечу попутно, что большинство преступлений расследуется именно благодаря допросам, и умение логически сопоставлять накопленные факты играет в нашем деле первостепенную роль. Среди населения не должно быть паники — и это вторая сторона подворного опроса, слишком дорого обходятся нервы людские. И потом, люди должны знать, как поступать впредь в случае рецидива.
…Преступников спугнули и преследовали через свой двор братья Пивоварчики — пивовары ольховатского пивзавода (простите, но это не авторский произвол. По понятным читателю причинам я изменил в записках почти все имена действующих лиц, запутал даже географию — здесь же рука не поднялась. Я сам не люблю «говорящих» фамилий, но если реально существующие Пивоварчики варят пиво…). Сейчас братья были на работе, и Михаил Прокофьевич послал за ними машину.
Садовая улица была застроена частными домами. Лишь дом, в котором жили Пивоварчики, оказался двухэтажным, восьмиквартирным, красного кирпича. Входная дверь была со двора. Во дворе — восемь сараев, пристройка для мотоцикла, водопроводная колонка, в глуби, в углу, — мусорный ящик и деревянная уборная, столб с лампочкой под жестяным колпаком. Свет был исправный. По свидетельству Тамары, сюда, к освещенному месту бежали преступники. За уборной в дощатом заборе оказался лаз в старый яблоневый сад школы-интерната глухонемых детей. Постройки интерната выходили уже на параллельную улицу. Сад не охранялся. Словом, путь для бегства был выбран самый удобный. Свое дело преступники вершили в разных концах города, и если они так хорошо знают ольховатские улицы, дворы и задворки, сомнений, что они местные, никакие не залетные, не оставалось. Разумеется, они могли заранее определить безопасные, с их точки зрения, дворы и сады, подобные интернатскому — глухому, темному, с тайными лазейками, но ведь, засыпавшись на Гоголя и Товарищеской, провели же они Тамару через значительную часть старого города и нигде не нарвались на наши патрули. И потом, это напоминание, высказанное шепотом, чтоб не разобрала Тамара: «Ты что плетешь — мы же нездешние!..» — эта дешевая уловка лоботрясов. И один из них, если не оба, — вчерашний мальчишка, вчерашний пацан, только пацан и может знать все ходы и выходы родного города, района, по своему детству помню, во все дыры нос совал, чем загадочнее, тем интереснее…
Пивоварчики с удовлетворением оглядели прибывший к их долгу милицейский десант — это было уже похоже на работу. Братья в одинаковых брюках, рубашках, в легких рабочих пиджаках «хебе», одного роста и одного, кажется, возраста — лет двадцати шести. По сторонам толпились соседи, зеваки. Я видел, как неуютно чувствовала себя Тамара, и ободряюще улыбнулся ей — крепись, мол, девочка.
— Пиво не дали доварить, — сказал один из братьев. И представился: — Пивоварчик Павел.
— Владимир, — сказал второй.
— Будете пить некачественное, — продолжил первый. — Впрочем, так вам и надо.
— Ладно, — нахмурился Варивода. Он был большой любитель пива. — Рассказывайте.
— Да что рассказывать!.. Живем с мамой, не женаты. — Павел скользнул улыбчивым взглядом по Тамаре, он догадывался, кого выручал минувшей ночью. — Мы уже спали, когда во дворе поднялась какая-то возня. Разбудила нас мама: «Сынки, сынки! Нехто девушку катует!..» Володя сдернул со стенки ружье, и мы выскочили в одних трусах, в шлепанцах. Я крикнул: «Если это «маски», — стреляй, нам ничего не будет!» Стрелять Володя все же побоялся, а надо было пальнуть, хоть по пяткам. Или в воздух.
— Я не знал, какая дробь в патронах. Второпях не разобрался, — заметил смущенно Володя. — Если бы был уверен, что бекасинник — наверно, врезал бы. Пусть бы выколупывали друг у друга из мягкого места по пятьсот-шестьсот штук. Не смертельно, но и удовольствия не много.
— Побежали они не в темный угол двора, куда, казалось, должны были бежать, а к мусорному ящику, к столбу с фонарем. Я этому очень удивился. Думал, сейчас мы вас возьмем, братцы-кролики. Шесть лет здесь живу, а не знал, что за ящиком есть лаз в заборе. Первым улепетывал в дурацкой черной тряпке на голове ледащий такой, визгливый заморыш. Он все верещал: «Только попробуйте стрелять! Мы вам покажем! Своих не узнаете!..» Но защищаться и не думал, чесал во все лопатки. Тут, как назло, Володя потерял шлепанец, запрыгал на битом стекле. Возле помойки валялось какое-то ведро, и я бросил им в высокого, и он едва носом не запахал, угодил головою прямо в дыру. И все, смылись, как в воду канули: в саду темень была страшенная. Мы вернулись назад, но след девушки тоже простыл… Ты очень испугалась, верно? — повернулся Павел к Тамаре.
Тамара кивнула, прикусив нижнюю губу. Потом тихо сказала:
— Спасибо…
Эксперты тщательно осмотрели лаз в заборе, поколдовали над отпечатками каблуков в саду, где земля была мягкая (каблуки соответствовали 37-му и 44-му размерам обуви), подобрали дырявое ржавое ведро, которым Павел Пивоварчик запустил в одного из преступников, — чтоб обработать его в лаборатории, попытаться обнаружить следы крови. Крохотные, едва различимые на глаз обрывки ткани, нитей, собранные по всем сторонам лаза с торчащих кончиков и шляпок гвоздей и всевозможных заусенцев, шероховатостей дерева, отдельные человеческие волосы и пучки — все это тоже годилось для следствия. К сожалению, служебно-розыскная собака следа не взяла, но зато мы определенно знали: их двое, они местные; на теле высокого, белобрысого, возможны ссадины, ушибы, он подчиняется напарнику; старшой — маленький, низенький, коротышка, плюгавый-плюгавенький, ледащий — соплей перешибешь, визгливый заморыш в штанах, возможно, действительно испанской фирмы, трус, не мужчина, человечишко без намека на какую-либо нравственность, вообще без морального тормоза, развратный ублюдок и потому опасный преступник, подлежащий незамедлительной изоляции от общества.
Коротко посовещавшись, решили сегодня же, после обеда организовать и дневное патрулирование — искать высокого юного блондина под мифическими именами «Вася», «Сергей», «Виталик». Тамара Киселева, поколебавшись, согласилась помочь нам, и мы связались с директором кафе, чтоб он освобождал ее в ближайшие дни хотя бы до семи часов вечера.
Тамара и двое молодых людей из отдела Борисовича натолкнулись на этого парня у центрального ольховатского универмага, когда он покупал в киоске «Союзпечати» пачку гродненской «Орбиты». Она услышала его голос и сжала локти своих спутников: «Это — он!» Парень был высок, на щеке красовалась свежая ссадина, походка — неловкая, прыгающая. Смущало только одно — он был брюнет (успел перекраситься?.. ошиблась ночью при тусклом электрическом освещении?..).
Парень скользнул равнодушным взглядом по Тамаре, засунул сигареты в задний карман брюк, направился в универмаг. В дверях неожиданно обернулся, встретился с девушкой взглядом. Поднялся на второй этаж, начал было перебирать вешалки с мужскими сорочками, опять заметил Тамару и, точно почуяв неладное, — а глаза у Тамары горели испепеляющим огнем, — хотел скрыться через боковую дверь магазина. Здесь был задержан и спустя полчаса доставлен к нам.
— Фамилия, имя, отчество?
— Анисин Вениамин Юрьевич.
— Год рождения?
— Одна тысяча девятьсот пятьдесят восьмой.
— Место жительства?
— Город Ольховатка, улица Выгонная, дом семь.
— Где вы работаете?
— В консерватории.
— Вы — органист, виолончелист, дирижер? — Это встрял зануда Варивода: консерватории в Ольховатке не было. Варивода, не поднимая головы, листал паспорт Анисина, красный, нового образца.
— Да нет, — поморщился Анисин. — Это я по привычке, у нас так говорят. Я работаю на овощных консервах.
— Как трактор — на дизельном топливе? — Понятно, это вновь Варивода. Я чувствовал, что старик раздражен, и, кажется, догадывался, чем.
— Да нет, я работаю на заводе плодоовощных консервов. Слесарем.
— Вот так и следовало сразу отвечать.
Анисин держал в руках бумажник, на котором целомудренно улыбалась раскосая восточная красотка с распущенными прямыми волосами; она же, уже обнаженная, прищурившись, целилась из револьвера во всякого, кто начинал рассматривать ее в иной, наклонной плоскости.
— У вас крашеные волосы?
— Да…
— Натуральный цвет волос?
— Льняной.
— Когда вы перекрасились?
— Сегодня.
— Почему?
— Этого хотела моя девушка, Лара.
Мы переглянулись с Михаилом Прокофьевичем. Господи, неужели вышли?.. Нет, нет и нет, все слишком просто, так не бывает, во всяком случае у меня не было. Правда, мне приходилось обычно ввязываться в расследование по прошествии длительного времени, спустя недели, месяцы и даже годы после совершения преступления. Но с другой стороны — почему обязательно надо тыкаться во все щели, все перепроверять, передумывать, почему не может хоть раз в жизни повезти!.. Тем более, если ты идешь по горячим следам…
— Где это вас угораздило? — Я показал на ссадину на его щеке.
— Вчера вечером в поезде. Я возвращался из вагона-ресторана, а тут как дернуло… На переходной площадке.
— Вчера вечером? Куда же вы ездили и к кому?
— В Гродно, на барахолку.
— С кем?
— Один. — И упредил нас: — Купил рубашку, носки, бумажник. — Анисин показал бумажник, потрогал свою заморскую ситцевую рубашонку, на которой на английском языке были отрывочно опубликованы всевозможные объявления, реклама, интервью: заявления Фреда Широ, тренера НХЛ, после очередного раунда хоккейных битв, программа одиннадцатого телевизионного канала, майская кухня одного из отелей Багамских островов и так далее, тому подобное.
— Зачем же вы ее покупали? Все эти сведения давно устарели, — усмехнулся я. — Несколько лет назад.
— Красивая, — вдруг по-мальчишески обезоруживающе улыбнулся он.
Да, он слышал о каких-то неуловимых «масках» и, узнав о наших подозрениях, растерянно порылся в бумажнике, нашел железнодорожный билет.
— Вот, пожалуйста. Я только сегодня приехал в Ольховатку, в семь утра. — Он постучал по своим часикам, дамской «Заре» на широком мужском ремешке.
— Надо же, как совпало, — насупленно кивнул Михаил Прокофьевич. — Всю жизнь вот так — зависишь, черт подери, от каких-нибудь пятен на солнце…
Из показаний Анисина В. Ю.:
«Я блондин, то есть волосы у меня светлые. Однако в настоящее время я брюнет, то есть волосы у меня черные. Перекрасился я лишь под влиянием Лары. Поскольку я с ней дружу, она предложила мне перекраситься под нее.
Мое алиби (а я это слово понимаю) подтвердят все — мои родители, Лара, товарищи, проводница двенадцатого вагона, в котором я вернулся в Ольховатку…»
Полностью установив личность свидетеля, проверив алиби, мы отпустили его.
— В каждом высоком парне я теперь вижу преступника, — призналась позже Тамара. И я подумал, что дневное патрулирование скорее всего окажется бесполезным: девушка смущена своей первой промашкой, будет колебаться, встреться ей действительный преступник. А там и спугнуть его можно…
Каждый высокий парень ей кажется теперь преступником — вот так-то, брат.
12
Михаил Прокофьевич зазывал на ужин, но я отказался ехать к нему. Мне хотелось собраться с мыслями, и какая-нибудь ресторация, обратная пустынная дорога и гостиничный номер были предпочтительнее. Ко всему прочему я давно не бывал в ольховатской «Весне», теперь же это вообще следовало сделать. Поразмыслив, Михаил Прокофьевич отпустил меня: «Ну, ступай с богом», — и остался дома у телефона.
По пути в кафе я зашел купить некогда знаменитого грузинского чаю — электрокипятильничек я всегда возил с собою.
Магазин был на самообслуживании, и, рассчитавшись в кассе, думая о своем, я сунул чек в карман, а сдачу — серебро и медь — бросил в урну. Копейки провалились сквозь ворох бумажек. Ну что ты, брат, в самом-то деле…
Шел десятый час. Двое парней маячили у входа в «Весну». За застекленной дверью белело лицо швейцара. Издали в глаза бросалась табличка: «Мест нет». Все было понятно.
— То есть пан Шпекачка! — говорил швейцару через дверь молодой щеголь, тыча пальцем в своего товарища. — Пан есть студент с ПээНэР…
— Пшепрашам, не разумей!.. — застенчиво поддакивал пан Шпекачка, учтиво склоняя голову, то есть извините, но не понимаю вот ни бельмеса.
— У папа Шпекачки великое свято — день народження!.. Как это есть по-российску?.. может есть международовы скандал!.. — дожимал швейцара «первый студент с ПээНэР».
«Пан Шпекачка», он же Шурик или, может, Миша из Стрелецкой слободы, пыжился, играя свою роль, пырскал в сторону. В конце концов швейцар, слегка смущенный пестрыми рубашками, галстуками и штанами веселых пройдох, озадаченный ломаной польско-белорусско-русской речью, от греха подальше пропустил их, убоявшись содрать полтинники, как содрал с меня. Да, ресторан начинается со швейцара, а с вешалки — это уже театр.
— Дзенькую, комерадос! — молвил плут Шпекачка, благодарно похлопав швейцара по плечу.
Умывальник был в вестибюле. Я мыл руки и сушил под калорифером, рассматривая зал через зеркало, висевшее на стене. Дождался, когда в зале появилась Тамара, определил группу ее столиков и направился к ним.
А места были. Немного, но были. Швейцары издавна знали свое дело туго.
Наш эксперт поработал над лицом девушки, обширный синяк был едва различим под искусно нанесенным слоем грима. В предупредительной милой девушке не просто было узнать ту, давешнюю, растерянную, зареванную, злую.
— Это вы?! — вспыхнула Тамара, наклонилась к моему лицу. — Сегодня неплохое чахохбили…
Я согласно кивнул.
— А из холодных?.. Помидорчиков?
— Пусть будут и помидорчики.
Тамара замялась, не зная, как предложить мне веселых соков земли.
— Пива, — пришел я на выручку.
Она понимающе улыбнулась.
— Ведь в праздник и у воробья случается пиво, — добавил я. — А праздник будет, уж это точно.
Тамара скоро вернулась. Я наполнил фужер, полюбовался прозрачностью напитка, соломенной, с блеском, окраской, компактной пеной. Ольховатскому заводу уже больше сотни лет, больше сотни лет славится и местное пиво. В гости бы сходить к братьям Пивоварчикам, ледяного, свеженького отведать. В бродильно-лагерном, что ли, работают…
Я размышлял о всякой славной чепухе, приносящей отдохновение, как в зал вошли двое молодых людей в темных костюмах, замерли у двери, открытыми настороженными взглядами начали ощупывать посетителей. Конечно, патруль, и, конечно, народ неопытный, еще склонный к ребяческой показухе. Таких панически боится преступничек «начинающий». В Багдаде все спокойно, ребята, я уже сам всех прощупал, будь оно трижды неладно…
Пятаки у сотрапезников «Весны» не переводились, музыкальный автомат играл без передышки, и я собрался уходить, чтоб не оглохнуть. За Тамару я почти не боялся — маловероятно, чтоб на нее вновь напали. Эти «маски», если не отрезвели после безоглядного бегства, вряд ли выйдут на охоту в этой стороне города. Тут за каждым кустом им будет мерещиться засада.
Я заметил, как «хозяин» «Весны», швейцар поманил Тамару и вручил ей какой-то конверт. Девушка, ничего не понимая, распечатала его там же, у двери из зала, заглянув внутрь, достала синий листок бумаги и тотчас нашла меня глазами.
Быстрой походкой я подошел к ней.
— Вот, — растерянно протянула она конверт.
Мы вышли в вестибюль. Любопытствующий швейцар протиснулся следом.
На конверте печатными буквами было написано: «Томе Киселевой», а на листке: «Извини меня за все». В конверт был вложен Тамарин паспорт.
— Кто вам это передал? — повернулся я к швейцару.
— Какой-то хлопец, — пожал тот плечами.
— Где он?
— Ушел. Передал и ушел.
— Когда?
— Ну, с час назад.
— А может, два?
— Может, и два.
— Высокий, низкий?
В ответ — то же неопределенное пожатие плечами.
— Шатен, брюнет, блондин?
— Да черт его знает! Может, и рыжий. Я не обратил внимания.
— Как же так?!
— Мало ли их тут, хлопцев, околачивается! Нужен он мне! Вон, полный зал, разве не видишь?
— Что он сказал?
— Сказал… — Швейцар стал мучительно припоминать, от него попахивало, несло от него, — сказал, что хлопец ему сказал, чтоб передал. Вот и все.
— А вы его не пропустили?
Швейцар развел руками:
— У меня местов нет…
— Полтинника он вам не сунул!.. Почему вы сразу не отдали конверт Киселевой?
— Почему, почему!.. А кто ты такой, чтоб учинять допрос?
Я и сам понимал, что мои претензии к швейцару были ни к чему. Действительно, какой спрос со старого бражника?.. Да уж больно бесцеремонно вымогал он на выпивку и пропитание полтинники у клиентуры: постучать монетой в застекленную дверь — все равно что сказать в сказке «Сезам, откройся».
— А хлопец и не рвался в зал! — обрадованно вспомнил он.
Ну, хорошо, благо хоть сейчас передал, ведь мог же «отложить» до завтра.
— Тамара, девочка, найдите, пожалуйста, скоренько какой-нибудь полиэтиленовый мешок. Желательно новый. Но на всякий случай протрите его изнутри. Все это хозяйство я заберу с собою.
Так, рассуждал я, пока Тамара бегала искать мешок, вряд ли в кафе припожаловал собственной персоной один из преступников, это исключено: ночью ему всенепременно надо прятать лицо под маской, а тут явился — здравствуйте, маскарад окончен, шутки по боку, что ли? Татарина сумочка осталась у высокого, белобрысого — значит, он и решил вернуть хотя бы паспорт, чтобы как-то облегчить душу. Поболтался, наверное, возле кафе, помаялся, остановил какого-нибудь незнакомого паренька, попросил отнести конверт Киселевой. Может, видел даже меня, жаль, что не остановил… И вполне возможно, что поступил он так без ведома своего старшого. Да, без ведома, скорее всего. Старшому все трын-трава — и душа, душевная маета и чужая жизнь. Скажи на милость, совестливый нынче случается преступник. Выходит, с этим, высоким, еще не все потеряно? Дай-то бог…
Записка была написана на телеграфном бланке, фиолетовыми, «химическими» чернилами, канцелярским пером. То есть, сочинялась на телеграфе. Конверт был густо заляпан клеем. Жаль, что скорее всего экспертам не удастся выделить слюну, ее тут, пожалуй, и нет, но — ничего. Ничего, восстановим мы почерк наконец, как ни выдрючивался он с этими печатными буковками. С миру по нитке — голому рубаха, мне все сойдет, за премилую душу все Плюшкину сойдет, а этот Плюшкин и без того располагает уже немалыми капиталами.
И позвал Пантагрюэль Панурга и показал ему абсолютно чистый лист бумаги, присланный в конверте. «Панург заявил, что на листе бумаги что-то написано, но так, что никаких букв не было видно. Желая узнать, в чем дело, он поднес лист бумаги к огню, чтобы посмотреть, не написано ли письмо раствором нашатыря; затем он положил его в воду, чтобы узнать, не написано ли оно соком молочая. Потом он поднес его к свечке — на случай, если оно написано луковым соком; потер его ореховым маслом, — от которого делается виден сок фигового дерева; потом потер молоком женщины, кормящей перворожденную дочь, чтобы удостовериться, не написано ли оно кровью жабы; один уголок письма он натер пеплом от гнезда ласточек, — от которого темнеет сок иудейской вишни; другой его конец — серой из уха, чтобы посмотреть, не написано ли оно вороновой желчью. Он вымочил письмо в уксусе, чтобы обнаружить сок подорожника, помазал его жиром летучих мышей, чтобы выяснить, не написано ли оно китовой спермой, то есть серой амброй. Затем он тихонько опустил письмо в таз со свежей водой и быстро вынул, чтобы посмотреть, не написано ли оно квасцами…»
Мое же письмо не было письмом, подобным тому, которое дурашливо пытался прочесть Панург, и сочинялось оно на телеграфе, а ближайший от «Весны» телеграф был при главпочтамте. Туда я и отправился.
Помню давнюю историю, связанную с исчезновением человека, — тогда, казалось, следствие вообще ничем не располагало.
С краю лесной деревушки проживал лесник, и вот однажды он не вернулся из леса. Восстановленный облик этого человека оказался куда как неприглядным: грел руки на незаконных порубках, пил не в меру, измывался над женою, детьми — сыном пятнадцати лет, дочками вовсе маленькими. Но это ведь вторая сторона дела, главное для нас — пропал человек.
Был встречен обидчиком на глухой дороге?..
Был задран зверями?..
Бежал от алиментов?..
Покончил с собою?..
Провалился под лед?..
Полгода бился следователь районной прокуратуры и с уныньем констатировал — да, провалился, но сквозь землю… Было прочесано все крыло леса, за который отвечал лесник. Обнаружили три гигантские ели, спиленные в стороне от людских глаз. Помешал порубщикам, и они здесь же расправились с ним?.. Эксперты однако пришли к выводу, что ели были спилены задолго до таинственного исчезновения… Нашли газетный пыж, установили, что этот обгоревший клок — из «Лесной газеты». Стрелял, по-видимому, сам лесник, никто в округе «Лесную» не выписывал, выстрел же был произведен не в сезон — вполне возможно, что браконьерничал… Опросили людей — заходил к одному знакомому, второму, третьему, обещал порубочные билеты, вспоминал прежние услуги, выпивал, еще выпивал, а под вечер все, следы лесника улетучивались: отправился домой, сгинул…
Чуяло мое сердце, что искать надо собственно в доме лесника. Чуять-то чуяло, да неизвестно было, с какого бока подступаться. От жены его, перепуганной и забитой женщины, ничего решительно добиться не удавалось. Да и как приставать — при ее-то травме?.. Алеша, старший из детей, вскоре после исчезновения отца уехал в Донбасс, поступил там в ГПТУ… Вечерами я листал в задумчивости семейный фотоальбом, читал Алешины письма. «Мама, какие новости в деревне, все ли живы?..» «Заделали ли в стрехе хлева дыру?..» «Пришлите мне рубль на зубной порошок, расческу и тетради…» «Вы пишите, чтоб я не пил, я и не пью, сам знаю, что нельзя, а то наболтаю чего…» Стоп, стоп, о какой выпивке может идти речь, когда нет рубля на тетрадки, и что он, Алеша, боится выболтать?.. Но самое главное: Алеша, интересующийся самыми заурядными деревенскими новостями, ни разу в письмах не спросил об отце — ведь поисков никто не прекращал…
Я вылетел в Донецк. Сначала поговорил с преподавателями, активистами училища. Да, хороший хлопчик этот Алеша, и похоже, что он прямо на глазах познает удивительный мир, неведомый ему прежде, — приехал угрюмый замкнутый мальчик, сторонился всех, мог расплакаться невзначай, а теперь словно бы подменили… Потом встретился с Алешей, уже зная все наперед. И он заплакал, и рассказал трагическую историю без утайки: мама, защищаясь от кулаков пьяного отца, ударила его в отчаянье безменом, и он, Алеша, помог отвезти тело отца на тележке в лес…
Когда преступление раскрыто, со стороны может показаться — до чего же все просто!.. Но попробуйте начинать с нуля…
…К счастью, посетителей на телеграфе было немного. Всего два человека — они держались особняком, у телефонов междугородной связи. За окошком приема телеграмм сидела Маша-растеряша, скучающе листала эстонский журнал мод. Стопка чистых бланков лежала у окошка, на столах — лишь несколько испорченных.
— Здравствуйте, — сказал я. — Есть ли что-нибудь новенькое? — Я кивнул на журнал. — Чем дышит Париж?
— Здравствуйте…
— Я из прокуратуры, — упредил я тотчас ее милейшую болтовню. И показал удостоверение. — Скажите, Маша, — не удивляйтесь, что я знаю вас и ваше имя, — сегодня здесь ничего странного не произошло?
— Нет как будто, — неуверенно сказала Маша.
— Припомните: может, кто-нибудь брал чистые бланки, а телеграмм не отправлял?
— Я не заметила, — честно призналась Маша. — Вон за тем столиком долго сидел один парень, а что он там писал — понятия не имею.
Я прошел к указанному столику и под стеклом увидел бланк, по которому наискось шла надпись крупными буквами: «Образец». И текст:
«Дремучий лес
Вручить лично в лапу Змею Горынычу
Вылетай скорэй З Бабой Ягой колики
Лесные звери».
Шутливый «образец» был написан той же рукою, что и записка Тамаре Киселевой, теми же чернилами.
— Он был один?
— Вроде бы.
— Каков из себя?
— Я видела его со спины. Волосы светлые.
— Блондин?
— Скорее русый.
— Высокий? Рост под 185—190 сантиметров?
Маша виновато улыбнулась:
— По-моему, был в темном пиджаке.
— Давно он ушел?
— Часов в девять. — Маша взглянула на настенные часы. — После девяти.
Я просмотрел испорченные бланки, на всякий случай вывернул обе мусорные корзины. Ничего больше не нашлось, но и «образец» (действительно, образец — подпись «Лесные звери» была выполнена почти что скорописью) было уже кое-что.
13
С часу на час мы ожидали возвращения в Ольховатку Тани Контуш с Анатолием Широковым и инспектором угрозыска Трипутенем. Со дня на день мы ожидали, когда из Якутии доставят Михаила Шедко. На его арест вылетели старший лейтенант Непорожний и милиционер. Мы ожидали пострадавшую от «масок» и подозреваемого в убийстве, как телеграф принес следующую весть:
«Подтверждаю, что Михаил Семенович Шедко арестован. Наложен арест на корреспонденцию Шедко. В адрес подозреваемого поступило письмо, отправленное, судя по почтовому штемпелю, из Ольховатки. Обратный адрес и свою фамилию корреспондент не указал. Письмо подписано «Боря». Не имея технических возможностей передать письмо в фотокопии, сообщаю текст:
«Здравствуй, Миша!
Наконец-то получил «на до востребовании» первое твое письмо. Что ты там строишь?
Суд над Федей длился два дня, потому что потерпевших отыскалось 27 человек. Федя увел мотоцикл, три велосипеда, ограбил столовку и т. д. и т. п. Все это тебе известно. Я был как свидетель, но Федина мать так поливала на меня, что я думал — и меня засадят. Федя не унывал, был веселый, и можно было подумать, что ему понравилось сидеть в КПЗ. Он был прямо счастлив. На вопрос судьи, стал бы он воровать, если бы его сейчас отпустили, он ответил: «Не знаю. Еще подумал бы». Осудили на год.
Федя попросил меня, чтоб я отдал Юрке три рубля. А то, говорит, Юрка еще подумает, что он заранее знал, что сядет, и поэтому одолжил у него.
Ты, наверное, понятия не имеешь, что на прощанье выбил Ханыге зуб. Теперь он вставил золотой и говорит тебе «спасибо», именно на этом месте он мечтал носить фиксу. А я мечтаю приехать к тебе. Напиши, как это сделать.
Боря».
Прошу обратить особое внимание на то обстоятельство, что Шедко не счел нужным сообщать свой адрес даже матери.
Погода нелетная.
Старший лейтенант милиции Непорожний».
По утверждению Бори, автора письма, он проходил как свидетель на судебном процессе над неким Федей, «ограбившим столовку», «угнавшим мотоцикл», то есть — совершенно очевидно — свидетелем по делу Федора Шадурского. Мы затребовали дело из суда, и аноним перестал быть анонимом: Борис Сергеевич Тарасевич, 17 лет, по направлению комиссии по делам несовершеннолетних при горисполкоме работает слесарем автобазы; мать — таксировщица этой же базы, отчим — бригадир комплексной бригады СМУ-2, сестра — ученица 8-го класса; отец — машинист врубового комбайна, работает на шахте под Карагандой.
Чтобы исключить какие-либо недоразумения, я отправил Тарасевичу повестку с нарочным. Я пригласил его вроде бы для беседы по делу Федора Шадурского. Хотя процесс и закончен, Шадурский осужден, но мне хотелось бы кое-что уточнить.
Об аресте Шедко и его почты — пока, конечно, молчок. Посмотрим, не заговорит ли Тарасевич сам о своем приятеле.
Природа не обделила Борю Тарасевича — высокий, сильный, светловолосый, он был, как юный викинг. Лицо нежное, тонкое, глаза серые, живые. Держится непринужденно.
Мы проговорили с ним уже полчаса, час, но я не замечал за ним естественного, казалось бы, недоумения — отчего же так долго, отчего наш разговор пляшет то вокруг автобазы, где он работает, то вокруг дела Феди Шадурского, то вокруг транзисторных приемников, которые Боря умеет и любит мастерить.
Боря окончил 9 классов. Учился так себе, на тощие «троечки». Сидел на «камчатке», на последней парте, на уроках читал молодежную научно-популярную литературу, «Науку и жизнь», Джека Лондона. Чем так учиться, рассудил отчим, поди поработай, а после смены походи в вечернюю — узнаешь, за что рубли дают, стаж заработаешь. Вообще-то правильно рассудил. Отец живет в Казахстане, из дома ушел внезапно, не оформил даже развода, что-то там у них с мамашей произошло, до сих пор не знаю, не спрашивал. Присылает к праздникам по двадцать пять.
Теперь о Феде. Знаком с ним давно, это был довольно популярный пацан улицы. По правде говоря, тянулся к нему, но близко сошлись только месяца два назад. Вот при каких обстоятельствах.
Дома у нас отношения были, можно сказать, нормальные. Но однажды я задел горшок с цветком, и он хлопнулся на пол, разбился. Мать велела убрать. Мне это показалось унизительным. Тогда она заперла меня, побежала во двор, где у гаража возился со своим «Жигулем» отчим, — звать на подмогу.
— Ради этого «Жигуля» ты и ночуешь с самой весны в сарае, рядом с гаражом?..
— Ну да, отчим очень волнуется за машину.
— А тебе — вольница, возможность погулять на улице бесконтрольно?
— В принципе, да, все правильно. Мать, значит, побежала за отчимом, а я возьми и спустись по водосточной трубе с третьего этажа. Тут увидел пацанов — Федю и Генку Шкеля. Ребята сказали, что убегают из дома. Я, как был, — в тапочках, побежал с ними. Прожили два дня — субботу и воскресенье — в лесу, на озере, ловили рыбу, загорали, а в понедельник я вернулся домой, пошел на работу.
— И как часто вы потом встречались?
— Раз в неделю, два.
— Ну, а чем он промышлял, ты знал?
— Догадывался…
— Только ли догадывался?
— Ну, знал, что еще раньше, весной, он содрал с одного пацана шапку, толкнул за тысячу.
— За тысячу копеек, что ли? Иначе говоря, за десять рублей ассигнациями?
— Ага. — Борис улыбнулся. — Я уже обо всем честно рассказал на следствии, подтвердил на суде.
— Да, этот твой рассказ у нас записан, — указал я на дело Шадурского, лежащее передо мною.
— Такое пухлое дело, — изумился он, прочитав надпись на папке, — из-за мотоцикла и пирожков из столовки?!
— Не только из-за мотоциклов и пирожков. Нас больше интересуют не ворованные пирожки, а укравшие их люди. «Повязать» преступника обычно несложно. Сложнее вернуть его к жизни. Поэтому мы и собираем о нем буквально все: свидетельства родных, знакомых, сослуживцев, соседей. Из поликлиники забираем медицинские карты, в школе находим табели успеваемости и характеристики по годам, если даже человек позабыл, когда ходил в школу. Словом, множество самых различных документов.
— А зачем? Я все равно не понял…
— Я же сказал: мы ведем борьбу за человека и обязаны знать о нем все. Могу открыть тебе один секрет: даже судебных экспертов следствие предупреждает об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Вовсе не потому, что мы не доверяем этим людям, — чтобы исключить всякую недобросовестность в работе. Да я кривотолки заинтересованных сторон.
— И мои показания подшиты? И будут храниться?
— Конечно.
— Как интересно!..
Интересно… Я бы не сказал. А показания твои подшиты и еще, увы, придется подшивать. Только в другое дело. И гораздо более пухлое по объему. Все, что сейчас рассказываешь, — это нам давно известно, мальчик… Нам даже больше известно, ты не представляешь — что. Твои показания перепечатаны с магнитной ленты, и на каждой странице стоит твоя подпись, а в самом конце — уже приписанная тобой пространная стереотипная фраза: «Записано с моих слов верно и мною прочитано», — и снова подпись. Увидев вчера под вечер эту фразу, этот почерк, я вздрогнул. И без заключения графической экспертизы, не зная еще тебя, я уже чувствовал, с кем имею дело. Ведь ты тот парень, который писал записку Тамаре Киселевой и шутливый «образец», вот какая петрушка… Но — еще чуть-чуть выдержки, чуть-чуть…
Мы курили с ним напропалую, но я нарочно не отворял окно, только форточку, все вроде бы не обращал внимания на концентрацию канцерогенных веществ в воздухе кабинета. И сейчас я спохватываюсь, распахиваю окно, беру виновато пепельницу, чтоб вынести ее.
— Ты вот что, — буднично говорю я. — Посиди тут минутку без меня — вынесу пепельницу, чтоб не смердело. Полистай, что ли, книгу…
Я достаю из шкафа и подаю ему «Учебное следственное дело. Издание нумерованное, рассылается по списку, бесплатно» — все равно он там ни рожна не разберет, разобраться не успеет, он будет ошеломлен фотоснимками, уткнется в них, содрогаясь от ужаса.
Полистай, полезно, думаю я, твой кумир Федя прямехонько катился к сотворению подобных вещей, и ты потопал рядом, рысью побежал параллельным курсом, полистай, подумай, если раньше было недосуг. Вначале от таких картинок плохо спится, по себе знаю. Это тоже вещественные доказательства, вещдоки, но не невинные расчески, пуговицы или батистовые там платочки — части тела человеческого… Теперь же, представь, мне плохо спится, если вещдоки налицо, а преступник гуляет ветром в поле. Полистай, я отлучусь на пять минут.
Одним махом я взлетел на второй этаж, где размещались эксперты.
— Сделайте мне исследования, если можно поживее! — Я указал экспертам на Борисовы «бычки».
— Варивода не вернулся? — Это уже в соседней комнате, следователю Кравцу.
— Нет.
— Свяжитесь. Пусть позвонит о результатах прямо из КПЗ. — И пошел обратно.
В ожидании этапирования в КПЗ томился осужденный Шадурский. Михаил Прокофьевич допрашивал его. А дело здесь вот в чем.
После подворного опроса в районе улиц Товарищеской, Гоголя и Садовой прокуратура и милиция превратились буквально в стол находок: люди тащили нам все, что ни находили возле своих домов. Большинство этих предметов отношения к делу, разумеется, не имело, но вот вчера вечером, в седьмом часу, когда нарочный уже вручил повестку Борису Тарасевичу, техничка прокуратуры, убиравшая коридор, привела к Вариводе двух мальчишек, одиннадцати и тринадцати лет: прислала бабушка с бумажкой, сказала передать тем, «что ловят масок» — нашла эту бумажку у ворот своего дома еще несколько дней назад.
Достаточно было беглого взгляда на эту находку, чтобы понять, что у нас в руках. Это был лист из обвинительного заключения, машинописная копия. Каким образом он мог очутиться на Садовой улице, в нескольких километрах от прокуратуры, адвокатуры и суда, где ему и надлежит храниться?!
Судя по всему, это была одна из страниц обвинительного заключения, вероятно, предпоследняя. Под порядковым номером 29. Она начиналась с фамилий, имей и отчеств и ими же заканчивалась. Против каждой фамилии стоял подробный адрес. Это были люди, проходившие как свидетели по уголовному делу и подлежащие вызову в суд.
— Вероятно, из обвинительного заключения на Федора Шадурского, — подумал, покопался в памяти Михаил Прокофьевич. — Погодите, мальчики, — сказал он ребятишкам, — сейчас мы звякнем в одно место, а потом отвезем вас домой. Вы — молодцы, и бабушка ваша — молодчина. Не то, что один взрослый и важный дядя…
Он набрал номер адвоката, защищавшего Шадурского.
— Безмен?.. Здравствуй, Безмен. У меня сейчас будет с тобою разговор короткий, но будет и длинный, это я обещаю. Достань обвинительное заключение на Шадурского. Страница двадцать девятая на месте?
— А где же ей быть!..
— Так на месте?
— Нету…
— Ты дал заключение Шадурскому для ознакомления, а получив обратно, не проверил наличие страниц. Ведь так?
— Так…
— Ладно, попозже поговорим. В восемь тридцать, у меня в прокуратуре. Все.
— Когда в восемь тридцать? Сегодня?
— А то когда же! В двадцать тридцать!..
На обратной стороне страницы был написан наспех придуманный, невероятно бездарный, глупый код. Предназначался, значит, для особо важной секретной переписки колонии и воли. Букву «А», например, предлагалось заменять цифрой «5», или химическим символом «Fe», или латинской «C». Самая трудная судьба была у буквы «Я» — «4555», или «CuNO3», или «W».
— Валентности не знает, — поморщился Михаил Прокофьевич. — Такая соль… Это соль?.. такая соль может отложиться только в голове олуха царя небесного.
Наш сотрудник отвез на машине ребятишек домой, поговорил с бабушкой, и она показала, что той ночью видела в окно двух бегущих парней.
Теперь Варивода дожимал в КПЗ Шадурского — кому он передал свой шифр, передал, по всей видимости, в коридоре нарсуда тайком от конвоя, когда водили в туалет.
Мы не сомневались, что Тарасевичу. А коль тот дорожил дружбой с Шадурским, то потерять шифр мог в обстоятельствах чрезвычайных.
…Когда я вернулся, Борис, как и ожидалось, в волнении листал «Учебное дело».
— Страшные вещи случаются на грешной земле, а?
Борис согласно кивнул. Я чувствовал, что он проникся ко мне доверием. Кажется, я был для него как старший товарищ, протянувший теплую руку. Жаль, что теперь было уже поздно.
— Давай поговорим о чем-нибудь более веселом, — предложил я. — О твоих транзисторах, например. Много ты сделал приемников?
— Кто их знает! Сделаю, послушаю, вновь разберу. Денег мало. По существу, я из одних и тех же деталей собираю разные транзисторы.
— А я в радиотехнике — ни бум-бум. Можешь поверить?
Борис неловко улыбнулся.
— Можешь, можешь, — засмеялся я.
Наконец, постучавшись, вошел Кравец и подал листок:
«Шадурский признался, что передал страницу из обвинит. закл. Б. Тарасевичу».
Я молча отпустил Кравца.
— Я искренне сожалею, Борис, но твои занятия радио придется отложить. Поверь, я искрение сожалею…
— Почему? — изумился он.
— Сейчас я расскажу одну печальную историю, и ты поймешь, почему.
Я помолчал, чувствуя жалость на сердце к этому мальчишке. Ну да делать больше было нечего.
— Неплохой, в общем-то, подросток, из рабочей семьи, — начал я, — попал под влияние улицы, склонной к ложной романтике, а потом и под влияние опасного преступника, рецидивиста. Этот рецидивист спаивал мальчишку, развивал в нем неизменные инстинкты, толкал на пагубный путь. Школа, семья… впрочем, в нашем случае правомернее говорить не о семье, а лишь о младшей сестренке, которую этот парень горячо любил, которую считал единственным родным существом, — словом, школа, сестренка оказались бессильными.
Я не буду рассказывать обо всем, только о нескольких происшествиях, но и их будет довольно.
Эти два молодца, рецидивист и мальчишка, поразмыслив как-то за бутылочкой вина, пришли к мысли, что если господь бог дал людям жизнь, то самодельные ножи с наборными ручками дадут жизнь привилегированную, — не всем, конечно, а только им двоим. И если сделать вдобавок тряпичные черные маски, скрыть лица, то они получат на ночных улицах города чуть ли ни безграничную власть. Власть над слабыми людьми, над женщинами. Согласись, что внезапная встреча с вооруженными незнакомцами в масках — это действительно страшно.
— Да… — Его побелевшие губы едва шевельнулись.
— Сказано — сделано. Изготовили ножи, сшили маски…
— Я тоже слышал похожие рассказы, — торопливо перебил Тарасович.
— Наверное, — кивнул я утвердительно. — Куда же от них денешься? Но, думаю, что ты не из робкого десятка и «масок» этих не боялся. И вообще ты парень с великолепно развитой мускулатурой, одним ударом к праотцам можешь любого отправить…
— Но среди женщин Ольховатки столько разговоров! Моя мама, сестренка, знаете, так запуганы…
— Слушай дальше, — поднял я руку. — Все равно ты многого не знаешь, а я хочу, чтоб ты полнее и живее представил себе картины ночных нападений, посочувствовал тем, чью жизнь растоптали… Эти «маски» стали нападать на всех без разбора, пятьдесят ли лет человеку, пятнадцать. Два месяца назад, когда никто ничего знать не знал, им оказывали сопротивление. Насильники добивались своего, жестоко избивая жертву. Рецидивист давал команды напарнику, которого называл первым подвернувшимся на язык именем — Васей, например, Сергеем, Виталиком, — сбегать за угол, глянуть все ли на местах, чтобы создать впечатление — орудуют не двое, а целая банда. И поскольку все истории щекотливые, в милицию, опасаясь огласки, с заявлениями, как правило, не шли. Потерпевшие чаще слали анонимные заявления. Преступники взбодрились, почувствовали себя совсем уж вольготно. На всякий случай они меняют географию, то есть шкодят там, где, казалось, их никто не ожидает. То в старом городе, то на пустырях восточного микрорайона, то западного, то в лесопарке.
Через этот лесопарк, кстати, однажды ехала на велосипеде девушка, которая вот-вот должна была выйти замуж. Она ехала в город за хлебом, потому что надо было помянуть отца — был год со дня его смерти. Эта девушка — круглая сирота. Когда на нее напали, она бросила велосипед, убежала, спряталась в кустах. Спустя примерно час, умирая от страха, она вернулась за велосипедом, а это был чужой велосипед, а девушка с детских лет знала цену хлеба… Представь, ее поджидали — подлая игра, не правда ли?
— Да… — Тарасевич не отрывал взгляд от стола.
— Она плакала, умоляла отпустить ее. Но ей сказали: «Ты давно созрела, а в Италии, между прочим, брак для девиц разрешен с четырнадцати лет! Равняйся на Запад, дура!..» Ты кури, кури, я невеселые штуки рассказываю, Борис, уж извини. У самого нервы пошаливают…
С наступлением темноты многие женщины боялись выходить из дома. На некоторых предприятиях — вот уже сейчас — они стали меняться сменами. Но ведь всяко бывало, жизнь есть жизнь. Представь, однажды «маски» не пощадили женщину, тщетно искавшую исправный телефон-автомат, чтоб вызвать «Скорую помощь» к больному ребенку! Как ты догадываешься, эти «маски» были негласно объявлены горожанами вне закона, вне общества. За ними неоднократно устраивалась импровизированная погоня, однажды гнались с охотничьим дробовиком… Как, помоги мне, написать слово «дробовик», пользуясь шифром Феди Шадурского?
Тарасевич глядел на меня во все глаза.
— Ну, припомни. Пользуясь цифровым шифром, например?..
Он безвольно пожал плечами.
— Латинским шрифтом, химическими формулами?..
Я помолчал, прошелся по кабинету.
— Не помнишь, — сочувственно сказал я, — потому что потерял шифр. Не успел вызубрить.
— У меня не было шифра.
— У тебя был шифр. — Я старался говорить членораздельно. — Через десять минут сюда принесут двадцать девятую страницу обвинительного заключения по делу Шадурского, на обороте которой тот шифр и записан. Принесут и сегодняшние показания Шадурского. Ты берег эту бумагу, носил с собою и — впопыхах потерял. На Садовой.
— Я не терял на Садовой. Я даже не знаю, где такая улица…
— Могу напомнить. Случается, что там непочтительно бьют ведрами. Припоминаешь?
— Н-нет…
— Бьют ведрами по голове.
— А-а… — Тарасевич согласно кивнул, провел сухим языком по сухим губам. — Может быть… — Он делал отчаянные усилия понять происходящее.
— Шишка еще не прошла?
— Откуда вы знаете про шифр?
— Знаю. Но я спрашиваю сейчас про шишку.
Он опустил голову, словно предлагая осмотреть ее.
— Ладно, — продолжал я, — вернемся к нашим героям, рецидивисту и мальчишке. Первый чувствовал себя превосходно, он с удовольствием слушал городские пересуды, а мальчишка, к утру отрезвев, маялся. На выпивку они всегда забирали мелочишку, которая оказывалась при их жертвах. Документов не брали. Когда же у мальчишки на руках случайно остался паспорт одной девушки, он не почувствовал себя порядочным человеком, он почувствовал, что когда-то мог им стать — это как забытая родина, понимаешь? — и он отважился вернуть его. Под этой девушкой я разумею Тому Киселеву…
Тарасевич сидел истукан истуканом.
— И он пошел на почту, но и там еще долго колебался, сочинил в раздумье шутливую телеграмму Змею Горынычу, потом все же написал коротенькую извинительную записку и вложил ее вместе с паспортом в конверт…
— Откуда вы это знаете? — прошептал Тарасевич.
— Рецидивиста никогда не волновало, как станет жить мать уже взрослых детей, над которой он измывался, — продолжал я жестко, — молодая жена — с недоверчивым, слепым от ревности супругом, девчушка-школьница… Скажи, напал бы он на твою сестру, что бы ты сделал? — внезапно спросил я.
— Я убил бы его! — выпалил Тарасевич и заплакал.
— Ты написал Мише Шедко, сбежавшему в Якутию, что тот выбил Ханыге зуб, а ты…
— Я убил бы его!.. Но откуда вы все знаете?!
Значит, Ханыга — до этой секунды у меня не было полной уверенности… Вчера вечером Тарасевич до двенадцати шатался по городу с невысоким черным парнем. Мы лихорадочно устанавливали личность этого парня, а они преспокойно пили себе пивко на каждом углу. Потом разошлись по домам, точно почувствовав сострадание к городу, а может, почуяв беду за спиною. Наши люди на всякий случай берегли их ночной покой. Мы выяснили, что приятель Тарасовича — Павел Николаевич Лужнев, он же Ханыга, 24 года, бетонщик ЖБИ. Родился в Покровске. Там же с 15 лет состоял на учете в детской комнате милиции. С 16 до 18 — в трудовой колонии для несовершеннолетних (устраивал засады на девочек. У одной из них проверил сперва, как старший, дневник, отнял деньги, потом облапал ее. Она же и опознала его как старшого брата своей подружки по детскому садику — Павел приходил когда-то за сестренкой в сад). С 18 до 19 сидел за мелкие кражи, с 20 до 21 — за спекуляцию (писал на волю своему дружку: «Занимаюсь я, можно сказать, интеллигентным трудом — вяжу авоськи, те самые, с которыми твоя Зинка ходит за картошкой. Когда освобожусь, свяжу для вас большую, килограммов на 50 — два раза сходил в магазин, и картошкой на зиму обеспечен»). Надеялись, что он успокоился, что преступник умер в нем, ан нет, дал метастазы…
— Ханыга — тщедушный, слабосильный человечишко. Как же мог ты, здоровый парень, слепо подчиняться ему? Да у него, я думаю, просто нёбо черное…
Эту пару — Тарасевича и Лужнева — в последнее время видели вместе почти каждый день, и поэтому я шел ва-банк.
— 30 июня, — продолжал я, — вы вышли с ним на дело, предварительно, как водится, хлебнув вина. И повстречали Шедко. Ты обрадовался встрече, вообразив, что грядущая ночь обойдется без издевательств над гражданами. Шедко и Ханыга не были знакомы, ты познакомил их. Добавили в «Ветерке», пошли в сторону вокзала в надежде разжиться по дороге парою рублей. Ведь так?..
— Нет, нет!
— Пошли к вокзалу, — упрямо гнул я свое, — где еще работал ресторан. На Кильдимовке у встречного дядьки потребовали на бутылку. Когда он отказал, кто ударил первым?
— Не помню!
— Когда он отказал, ты ударил первым?
— Может, я… может быть, я… кажется… — я не помню, честное слово!
— Когда он упал, кто стал бить ногами? Кто бил по голове ногами?
— Ханыга. Но я не знаю… нет, не знаю!..
И там, и тут — Ханыга…
— Не помню, не знаю!.. С Мишей случилась истерика, он выбил Ханыге зуб, бежал от вас. Вы же забрели в Кильдимовский парк, напоролись там на «газик», в котором была парочка. Парочки не интересовали твоего Ханыгу, однако же эта предпочла откупиться от вас сигаретами и коньяком… Не помню, не знаю!.. А то, что отец Михаила Шедко воевал вместе с Денисом Андреевичем Чигирем, — это ты знаешь? Что того и другого перекалечило в один день под Харьковом в сорок втором — знаешь? Что отец Шедко умер в госпитале инвалидов войны, а Чигирь болел до конца дней своих — знаешь? Болел, но помнил о фронтовом товарище, покупал штаны его сыну, этому оболтусу, своему убийце — знаешь?!
— Миша все время звал сознаваться… Все время, пока не уехал… Он переживал!.. Когда стало известно, что дядька умер, что он — знакомый Шедко, Миша опять избил Ханыгу… Миша страдал…
— Это мы и без тебя уже знаем. Шедко арестован и во всем сознался. Он не знал только ни имени, ни фамилии, ни клички твоего сообщника. — Я нажал на кнопку внутреннего звонка, на том конце провода дежурил милиционер. — Я — не судья, — немного успокоившись, сказал я Тарасевичу, — мое дело — только установить факты. Но я хочу, чтоб ты спросил у себя, что́ ты натворил, что́ вы натворили и как вам с Шедко после всего этого жить…
Вошел милиционер.
— Вот постановление на твой арест, — подал я Тарасевичу подписанное прокурором постановление.
А через пять минут на завод железобетонных изделий выехала группа на арест Лужнева.
Я уезжал. Опять была та же дежурная по гостинице, та же табличка «Мест нет». И снова дежурная покосилась на мои зачехленные рыбацкие снасти. Она слабо улыбнулась и с оттенком какой-то вины спросила:
— Ну и что, поймали?
— Поймал… — сказал я.
ЯВОРЫ
Каждую пятницу я встречаю с ощущением праздника: мы едем на выходные в Яворы, и хлопоты по сборам приятны.
Если даже надо побегать по магазинам, продовольственным и хозяйственным, съездить на рынок за семенами или рассадой, отправить срочные письма и вернуть другие долги, — все равно хлопоты приятны: в Яворах наш сельский дом.
Поселившись там, время от времени я делал какие-то заметки для себя, нечто вроде дневниковых записей — и вот они в этой низке, или цикле, если угодно, под одним общим названием.
Я сгруппировал их по временам года, насильственно подселив «сухое лето» к «мокрому». Но это, кажется, придаст низке хотя бы внешнюю стройность. Только и всего.
ДЕНЬ ВЛАДИМИРА, ПЕТРА И ПАВЛА
Добраться из города до села — проблема из проблем. Особенно в предпраздничные и летние предвыходные дни, когда едут целыми семьями, с малыми ребятишками и тяжелой поклажей. Село в стороне от больших дорог, и прямого автобуса нет, надо ехать электричкой до Руденска, а потом 18 километров «пазиком» районной автобазы. Но это если тот не в починке, не переброшен на другие линии, если не выбраны лимиты на бензин, если шофер здоров или под каким-либо предлогом, неведомым нам, не смотался, скажем, на рыбалку (из боязни обидеть человека, а потом сносить капризы и остаться вдруг вообще без автобуса — любопытство в данном случае неуместно).
Надежен дудичский автобус, и три километра пешком, которые ожидают тебя от развилки, не расстояние. Но попробуй-ка влезть в него. То же можно сказать и о тепленском, и от него три пеших километра. Разница лишь в том, что идти надо не гравийкой, а через торфяники, наполовину перерезанные греблей и сплошь — осушительными каналами.
Попутные же грузовики случаются редко, в основном, когда возят картошку, и полагаться на них — дело зряшное.
Словом, всяк добирается до села как умеет.
Обратно же торопиться особой охоты как-то не ощущается, в душе теплится надежда на счастливый исход до последнего, просто не хочется думать об обратной дороге и омрачать заранее настроение, и оттого вернуться в город, как правило, оказывается сложнее, чем вырваться из него. И каждому из регулярно приезжающих в Яворы по 15—18 километров да приходится топать хотя бы раз в году.
Но если бегает наш автобус, грязно-голубой, чумазый «пазик» нашей родной пуховичской автобазы… О, как спокоен ты, как размеренно и благостно течет время! Можно рассчитать каждую минуту и с толком использовать ее, можно праздно поболтать с соседом, а к остановке пойти тютелька в тютельку — все равно не уедут, скажут о тебе шоферу, еще и место займут, можно не тревожиться о сумках с огурцами, зеленью и литыми кабачками, помидорами, яблоками да яичками, не в руках же тащить черт-те куда, не душиться в чужих автобусах.
Впрочем, не о дорожных мытарствах я собираюсь сейчас рассказать, некогда пешком ходили в Киев молиться. Я хочу провести вас к нашей остановке и подождать автобус, а сегодня он придет непременно, подождать в летний воскресный день, примерно с трех часов пополудни: до села мы добираемся кто как умеет — уезжаем вместе.
Но сперва вот о чем. У нас 79 дворов. В общем-то немного, но когда-то действовала деревянная церковка, и поэтому Яворы — село. Как и соседние Теплень, Баламутовичи, Дудичи, Грабень. По осени старушки часто вспоминают о старинном веселом празднике — кирмаш, а я долго не мог взять в толк — что же это за праздник, ведь кирмаш в буквальном переводе с белорусского и польского означает ярмарка, а в рассказах никаких элементов собственно ярмарки не было. Пока не уяснил, что в нашей местности это нечто сродни русскому престолу и украинскому храму. Коротко говоря, у каждого села был свой собственный праздник, и села поочередно ходили друг и другу в гости. В Яворах кирмаш приходился на вторую половину сентября, на окончание основных полевых работ, в чем заключался, понятно, великий смысл.
Хаты стоят в два порядка, ленятся одна к другой — подчас между ними не наберется и нескольких шагов, кошка со стрехи на стреху перемахивает. Что ж, место возвышенное, сухое, а кому была охота лезть к чертям в болото? Женился, отделялся сын — рубил на родительской усадьбе новую, для новой семьи. Потом — сын этого сына, да еще приглядывался, где поселится еще не родившийся его прямой потомок. Лишь на нашем краю просторно, тут строились много позже, мою так вообще сюда перевезли, и дома расположены только с одной стороны улицы: со второй — мокрый выгон, бекасы блеют, заболоченные кустарники, а в них ручей, бобры и нерестится в апреле щука. А за ручьем — Птичь, верховья реки. И вот от границы старых и новых Яворов, от того места, где, как рассказывают, давным-давно, но на памяти старых людей, в ночи мерцала окошками еврейская корчма, — от этой условной границы сначала наизволок, а потом круто в гору поднимается дорога — к той самой церковке, приспособленной нынче под склад. По углам ее три старых тополя, четвертый не дожил до наших дней. И на одном из тополей гнездо аистов.
Обочь церковки бывший клуб — обыкновенная хата, разве что без сеней да печи, с заколоченными почему-то окнами и никогда не запираемыми дверями. С появлением телевизора надобность в кинопередвижках отпала, да и народу заметно поубавилось в селе. Эта хата, или клуб, если хотите, теперь используется для редких собраний да всенощных танцев во время свадеб.
Хотя нет, едва не упустил из виду: каждый год, когда молодые аисты впервые в жизни отваживаются оставить гнездо, они слетают на конек именно этой хаты — близко, не так страшно пробовать крыло.
И еще на горушке стоит магазин — новый, белого кирпича, с водяным отоплением и единственным на село телефоном. А торгуют в магазине всякой всячиной, крайне необходимой сельскому человеку, — хлебом, солью, сахаром, одеждой, гвоздями, сапогами, рубероидом, ведрами, косами, мылом и, необязательной всячиной — консервами «Борщ», например.
В дни бойких торгов в магазин приезжают представители окрестных деревень — либо в их магазинах нет того, чего душа жаждет, либо выходной, переучет. Приезжают кто на чем горазд, в основном на мотоциклах, а то и на бензовозах, телегах. Один чудак продрался из Теплени, а Теплень отнесена к Узденскому району и снабжается по иному расписанию, — продрался на подростковом велосипеде через болота, поднял только седло. Бедняга, как он ехал с бутылками обратно — в карманах ведь не разместились…
Всякий раз, возвращаясь с почты, а до нее вкруговую 6 километров, в магазин заходит почтарка. С газетами, письмами, пенсиями. Заходит передохнуть, обогреться в стужу, укрыться в дождь, испить в жару лимонада или простой водицы на худой конец. К тому же у нее помимо газет с новостями в сумке есть новости на языке — возвращается как-никак с совхозной центральной усадьбы, из столицы, по-нашему.
Словом, все новости закономерно стекаются к магазину, здесь их обычное гнездилище, а эта горушка и есть фактический центр села, вынесенный, так сказать, за пределы села.
И вот к этому центру по единственной дороге, связывающей Яворы с внешним миром, и приходит автобус. То есть дорог-то у нас немало, и все они жизненно необходимые, но так, местного назначения — к полю, лесу, ферме, к ямам, где глина или песок, к кладбищу.
Итак, три пополудни. До прибытия автобуса еще целых полчаса, до отправления — более часа, и есть время оглядеться. Но зачем мы явились так рано, тем более, что и магазин-то, по идее, закрыт на обеденный перерыв? Да нет, какой же сегодня перерыв, если магазинщица Таня сама провожает сына с невесткой и внуками, а вчера завезли два десятка ящиков долгожданного вина и с наплывом гостей из города, проводами разве сможет она спокойно похлебать дома холодника, выполоть какую-нибудь траву-мокрицу на грядках — будут торчать у ворот, занудливо звать, чтоб быстрее открывала краму, наш яворский ЦУМ. И народ — вот он народ, уже собирается под старыми тополями, толпится в магазине, восседает на мураве за магазином.
Пока в основном подходят те, кто не едет. Бабули — чтоб взять хлеба, карамелек кулек, того же вина, пока не расхватали (сенокос скоро, без вина не обойтись), занять заблаговременно для отъезжающих места в автобусе (молодые встали поздно, ходили в лес за черникой и еще только моются у колодцев); ко всему прочему, когда еще представится случай повидаться сразу со всем селом — через неделю только… Тут же вертятся ребятишки, почти все школьного возраста — младших братьев и сестер родители заберут с собою, а у этих каникулы, будут жить у бабушек до сентября.
Я не еду, я провожаю дочь. Она редкая гостья в Яворах, и ее знают лишь близкие наши соседи. И Толик, торопившийся из магазина за магазин, всегда розовощекий по дороге в Яворы и по дороге из Яворов, хлопец, вдруг сбился с шага, описал полудугу, вроде как попал в зону притяжения космической черной дыры — он не видел мою дочь прежде.
— Девушка!.. — загомонил он, — Я покажу вам дорогу до Руденска!
— Спасибо.
— А потом и до Минска!
— Я не в Минск еду. В противоположную сторону, — находится дочь.
— Как?! Но ведь под Пуховичами взорвали мост!.. — находится и Толик.
Веселое времяпрепровождение всем пассажирам автобуса и Толиным соседям по электричке обеспечено. Цирк уехал, а клоуны остались…
О, вон еще один, Славка Топорашев. В сапогах, красных фланелевых шароварах, в расхристанной на груди рубахе. В зубах «козья ножка», изломанная, как собачья задняя нога. Этому ехать незачем, живет в селе с матерью, но ни один воскресный автобус без него в путь не отправляется — авось, что-нибудь да перепадет на проводах. В прошлом работал в совхозе на машинах и тракторах, потом плавал по набору в Атлантике, ловил рыбу кошелем, деньги — мешками. Вернувшись однажды из рейса, прикатил в Яворы из минского аэропорта на двух такси — первое везло его морскую фуражку с «крабом», во втором ехал сам. А сейчас вот работает с бабами, куда пошлют.
Но теперь уже скоро грянет для Славки снова золотая пора — сенокос. Далеко не во всех дворах остались мужчины, не ко всем и не всегда приезжают сыновья из города, и Славку зовут наперебой, он мастер косьбы. Правда, лишь в первой половине дня — ведь по уговору в конце каждого прокоса его ожидает обязательная чарочка, и после энной чарочки Славка способен сшибать у трав лишь вершки. Тут его и разжалуют до завтра.
Сценарий встречи со Славкой известен заранее. Вот сейчас заметит нас, широко ухмыльнется, по-медвежьи повиснет мне руку: «Здорово!..», а потом и дочери. Как-то он сегодня ее назовет, ему это все равно… Мне же надо лезть в карман за сигаретами…
— Много куришь, Славка, вон «козью ножку» еще не докурил.
— А я с четырех лет курю. Без перекуров!..
— Даже жениться некогда…
— Американский философ Джон Форд, — наставительно отвечает Славка, — в 91 год вспомнил, что неженат. А мне только 41…
И по-прежнему широко ухмыляется, морщит крупный утиный поливаный нос, на лбу блестят капельки пота. В левой руке у него какой-то разодранный веник из ромашек — сапоги им, что ли, обметал.
Славка отправляется за магазин, и мы видим, как он пытается всучить свой букет отъезжающему высокому гостю Толику. Тот смеется, злится, не забывая однако плеснуть в стакан каплю и для него. Белорусский коньяк: один яблык — один червяк…
Все у нас относятся к Славке со снисхождением, безобидный он малый, хоть и большое трепло. Мне, например, на первых порах все морочил голову, что он — писатель, свободно пишет как на белорусском, так и на русском, ну и так далее. (Боже, неужели я таким уж дурнем выгляжу?!) Подобная фантазия, конечно, на пустом месте не расцветает — кажется, с четверть века назад районная газетка напечатала какую-то Славкину корреспонденцию — об успешном сборе яворскими школьниками металлолома или о слете пионерской дружины, что-то в этом роде.
Но на БМРТ Славка плавал, это без врак, и врываться в Яворы врывался — на двух такси, салютуя селянам заложенными средь бела дня фарами и ревущими клаксонами: вот он — я!.. Селедку кушаете?.. А кто ловил? Атлантическую, исландскую, беломорскую?! Кто солил в бочках и ящиках?! Кто разделывал ее, обезглавливал, зябрил для лучшего товарного вида, кто не разделывал?! И кстати, селедка пряного посола обожает следующие компоненты: сахар, лаврушку, душистый, красный и черный перец, кмен[2], анис, корицу, кориандр, а маринованная…
Где теперь та селедка, давно списался на берег Славка Топорашев, некому ловить…
А на пятачке возле магазина все время слышно:
— Здравствуйте!..
— Здравствуйте!
Приходит Буян, желто-черный выжлец Миши Яволя. Значит, на подходе и сам Миша.
Буян кажется псом нескладным. Тяжелая голова словно бы мотает его из стороны в сторону, и он с трудом удерживает равновесие на своих больших длинных лапах. Но в работе по зайчику у нас равных ему нет.
Буян оставляет без внимания присутствие у магазина Славки Топорашева. Может, потому, что народа уже порядком, а так ведь проходу ему не дает. Никому неведомо, отчего невзлюбил он Славку. По ночам, бывает, слышен на селе одинокий собачий лай. Не яростный, не захлебывающийся, но и не равнодушный — черт-те какой, никак я слова точного здесь не подберу. «Гав!..» — Потом через паузу: «Гав!..» — И снова через паузу: «Гав!..» Все знают, что это Буян пришел к Славкиному дому, сладкие сны видит Славка, до фени ему тот кобель, полудворняга-полуохотник, никогда его не задевал, чего связываться с дураком, но вот поди ж ты…
А вот и Миша. В сапогах, выходных синих бриджах, черной рубашке, кепке. По случаю воскресенья он побрился. «Домов!..» — тут же приказывает Буяну, но ведь всем интересно у магазина, и Буян, опустив хвост, развинченно вихляя задом, изображает послушание, семенит… в противоположную сторону.
— Куды?! Я сказал — домов!
Да где там…
Миша не спеша здоровается с дядькой Сергеем, провожающим своего младшего сына, Павла. Потом — с Павлом. У хлопца в руках сложенная, обмотанная мешковиной коса.
— Что, в Минске будешь сено косить на асфальте? — усмехается Миша.
— Ну а что робить?! — взвивается Павел. Ему, по всему, уже поднадоели такие подначки. — Дадут какую-нибудь ломачину — замучаешься. А эта ж своя — легкая, привычная.
— И куды завод посылает?
— Аж на Нарочь. Там наш подшефный. Ближе вот колхоза не нашлось.
Миша и дядька Сергей качают головой, косят глаз на лужайку за магазином.
Значит, на днях и к нам в Яворы забросят десант. Однажды, в самый трудный на моей памяти год, чуть не в каждой хате, сменяя друг друга, лето и осень жили постояльцы.
Это заболоченное чернолесье, хмызняки на торфах, принадлежат совхозу. На их месте предполагается сооружение рыбоводческого комплекса. Будут строить, не будут, тем не менее уже много лет здесь можно пилить и рубить все, что ни заблагорассудится, и народ с первыми морозами и до глубокого снега запасается на болотах дровами. Поэтому вроде бы и не жаль тех редких берез и осин, что попадаются средь ольхи, крушины, малины, можжевельника, елок и сосенок, задушенных крапивой и перевитых хмелем. Да попробуй сунуться в тот гущар, где непродуваемая духота и липнут к телу штаны и рубаха, где слепни и даже в полдень скопища племенных комаров, а ноги и в сухое лето вязнут выше щиколоток. Ни за какие пряники не полезешь, будь ты хоть сто раз ведущий популярной рубрики «Человек и природа». Работать ведь приехал, «зеленую массу» заготавливать, а не веничек связать к субботней баньке. Печально известный эксперимент…
Редакторов и стилистов сменили веселые человечки с какой-то шабашки, жарившие по вечерам шашлыки над кострами. Эти не отработали даже совхозный харч…
Потом на уборку хлебов прислали людей с завода и на картошку — студентов техникума.
Вот и Павел едет в район Нарочи. А к нам, возможно, попадет хлопец, рожденный у Нарочи. Но вряд ли все же со своего косой…
Как и большинство яворских мужчин, Павел не гнушается дома никакой работой. И на ферму вместо батьки сторожить выйдет, если тот в его приезд вдруг загуляет иль захворает, и матери на той же ферме принять отел поможет, свою корову подоит, и на болото один — если приехал без жены и не подобралось компании — не постыдится с бидончиком за малиной сбегать. Впрочем, что значит «не постыдится»? Стыдно, у кого видно, работа стыдной не бывает…
А люди меж тем подходят и подходят:
— Здравствуйте!..
— Здравствуйте!
Вижу Костю — высокого нескладного человека в очках с толстенными линзами. Костя первый яворский грибник, и я расскажу по случаю о нем особо. Толкует с группкой отъезжающих-провожающих, бросив набитую хлебом сетку на куст припорошенного пылью хрена: «А!.. Дети все съеду́т!..»
— Здравствуйте!..
— Здравствуйте!
Приходит Петя, наш сосед, истый труженик, фрезеровщик с «Интеграла». О нем тоже будет отдельный рассказ. Подбираюсь я к этому рассказу уж много времени, вижу, как говорится, его насквозь, а вот на бумаге мои слова неповоротливы и блеклы. Наверное оттого, что Петю я знаю много лучше других и нет ничего сложнее в нашем деле, как написать о близком тебе человеке. Тем более, как ни удивительно, если человек этот ярок. Повсюду видится несоответствие живого характера с рассказом о нем, фальшь, самому себе не веришь и к чему же, спрашивается, морочить голову другим…
— Уф! — сказал Петя, ставя на землю ношу с какими-то там деревенскими гостинцами. — Тяжкие вэнзелки.
— Так он тебя и понял, — имея в виду меня, заметил Миша. — Скажи по-русски.
— Клунки[3], — «перевел» Петя.
Длительный обряд обмена рукопожатиями. Полсела так или иначе Петины родственники. Что не помешало однако в свое время передраться со всеми, раз за разом, когда приспичило женихаться, приводить в дом невест своих, так сказать яворских: вот, мама, нашел себе воеводу…
«Петя, — говорила мать, — але ж Валентина — твоя троюродная сестра!..»
«И Люция, Петя, — тебе сестра!..»
«И Люба…»
Пришел потолкаться среди народа Митя Киселев. Работал некогда в городе, попал в переплет, голову ему проломили. Молодой хлопец, он получает пенсию по инвалидности, живет с матерью[4].
— Здравствуйте!..
— Здравствуйте!
И разыгралась вдруг сцена, не радующая глаз: к магазину притащился пьяненький дед Алешка, за ним его баба Тэкля, отняла у него палку и погнала той палкой взашей домой.
Тэкля пришлая, откуда-то из-под Светлогорска. Продав там хату, прибилась лет пять назад к бобылю Матвею, через полгода схоронила его, стала полновластной хозяйкой крепкой усадьбы и вот только что, с месяц назад, привезла себе из Шацка семидесятилетнего вдовца Алешку. К ледащему Алешке в Яворах еще не привыкли, не раскусили, что за человек, Тэклю за ее скверный язык недолюбливают, и спектакль этот в общем-то, не в обиду будет сказано односельчанам, за живое особо никого не задел.
— С ней не пропадешь, — усмехнулся Миша.
— Но и не воскреснешь, — добавил Петя. — Пьяны человек — святы человек, как не поймет… А, да ну их, времени мало.
Он метнулся в магазин, вынес стакан и пару «фаустов». То ли «Золотых песков», то ли «Золотой осени».
— Хоть сегодня и не Петров день, а все же… — сказал Петр.
— Ну а где Петр, там и Павел, — сказал Павел.
Хлопцы увлекли и меня на травку, отказываться было грешно. Телё в Дудичах не пило́, не пило́, его и зарезали, как отреагировал бы Петя.
Так и вышел у нас в Яворах день Владимира, Петра и Павла.
А вскоре на дороге показался, запылил автобус…
Мог бы и опоздать однако…
ЯВОЛЬ
Это уличное прозвище наш сосед Миша привез из Германии. В переводе означает «слушаюсь». «Как здоровье, Клава?» — спросит мою жену. «Нема здоровья, ерунда!» — весело отвечает Клава. «Ерунда — есть такое растение. Я о здоровье спрашиваю. Яволь?..»
С первого дня войны Миша таскал трактором дальнобойную пушку. Может, оттого и жив остался: позиции дальнобойной артиллерии — тыл не тыл, но и не окопы передовой. Конечно, прямой наводкой тоже приходилось стрелять. По танкам.
Работал в молодости трактористом, теперь же — возчиком. Своего коня называет не иначе как «Форд», «Мерседес» и так далее, как взбредется.
Сегодня вывозили из его хлева на наш огород навоз. Когда работу окончили, напомнил: «Двадцать третьего у Женика (старшего сына) свадьба. Яволь?» — «Яволь, яволь…»
Я достал из нагрудного кармана рубашки пачку «Примы», и он потянулся к ней, предварительно вытерев перепачканные в навозе руки о хвост коня.
ПРАЗДНИК
Завтра Егорий, или Юрий — праздник. Бабы пойдут на наряд на час позже — в первый раз пастух погонит стадо, так заведено.
…И назавтра: коровий рев, лай собак, с каждой коровой не менее одного провожающего; а она упирается, привыкла к теплому хлеву и отвыкла от «общества» — то идет по дороге галопом, то рысью, то в болото сдуру норовит. Иных даже тащат на веревке или ременном поводке. И повсюду стычки коров между собою. Ошалела скотина, как перед концом света. Только и слышно: «Куды?! Куды?!» С достоинством вели себя лишь грациозные белые козочки.
Наконец стадо выпроводили за околицу.
А спустя немного времени штук пять коров заявились в село. С громким мычаньем пошли по улице.
Миша заворачивал свою так, как, пожалуй, только он умеет:
— А каб ты сдохла, га?! Каб ты са скуры[5] вылезла!.. Кадушка!.. Куды?! Я тебе озирнуся, я озирнуся[6]…
Ко всему прочему пока мало травы, а дома ведь хлеб давали.
Не было четырех часов, когда стадо пригнали обратно. Немного сломленное, но все еще ревущее, бестолковое.
— Лепей за усё[7], — бранчливо выговаривал Миша своей, — каб твоя мать не родила бы тебя, а в крапиву бы выссала!..
Ну и праздник!..
МИШИНО ХОЗЯЙСТВО
У Миши большое хозяйство и работу не переделать — корова, стельная телка, бычок, три кабана, куры, пчелы. В прошлом году держал стадо гусей. Еще две собаки, три кошки; последние хоть и на собственном попечении, но все же…
В выходные и в отпуск из города приезжают с семьями обе дочери, сын. На какую пору года ни выпадает отпуск, когда ни приедут, работы для всех достаточно: и огород ведь надо посадить, и картошку вовремя обогнать, и сена накосить, и убрать огород, и свезти огурцы на продажу в город, и крышу перекрыть, и жито на мельнице смолоть, и дров на болоте с заморозками заготовить — мало ли чего…
Еще один сын служит в армии. Спросишь Мишину жену: «Что пишет, Танечка, Володик?» Ответит: «Прислал в неделю[8] письмо… Держу конверт, ведаю, что все до́бра, а плачу. Плачу вот, каб он сдох, ага!..» — И всякий раз замечаю слезы на ее глазах.
Накануне Миша ездил на центральную усадьбу, отправлял по почте посылку для Володика. С салом и домашней колбасой. А трешку, которую посылали в конверте с письмом, Володик так и не получил.
УГРОЗА
На первых порах, когда менять старый, упавший на улицу забор было еще недосуг, к нам захаживали не только гуси и куры, но, случалось, и кони.
Кристинины куры пользовались у нас привилегиями — до еды они были не жадными и грядок не трогали. А Мишины — это была напасть, это была какая-то саранча, оголтелое ханское воинство, способное перевернуть ради дохлого червяка весь твой огород вверх тормашками. Особенно остервенело разгребали землю вечно голодные поджарые блондинки.
Но Мишины куры неслись одна перед другой, вот ведь в чем фокус, а все Кристинины сообща стыдливо оставляли в гнезде лишь одно-два яичка в день. И Кристина справедливо грозилась свернуть своему петуху голову.
ВРЕМЯ
И сквозь дрему прекрасно знаю о времени.
Мышь перестает шуршать бумагой в подпечье, светает — половина четвертого.
Гремит ведро о бетонные кольца колодца, поскрипывает ворот — это встала Таня, жена Миши Яволя; с шумом моет в оцинкованном корыте картошку для свиней — половина шестого.
Под окнами стучит телега, перезваниваются бидоны. Это проезжает сборщик молока сухорукий дядька Степан. За нами по улице восемь дворов, на восемь дворов — две коровы. Одна хата, правда, заколочена, вторая опустела только что — из нее тоже вынесли хозяйку. Проезжает дядька Степан — значит, половина седьмого.
А без четверти восемь прогоняют стадо, слышны знакомые голоса селян.
Все. Как далеко заполночь ни лег спать, — пора вставать. Чтоб куры не засмеяли.
Часы можно и не сверять, дело ведь не в минутах.
А петухи, кстати, знать того не хотят, что часы у нас настроены не на действительное время, а московское декретное, и кричат не в час, не в два и три, а с получасовым примерно опозданием. То есть с поправкой на солнцедвижение над Яворами.
ВОЛЬКА
А заколоченная с нашего края хата — Волькина.
Помню, как пришла она к нам в первый раз. Мы копали грядки и не скоро заметили ее фигурку за забором. Вернее, не скоро поняли, что человек не решается войти во двор — ведь мы успели привыкнуть к деревенскому обычаю входить в любой дом без стука. Сами, правда, по-прежнему звякали на крыльце и в сенях щеколдой, но уж во двор-то заходили смело.
Ей было за девяносто. Маленькая, с длинными волосками на подбородке и с длинной клюкой в руке. Одета абы во что, ела абы-что, спала абы-как — прямо пуританка. Пете под сорок, и он рассказывал, что сколько помнит себя, Волька всегда выглядела так же, и малышню пугали ею.
— Вой, вой, вой! — ужаснулась она. — Весь огород — под лопату?! Да возьмите вы, людцы, коня, як жа можна гэтак страдать!..
Оно бы хорошо, конечно, взять коня… Да с конями сейчас худо, в селе очередь на коня — до десятого июня, бывает, огороды пашутся, куда уж нам, пришлым, соваться…
— А хочете, я вам бо́бов принесу?
— Да у нас есть, спасибо, бабушка…
— В понеделак Микола — можа, тёпла будет. Як раньше говорили: «Пришел Микола — бери варе́ньку[9] ды сей помаленьку». Не ведаю, як теперь гово́рят…
— Как же зовут вас, бабушка?
— Волька, — изумилась она. Действительно, как можно не знать… — Правда батюшка нарек Клавдией. Але ж тата был пьяный и, покуль довез из церкви, забылся. Правда што!..
Мы переглянулись с женою, и она скользнула в хату, вернулась с парниковым огурцом. Волька посмотрела на городской гостинец без особого интереса.
— Это ж я ходила домовиться, каб забили козла. А ниякого с него толку, козы в стаде к чужим бегают… А хочите, я вам козочку приведу?..
Да, все оно так и было года три назад. И историю эту я передал в последней повести через наполовину выдуманного героя — показалось, что к месту. Но именно к ней, Вольке, постучался осенней ночью сорок первого года еврей: пусти, мол, тетка, погреться на печи. И это с ним была коза, а коз никто тогда в селе не держал. Раницей гость засобирался. «Ды куды ж ты пойдешь?!» — «Ах, тетка-тетечка! Придут немцы — меня забьют, козу забьют и тебя вместе с нами!..» С тех пор и развелись в Яворах козы…
Только выдуманный герой хотел продать козу, а живая Волька — подарить.
Заколотили Волькину хату.
А того еврея немцы забили.
В КОНЦЕ МАЯ
Троица (или семуха, седьмое воскресенье после пасхи) нынче ранняя, и еще не управились с картошкой. Но коням отдых — пасутся, спутанные, на лугу.
У магазина толкутся мужчины.
Я же ходил по строчки. С тем, чтоб и самому потом заглянуть в магазин.
ЛОСИ И РОТОЗЕЙ ПОНЕВОЛЕ
Летним днем Дануся Концевая перебирала картошку, как кто-то застил ей свет: лаз в погреб был у самой двери в садок. Подняла глаза взглянуть, кто там пожаловал, и обмерла. А божечки! — сунув в дверь рогатую голову, за ней с любопытством наблюдал лось.
— Кыш! — замахнулась она на чудище котиком. — Пранцы на тебя!..
Едва ли не каждый сельский житель, городской грибник, рыбак, шофер, дачник, наконец, встречался с лосем. А недавно в «Известиях» был напечатан курьезный снимок — лось знакомится с городом Слуцком и горожанами.
Неловко признаваться, но мне, побывавшему в самых разнообразных заповедниках и заказниках, на многих биостанциях, видеть лося на воле еще не доводилось. Редкостных птиц и зверей, реликтовые растения — пожалуйста, а вот лося — нет, не доводилось, одни лишь экскременты. Как это понимать, я не знаю.
Вот и сегодня. Катились в автобусе через лесок, пылили помалу в Яворы. Я сидел у окошка, ворон считал. И, конечно же, заторможенно воспринял возгласы: «Лоси!.. Лоси!..», запоздало заметил оживление в автобусе. А когда и сам ринулся к окнам противоположной стороны, все на свете уже проехали.
Правда, считая ворон, я увидел именно в это время вновь появившийся самодельный щит при дороге и восхитился искренностью лесного грамотея, который неровными буквами сообщал: «Браконьер — вредитель, враг СССР и всего человечества!» Но ведь щит на врытых в землю столбиках и до следующего раза никуда бы от меня не ушел…
УРОКИ
Солнце пекло так, как только ему хотелось, дождя все не было, и среди недели пришлось бросить в городе все дела, ехать в Яворы, чтоб спасти хотя бы помидоры и огурцы.
Жаль, конечно, было не только помидоры и огурцы, но и все эти чахоточные ростки, в неменьшей мере изнывающие от сухмени, жаль было обманутую землю, труда. Да и вообще — один лишь рассказ о том, как доставались семена, мог бы стать самостоятельным рассказом. 42 клубня «вербы», например, — столько поместилось в бумажном пакете, — мне подарил сам создатель сорта академик Альсмик. Картофель только-только прошел государственные испытания и потому еще не скоро выплеснется на поля, чтоб затмить славу знаменитого «темпа». А в Яворах картошка выродилась, все сорта давно перемешались, и я надеялся, что помалу именно высококрахмалистая «верба» с нашего огорода поможет селу, даст ток новой крови.
Но более всего я все же беспокоился о помидорах. Мало того, что это влаголюбивая культура, — ведь я же сам выращивал в городской квартире на окошке рассаду, еще в марте наковыряв стамеской в цветочном коробе на балконе мерзлой земли, переносил ящики из комнаты в комнату, оберегая всходы от сквозняков, и закалял их на негорячем солнышке. Помимо популярных, здесь тоже было несколько интересных сортов — они отличались и по сопротивляемости к болезням, и по форме, даже по окраске: были желтые помидоры, были черные — черно-красные на изломе, с черной кожицей.
Я торопился, чтоб управиться с основной поливкой до сумерек, и опоздал: вокруг каждого помидорного кустика уже темнело влажное пятно. И огурцы были политы, и морковка. Не столь обильно, как это обычно делаем мы, не с запасом, а так, чтобы дожить хотя бы до завтра — авось назавтра непутевые хозяева наконец-то появятся.
Мне не надо было долго ломать голову, чья же это работа. Конечно же, тетки Кристины, нашей соседки. А может, и не только ее одной. Может, пришли помочь толокою и Варька, и Стефка. Все они так или иначе родственницы между собою, эти одиноко живущие бабульки 73-х, 74-х и 75-ти лет… А может, и Прузына была, и Женя, и Таня…
Будто забот своих не хватает, с досадой подумал я. Но ведь вы-то понимаете, что я злился тогда лишь на самого себя.
На двери Кристининой хаты висел замок. Значит, после дневных праведных трудов ушла «гулять» на село.
«За́раз выпьем по стаканчику вина, — услыхал я однажды от Стефки, — и возьмемся за слезы…»
Мой колодец — в ту пору я только думал забрать его под одну крышу с летней кухней — оказался накрытым широким горбылем из моего штабеля. Ну а это еще зачем? Обрез верхнего бетонного кольца довольно-таки высоко над землей, в колодец-то и пьяному мудрено свалиться…
И все понял, лишь достав воды: в ведре плавали замечательно замоченные парашютики одуванчиков, они дожидались, когда я перенесу их на возделанную, удобренную, влажную почву тем же помидорам под бочок, чтоб мгновенно выстрелить. А сколько их, этих парашютиков, обманчиво-безмятежно толклось в воздухе!.. Известно, сорняку никогда и ничто не помеха.
…Из-за комаров пришлось окна и двери на ночь закрыть. Раскинувшись, я лежал поверх одеяла в полной темени, в полной тишине. Лишь с болота приглушенно доносился соловей.
Уже засыпая, услышал, как где-то каукнула кошка. Все верно, не мяукнула, а каукнула, как и положено белорусской кошке.
ГРОЗА И ЛИВЕНЬ, ДЕНЬ ЧУДЕСНЫЙ
Гроза застала нас в чистом поле.
Я никогда не видел такого зловещего неба и не предполагал, что бывает на свете такая затаенная, враждебная человеку тишина.
Было как во сне: с одной стороны ты, а с другой — все остальное.
Гроза не подбиралась, не готовила тебя к встрече с него. Она рождалась прямо здесь, над тобою и вокруг тебя.
Мы ощущали телом электричество, которым был перенасыщен воздух.
Шелестел пробный дождь.
С первым ударом грома вспыхнули провода на четырех опорах. Горели, как свечки, в полусотне шагов от нас.
Ни в Узде, ни в Руденске, где можно было обесточить линию, до этого удара не знали, что у нас собралась гроза.
Хлынул дождь. Очки пришлось снять, и все плыло перед мокрыми глазами.
Жена вцепилась в мою руку. Она панически боится грозы. И, наверное, уже в который раз вспомнила давний совет Варвары Васильевны: «Попостись в последнюю пятницу перед Ильей — грозы бояться не будешь. У нас же в селе никто не боится…»
Второй удар, через значительный промежуток времени, пришелся по центру Яворов. Позже мы узнали, что с этим ударом рассыпался ко́мин[10] на хате Топорашевых.
Мокрые с головы до пят, мы свернули с дороги, пошли через заросшее бурьяном поле, через кладбище. Так было до дома много ближе.
Вода неслась по склону, как молодой конь в конюшню.
Дождь добрый, сказала наша соседка Женя, але ж нахальный — погреб залил…
И картошку бороздами вымыл.
И переколошматил огуречные всходы.
И унес машину песка, что был сгружен у моих ворот.
А наша речка, что Галкам по сека́лкам, вышла из берегов.
Не было ни гроша, да вдруг алтын. Нет, нам такой дождь не нужен, сказал Миша Яволь…
ПЧЕЛЫ
Дождливые дни. В лугах много травы, но мало цветов. Из медоносов совхоз нынче ничего у села не посеял (а прошлом году была гречиха), и пчелы злы — возле цветущей фасоли атакуют тебя без предварительного оповещения, то есть без обычного круженья, жужжанья, а с ходу, как оводы.
…Но вот зацвела липа.
РОДСТВО
Клава давно собиралась сходить с Варварой Васильевной на кладбище. Там похоронены многие бабулины близкие. Мама и тата, в том число — прежние хозяева хаты, в которой теперь живем мы.
И вот собрались «в отведки». Клава вымыла у колодца ноги, умылась и переоделась, когда за нею зашла Варвара Васильевна — как всегда чистенькая, аккуратная, в белом выходном платочке — интеллигентная старушка от земли. Увидев Клавины приготовления, она сперва обрадовалась, а потом засмущалась: от работы, мол, оторвала, а кладбище — вот оно, на бугре, можно было и так пойти, никто и не заметит.
— Но как же… — возразила жена. У нее самой еще свежо свое горе — не так давно погиб младший брат.
…Варвара Васильевна потом вся светилась. И впервые сказала ей «миленькая».
БАНАНЫ В ЯВОРАХ
У Васи Шавеля поздний ребенок — женился Вася поздно. И вот жалуется:
— Саша растет один, жалко бить… — И по обыкновению, полуутвердительно добавляет: — Га-га?..
— Зачем же бить?.. Живой, бедовый мальчонка…
— Но как же?.. — теряется Вася. — «Папа — дурак!..», «Бабушка — дура!..», «Дай закурить!..», матюками ругается…
Саша один не только в семье, но и на всей нашей половине села. Лишь на лето привозят из города сверстников.
— Бабушка Варька!.. Ирочка приехала?
Нынче мальчонке в школу, и мы привезли букварь. Однако и пестрая книжка была интересна ему не более получаса — такой непоседа.
Саша носит нам молоко и делает это с охотою. Уж если не обнаружится в доме конфетки, отведут попастись в клубнику, сладкий горох, морковки, на худой конец, надергают.
Сегодня нашелся редкостный фрукт банан. А в бидон, разумеется, была брошена хлебная корка. Но это затем, чтоб не погубить корову.
Со вторым бидончиком Саша прошел к нашей соседке, бабушке Кристе.
После прошлогоднего инсульта Кристя зимовала у сына в городе, в котором и сорок-то не видать. И хозяйство свели на нет, ни куренка, ни кошки не осталось. А сейчас у нее были кислые блины с тертой бульбой, мороженая рыба, опущенная в бидоне в колодец, привозные яйца «с нейкими синими номерами». Да вот это молоко. Банана не оказалось, и Саша воспринял это как надувательство.
— Вы что же думаете, — заявил он, — из-за сухой корочки вам будут молоко носить?! Купляйте корову!..
«Купляйте», и весь тут сказ. Да кому ж ходить-то за нею, бестолочь ты, Саша…
ДЕВОЧКА И АИСТЫ
Еще вчера, проходя под тополем с буслянкой[11], можно было угодить под упругую струю птенцов: пачкать в жилище — не в правилах аиста, это же вам не курица, а молодые, их нынче трое, только-только пробовали крыло.
И вот сегодня слетели. Рано утром мы вышли во двор, увидели все семейство на высоком коньке нашего сарая. Это как раз на полпути от буслянки до болота с лягушками. Рдяные солнечные блики играли на белом оперении птиц.
— Господи, до чего же красиво! — счастливо вздохнула моя сестра. Проездом из Чехословакии, где Люда живет и работает, она вместе с дочерью, первоклашкой Катькой, завернула к нам на несколько дней.
Кате было обещано парное молоко — городская девочка, для нее это было внове, земляника с грядки, стручковый горох, аисты, пенье петухов, русская печь и все такое прочее. Молока нам понаносили соседи, землянику еще не всю ободрали юные сладкоежки, а горох я и сам люблю, две грядки под него отводим. К тому же совхоз каждый год засевает у села большое поле смесью гороха, овса и вики.
И вот теперь пожаловали аисты.
Стреха сарая — островерхая, соломенная. Она единственная в своем роде во всей нашей округе, и я не собираюсь менять ее даже на черепицу, не говоря уж о жести, шифере или рубероиде. Хочется по возможности сохранить усадьбу такой, какой она была при прежних хозяевах. Последняя соломенная крыша в округе, и как бы не последние аисты…
— Катя, Катя!.. Аисты!.. — встрепенулась жена и побежала в хату будить девочку.
Та выскочила в одних трусишках на темную от росы стежку, стала шарить заспанными глазами по траве.
Аисты были обещаны. Но не было сказано, что это такое.
…Понимаю, что последний аккорд этой записи малооригинален, о подобных вещах теперь повсюду твердят. Но что поделаешь?..
ЗАКАЗЫ
Перед нашей поездкой в город пришла бобылка Ладя, попросила привезти килограммов пять круп, какие ни попадутся, и постного масла, если это возможно. И тех сердечных таблеток, что кладут под язык.
Миша Яволь заказал питание для плоского фонаря, десяток пачек «Примы». Гродненской желательно.
Мешок перловки и четыре мешка сухарей ему привез в прошлый выходной старший сын. Сухари Женик набрал в заводском общежитии, где жил до недавнего времени, до женитьбы. Там хлопцы крестьянские и хлеб берегут.
И всяк неловко упоминал о дрожжах — в городе дрожжи тоже редкость.
САША И ЧЕСНОК
Ячмень в тот год уродился на славу. А погода, как теперь это водится, не баловала. И доставалось всем — и людям, и коням, и технике.
Саша, наш молодой парторг, мотался по бригадам, сушил зерно с женщинами на току. Застать его дома, конечно, было невозможно.
Я говорю лишь о том, что видел сам. Вот и видел я Сашу всегда по случаю, то в одном месте совхозных угодий, то в другом. Однажды столкнулся в Минске в дверях Дома книги: сотрудники издательств, редакций журналов и газет, словом — Белкомиздат был шефом совхоза. И как-то — на току, где он работал совковой лопатой, подменял кого-то.
Однажды в конторе к нему подошла Егоровна, бывшая учительница. Она давно на пенсии, ведет хозяйство. У нее отличные сливы, куры, лук, чеснок, огурцы, справные поросята. Весной к ней приходят за семенами.
— Саша!.. — обрадовалась Егоровна. И вдруг спросила о том, чем больше всего сейчас была жива: — Ну, как у нас дома мой чеснок?
Саша глядел на нее непонимающе. Наконец до него дошло, сказал устало:
— Ат, Егоровна! Я не знаю, какой у меня чеснок, я знаю, что у меня ячмень хороший!..
ВОСПОМИНАНЬЕ МИЛОЕ О ДЕТСТВЕ…
Мы не столько собирали грибы, сколько плутали. Надо было выходить на солнце, а на пути либо непролазный бурелом, либо черно-сизое от голубики (дурницы) болото. Откуда только что и взялось. Я уж и себе, и солнцу перестал верить, лазал на сосну, на триангуляционную вышку. Слепой, что я мог с нее увидеть… Совсем не знали мы этого крыла леса.
Наконец вышли к полю. Вдали виднелась какая-то деревня, в кустах пас коров дядька.
— Как выйти к Яворам? — спросили мы.
Пастух оказался дедком, высоким, худым, в зимней шапке и резиновых сапогах.
— Та́мака Яворы… — Он столь энергично рубанул рукою воздух, что рука заметно потащила его. — За горкой, километров са три.
— Но там болото…
Дедок стал объяснять, как миновать то болото, какой стежечкой идти и где сворачивать, и вновь рубил воздух, и вновь сухая рука тащила его, и я заметил — все время несколько в иных направлениях.
— Вы меня простите, — вдруг засмущался он. — А гадюк на болоте много?
— Вчера одна все сворачивалась на тропе, но это не тут, а сегодня нет, не видели.
— Бр-р!.. — поежилась жена.
Мы показали дедку наши бедные лисички, потом закурили. От коров прибежал веселый кобелек.
— А я пасвил на том болоте коров, — сообщил дедок, по-прежнему смущаясь. — Неколи, в детинстве. В селе вяселле[12], всем же хочется погулять, — вот меня и отправили. У батьки было семь коров, у соседа — три, еще у одного соседа… Коровы, — это не теперь, теперь они одна к одной привычные, — коровы дерутся, но меня не трогают, уважали, наверно, потому что мне мало годов было́. А тут буря! Молния за молнией! Коровы бесятся!.. Что такое, думаю!.. Оказывается, что ни шаг — на гадюку наступаю!.. Вспоминаю детинство…
Мы шли к лесу, оборачивались. Дедка пошатывал ветер, и потому он цепко держался за палку.
Пожалуй, с самого детства он в этом лесе, на этом болоте не был…
«ОТ» И «ДО», ИЛИ ПО СЕНЬКЕ И ШАПКА
23 августа, приметный день. С утра до вечера было тихо, лишь изредка подувал слабый ветер, и вода в осушительной канаве, откосы которой Костя обкашивал, казалась мертвой. Темная, усеянная семенами отошедших трав, она не волновалась под этим ветром. Кусали комары… Все говорило за то, что и осень должна быть тихой, а зима — без шальных метелей. Для полного набора примет не хватало, пожалуй, дождика; но и тот вроде побрызгивал за близким лесным горизонтом, за Тепленью и Распутьем…
Конечно, кому не по душе спокойные осень и зима. А вот дождь, пусть себе сто раз приметный, был бы теперь не кстати — разом поспели жито, ячмень и овес. Хватит того, что лето выпало на редкость плаксивым, из теплой земли трава перла как на конец света, на сотках — у тех, у кого помимо одуванчика по дворам и обмежкам были участки сеяных трав, — уже во второй раз поднялась отава. Да и Косте дождь совсем ни к чему, хоть и возьмет он сейчас с тех канав клок того сена. Сено — оно всегда сено. Росла же здесь в основном всякая непотребная пакость навроде татарника, чернобыльника, осота; ну, аир у самой воды и в воде, годный разве что для подстилки скотине, местами встречался козлобородник с добрым разнотравьем, а порою на бровке перепадали клевер, овсянница, тимофеевка, оставленные совхозными сенокосилками. Посылали же Костю сюда не ради его тимофеевки, а ради аира и былья, и называлась работа профилактическое обкашивание гидромелиоративных каналов. Чтоб не зарастали.
Словом, Костя был штатным косарем у мелиораторов.
Костя окинул взглядом канаву, на которой сегодня трудился, она уходила наискосок к падающему за взгорье солнцу, закурил, забросил за плечо косу и пошагал к селу, подволакивая ноги в тяжелых кирзовых сапогах.
Справа от стежки, за гречихой, крепко заросшей сорной травой, был некогда хутор. Теперь там вперемежку с дичками и вокруг них, даже на крушне — камнях, оставшихся от фундамента да еще помалу свезенных с поля, — шелестели березы и осины. И если в этих зарослях выскакивал вдруг гриб-другой, какой-нибудь обабок или дурной красноголовик, значит, в лесах появился настоящий гриб, грянула пора серьезной охоты. Здесь, парень, время не теряй, останешься на бобах.
Эти одиночные хуторские грибы Костя называл разведчиками. И они никогда не подводили его. Гарантия была стопроцентная — как на станции «Салют-6». А Костя кое-что да понимал в современной технике.
Тут надо заметить, что по части грибов соперничать с ним могли у нас только Мишка Коваль и Дануся Концевая. Но Данусе давно за семьдесят пять, от переделанной за жизнь работы и прочего ее суставы к непогоде и по ночам разъедает соль. Схоронив мужика, она тем не менее не пожелала сокращать хозяйство хоть на куренка. Все же две дочки в городе, на заводах, еще одна в Крупице, у нее свое хозяйство, помощи от дочек практически никакой, если не сказать, что дело обстоит как раз наоборот — Данусе на лето привозили внуков. То есть какое-то ведьмовское чутье на грибы не изменило ей, непокой и непоседливость в душе остались — нужно отдать ей должное, а вот в руках-ногах мочи недоставало. Как и самого времени, понятно. Теперь, баба, особо не пошастаешь.
Костя, словом, был грибник вне конкуренции.
(Исключая Мишку, конечно. А наезжающие к родителям из города чижики — так эти не в счет, лес надо не наскоками видеть. Вон и Ванька, старший сын, приехал как-то прошлым летом, говорит: «У нас на Комаровке, — то есть на базаре в Минске, — боровиками торгуют. Наверно, и здесь появились?..» Появились! Десятка два ниток, помнится, одних только сухих уже висело!..)
Зацепив за голый, обломанный яблоневый сук косу, Костя не спеша прикурил потухшую «Приму», глубоко втягивая худые небритые щеки. Потом поднырнул под ветви одной из крайних осин. Грибница здесь была доподлинно слабая, разведчики проклевывались не каждое лето — не хотелось сразу же осматривать сравнительно толковые места и лишиться сразу же надежд. Он присел на корточки, услыхал, как затрещали по шву линялые штаны, пощупал вновь образовавшуюся дырку — можно ли будет идти домой через село, успокоился и лишь тогда повел взглядом по затененному суглинку, редко поросшему высокой худосочной травой. И неожиданно увидел возле притонувшего в земле окатыша подосиновичек, каб он сдох! — в полпальца ростом, в бледно-розовой шляпке с неразвернутыми полями. Что такое дождь, дурень, еще и не ведает, в тюбетейке, как узбек, гуляет…
Костя облазал бывшее селище, хотя в этом нужды теперь не было, поднял еще пяток — юных, крепеньких, поклал их в карман пиджака, переложив брусок в другой карман, к сигаретам, и, озабоченный, почесал к селу.
Он шел и размышлял, что завтра надо собраться пораньше, на коровьем реву, идти под Колодино. Это близко, меньше часа хода. Лес там невелик, но для него одного и колодинских грибов за глаза хватит. Грибы будут, и домой вернется до полудня, хозяйство, телка досмотрит, потому как Кристина, жена, опять вряд ли сможет прибежать с картошки, поди знай, когда подадут те машины под детскосельскую раннюю. А корова отелилась поздно, еще и в стадо не гоняли. Оно неплохо бы, конечно, подъехать автобусом до Казенного леса, но обратно ведь припозднишься…
В сырых кустарниках у села, там, где одной струею текла в новой канаве Осочка, гахнул выстрел. По кому он уже там бабахает, подумал Костя. Охоту открыли неделю назад, в субботу, с шести утра, а канонада, в буквальном смысле — канонада, началась до пяти, едва занялся рассвет. Костя лежал тогда дома на кровати, насчитывал порой до десятка дуплетов кряду — палили, видимо, по одной и той же ошалевшей от страха стайке.
Миша Яволь, ответственный в Яворах за охотничий порядок, после рассказывал, что на открытии были все нашенские, что из города приехали и хлопцы, страстные до охоты, да еще с приятелями. У одного Миши ночевали трое сы́новых друзей. А подбили скопом лишь одного чирка, но и того не нашли — собак по водоплавающей дичи давно никто не держал, негде гнездиться той водоплавающей.
Утка перевелась, и напрасно на нее открыли охоту, да еще так рано: птичья молодь не окрепла, едва лишь встала на крыло. Весна была затяжной и холодной, и в природе, считай, все опоздало с ростом на месяц. Недели две назад Костя ходил вдоль Осочки, присматривал в зарослях ольхи, лозы и крушины сосновые и еловые купинки, соображал, откуда будет удобнее проехать к ним по санному первопутку: в другую пору года с конем тут не пролезешь, тонет в кочках конь, да и воза не вытянет. Сырой этот лес был совхозным, по генплану подлежал выкорчевке, и яворцы бесплатно запасались в нем дровами, материалом на заборы — жердями, колами, столбиками. А Косте надо было обновлять забор. Так вот, он продирался среди относительно высоких сосен и елей, как внезапный шум крыльев и упругое движенье воздуха над головой заставили его остановиться. Метрах в трех от земли Костя разглядел гнездо, вроде бы воронье, но птица, что снялась с него, была, судя по наделанному шуму, намного крупнее вороны. Что за холера, подумал Костя и полез на дерево глянуть. В гнезде сидели всего два птенца, совята — не совята, дюбки же не крючком, глазели на него опять же не совиными очами, а нормальными, птичьими, брюшки были пока покрыты лишь нежным пухом. И двоим было тесновато в том гнезде. Костя съехал наземь, покурил под деревом: шестьдесят три года прожил, а о подобных птицах, кажется, никогда и не слыхал. И еще он думал — наступил уже август, а птичьи дети даже не оперились толком.
И вот в обычные для прежних лет сроки открыли охоту. Для нынешнего года — рано, всякому это понятно. Ну, у нас тут, положим, и стрелять-то не по чем, но не везде же так…
А вот зверь, зверь — тот размножился, кабан в картошку, в овес напропалую лазит, лось к молодым посадкам сосны сливы свои подсевает.
И снова гахнул выстрел. Костя приостановился, поправил очки и тут понял: сегодня пятница, прибыли охотники. И еще это означало, что завтрашние автобусы, рейсовые основные и дополнительные, служебные и арендованные, понавозят в казенный лес сверх меры горожан, подвалит и частник. Народ станет грести все что ни попадется, будь то трухлявая сыроежка, малина, незрелая клюква или голубика, дубок или береза на банные веники, будут плутать, буксовать, аукать, поджаривать на рожонах сало…
В общем, решено — двигаем в Колодино, там хоть ягоды нет, все спокойнее будет.
…И на ходу кусал комар, как ни пыхтел Костя своей сигаретой. А когда кусает комар, то растут грибы. Это проверено «от» и «до».
Серело. По всхолмленному горизонту тянулась неяркая цепочка бахаревичских уличных фонарей, она обрывалась у выгона, за которым вспыхивала размытыми огнями ферма.
А здесь, в Яворах лишь где-нигде светилось кухонное окно, лампочки на улице давно сгорели.
Кричали петухи, и больше никого не было слышно. Молчали собаки, безмолвствовало болото. Ферма и конюшня располагались за горушкой, на отшибе, из села их не видать и не слыхать.
У Кости все было приготовлено с вечера — двухведерная корзина, нож, плащ-дождевик. И теперь, поеживаясь, он только поднялся в сад, чтоб подобрать в темной мокрой траве пяток белеющих яблок — белого налива, который давно уже «ки́дался» у него.
Спас минул, и последняя старуха-то разговелась. А впрочем, для прохвоста, как известно, нема поста — яблоки освежали рот, зубы чистили, и Костя, будто пацан, грыз даже незрелые, первоиюльские. Любил их.
Под поветью проснулся, потянулся и зевнул Дозор, побелел за хозяином к воротам. И Костя турнул его — увяжется в лес, будет соваться носом ко всякому грибу, к какому ни нагнешься. Дурной!..
Еще щенком подарил его Женик из Баламутовичей. Смотри, горячился Женик, какой головастый!.. а лапы, а пасть!.. Овчарка!.. А выросла из «породистого» щенка необыкновенно ласковая неказистая собачонка, у которой все были в друзьях, и люди и кошки, и которая стыдилась собственного голоса. Просто жаль было Женику топить щенка, вот и все объяснение тому давнему застольному разговору.
Люди, говорят, избаловались, иной в городе за хлебом не пойдет, трамвай, автобус ему подавай. Но чего же вы хотите? Костя возил зимою с болота дрова, и этот дурной Дозор подъехать все норовил, бежать ленился: р-раз — и на воз. Притулится к Костиному боку, чтоб теплее было, — так и ездил.
Костя прошел мимо освещенных окон своей хаты, за которыми у печи гремела рогачами Кристина. Тоже получает пенсию, но на работу ходит — младшему сыну, Андрею, кто, как не они, поможет построить кооператив?
Печной дым тащился по улице. В кустах на болоте стоял туман. Аккурат в самое время вышел!..
Шел Костя быстро. Его вело нетерпение охотника. Поднялся на бугор, который Яворы со всеми своими хатами, хлевами, садами и огородами, тополями и печными дымами, повизгиваньем поросят и молодецким храпом перепоясывали широкой лентой, и различил впереди на дороге одинокую фигуру.
Кто бы это, обеспокоился Костя, куда и кого несет в такую рань?
В одинокой фигуре для Кости обычно виделся какой-то неизъяснимый печальный смысл. Но здесь не было этого смысла.
Миша Яволь идет на ферму? Так ему положено ночевать на ферме, возле коров и телят…
Костя знал, что этот человек не мог быть Мишей Яволем.
Гена Пардон возвращается от дружков? Но нет, песен ночью сегодня не пели…
Костя знал, что Пардон еще и не думал влезать в свои растоптанные кирзачи, еще только продирает глаза.
Лесник Сергей бродит в поисках валидола? Опять же нет, сердечник Сергей в приступы так шустро не ходит…
Костя знал, что лесник Сергей еще не вернулся из Логойска от внезапно осиротевших внучат.
Костя протер пальцами очки. Они у него были с толстенными линзами, «минус — семь». Одни родятся в сорочке, а он, Костя, вот в этих окулярах «минус — семь» — впереди с корзиною несся Мишка Коваль. Прямиком, как набравший скорость истребитель-перехватчик, — на лес под Колодино.
А им вдвоем в лесу под Колодино делать было нечего.
— Каб ты!.. — ругнулся Костя, прошел в растерянности еще несколько шагов. — Каб тебя приподняло ды шлепнуло?.. — пожелал он Мишке.
Остановился, закурил — теперь торопиться было некуда, проводил Мишку взглядом — дорога сворачивала за концевую хату.
И пошел обратно, стыдясь своей корзины, висевшей на согнутой в локте руке и торчавшей напоказ, как кость из горла.
Навстречу выбежал Дозор, завилял хвостом, стал пригибать к земле голову — соскучился…
Костя сел на лавку у своих ворот, бросил наземь корзину.
— На!.. — сказал он Дозору, протянув руку со свежей ссадиной.
Тот пожалел его, начал зализывать ссадину. Костя перевернул руку — отвернул ранку, — и Дозор не понял его, выказал равнодушие, став глядеть в сторону.
— Овчарка!.. — вздохнул Костя.
Да, но что же делать, матухна?..
А ведь вчера вечером они виделись с Мишкой. Костя проходил с косой на плече и подосиновичками, запрятанными в карман, мимо магазина, возле которого стоял Мишкин «пердунок» — тракторишко с тележкой сырой травы: Мишка работал при ферме, возил-развозил телятам корма. (Наверное, подумал сейчас Костя, сегодня вместо батьки будет работать Валик. Специально, к сроку, холера, обучил Мишка хлопчика управлять трактором.) Мишка вышел из магазина, приветливо заулыбался, деловито, но без особой надежды спросил: «Рубель есть?» И добавил: «Уже Таня закрывать надумалась…» Рубля не было, была мелочь, но под грибами, ее так просто не достать, и Костя с легким сердцем стал сочинять: не хочет да и не может, перебрал накануне, вывернуло, будто живую муху съел… А может, братка, несвежая водка попалась?..
Посмеялись и разошлись. И ни словом ведь не обмолвились о грибах. Будто их в природе не существовало, будто создатель вообще не изобретал их за делами поважнее.
Ах, как провел Мишка Костю!..
Но с другой стороны — сам же хотел обдурить его, а потом непременно попасться с корзиночкой на глаза…
Чтоб отвязаться ото всех этих мыслей, Костя начал думать о легком, веселом. Думать о последнем своем внучке Пете. Андрей привозил его в Яворы, когда в июне был в отпуске. Мальчонка крепенький, щечки, ножки тугие, не ущипнуть. Сидеть он еще не умел, радостно улыбался всем деревенским и вырастет, по всему, человеком общительным.
Еще Костя думал о том, что когда сдаст бычка по контрактации, то выручит те деньги, что не хватает Андрею на первый взнос за квартиру…
И подумал вдруг, что Мишка должно быть уже на полпути в Колодино.
А подумав так, подхватился и потрусил в хату. Кристины не было, ушла в хлев к скотине. Ждать ее, бежать к ней было недосуг, и Костя, схватив со стола будильник, сунул его в корзину: сейчас же через болото на большак, а там автобус, там Казенный лес.
Минуты оставались до восхода солнца. Петухи прочищали горло, чтоб приветствовать его. День открытия охоты на грибы начинался.
А будильник был нужен затем, чтоб знать точно время, чтоб не проворонить обратный рейс.
Вот так-то, Мишенька!..
Костя любил ходить в лес один. Неловко признаваться, но в свое время неохотно брал с собою даже Кристину и подраставших сыновей. Не выносил просто гама и суеты там, где должна быть тишина, без которой не бывает бережного внимания к живому. Что же касается публики, захламляющей леса битым стеклом, обрывками пленки, бумаги, то об отношении к ней и говорить-то не приходится. Публика эта особенно размножилась в последние полтора десятка лет — одновременно со взрывом производства малолитражек. Догонит тебя на дороге во чистом поле какой, не остановится подвезти — и свиньями от тебя смердит, и боты, дядька, грязные. Знай, как говорится, каждый сверчок свой шесток. И в лесу у Кости теперь выработалось еще одно правило: если заставал на излюбленных местах других грибников, не мешал им, незаметно, неслышно обходил стороной, пусть даже в его елках они и были слепы, как новорожденные щенята. Потом уж, переждав, возвращался, подбирал то, что принадлежало ему по праву. Видел срезанный белый корень боровика там, где ожидал увидеть, усмехался, но уходить не торопился — тут должна расти еще хотя бы парочка. И когда сегодня в самом центре своих владений он услыхал вдруг щелканье автомобильной дверцы и голоса, разглядел на лесной дороге синий «Жигуль», воспринял это как должное в субботний день, поморщился, взял круто вбок.
А грибов нынче высыпало множество. Боровички добровольно шли под нож, чистые, крепкие. Не в пример другим, Костя накрывал остающиеся в земле корни веточкой, листьями, пучком мха, сучком — всем, что ни подворачивалось под руку, — чтоб поменьше жгло грибницу солнце. И найти Костю в лесу по срезанным корням было делом зряшным. Грибы в корзине тоже были прикрыты ветками. Но это от случайного дурного глаза. Под ними назойливо стучал будильник.
Везенье сегодня шло под руку с невезеньем: не оставил Костю в покое, прикатил ему под бок вскоре тот же самый синий «Жигуль». И пришлось прервать священнодействие, пойти на хитрость.
— Ау!.. — подал голос Костя, сердито позвал неведомо кого. — Ау!.. — повторил он, сообщая тем самым миру, что под эти елки уже пришли люди, место, дескать, застолблено, проедьте, дороженькие, подальше, не будем мозолить глаза друг другу, лес, братка, велик. Побудьте по возможности наедине с этим лесом, неуж не устали вы от всяческих контор, собраний, телевизоров?..
Волк помечает свои владенья отметками, всяк знает, какими. Медведь — на деревьях когтями. А Костя, как зяблик, — голосом.
К удивлению, прибывшие на «Жигуленке» пошли прямехонько на его голос. Это было совсем уж невероятно. Грабеж, матухна, средь бела дня…
— Ау!.. — крикнул Костя. — Ау, где вы все там?!
Ему, естественно, никто не отозвался. А эти по-прежнему ломились через лес, как лоси. Двое мужчин, определил Костя, женщина.
Он только что вынырнул из чащи, где его очки и плащ собрали с ветвей всю росу. И Костя, протерев подкладкою пиджака стекла, пошел прочь — открыто, не таясь, будто все эти елки, березы, дубки были ему совершенно не интересны. Как не интересны грибы в чужой корзине.
Он покидал отличные места. Там, впереди, будут тоже неплохие, но эти лучше. Здесь больше муравейников и красных мухоморов, разнообразнее лес, подлесок что надо. И папоротника в меру, и вереска. И влаги довольно, тепла. В лесу за горушкой самая охота наступит позже, уже с похолоданьем, только во мху за горушкой и будут до первых морозцев сидеть боровики. С темно-коричневыми круглыми шляпками, на длинных белых упругих ножках в высоком мху.
Костя решил уйти сразу же подальше, оторваться от преследователей — побоятся бросить машину, и ошибся, не рассчитал другие варианты: опять заурчал мотор, его настигли, прошли параллельным курсом, стали.
А слева за неширокой полоской леса начиналось болото с черными груздями на спуске к нему, справа лес просвечивался — там было поле.
Вот же наказание!.. Согнали с одного места, второго, к третьему подступиться не дают. К тому же впереди перекликались голоса. Правда, далековато, и было не понять — сюда ли шли, отсюда ли.
Костя остановился, не зная, что предпринять.
Пойти обратно? Бог мой, не станут же они разворачиваться!..
Он вспомнил, что сегодня видел на опушках молоденьких маслят. А здесь, вон в том соснячке, была извечная их плантация. И Костя свернул к ней. Не потому что организму необходима разнообразная пища. Когда есть боровики, подосиновики, рыжики, иных грибов он не берет. Сейчас просто выпадал случай избавиться от хвоста. Сейчас он покажет плантацию, оставит «дачников» отводить на ней душу, пусть вечером, за чаркой под жаренку вспомнят добрым словом его. Иль посмеются над ним, что в общем-то все равно, — как, мол, ловко раскусили деревенского олуха…
Это же не грибники, как давно понял Костя, это ж так, недоразумение, лисичка и пара дрызглых подберезовиков сверху.
Он подошел к плантации. Повсюду в траве блестели бурые шляпки маслят. Не мелкие, но и не крупные, а в самый раз, что называется, «товарные», с редкой червоточиной. В другой раз Костя сам с удовольствием нарезал бы их корзину, но сегодня, в праздник боровика — к чему?..
Костя предусмотрительно зашел с тыла плантации, оставил ее нетронутой — словно понятия о том не имел! — меж собою и дорогою. Он не оборачивался к дороге. Лишь слышал тяжелое сопенье сперва перебегавших от гриба к грибу «дачников», сдавленные от волнения (от жадности?) восклицания. Но вот наконец все сели, сели намертво, пока не перелотошат всех маслят до единого. То-то будет радости…
Сделав крюк, Костя направился к позициям, оставленным наспех противником.
Догадывался, что опоздал к автобусу. И превратил догадку в сиюминутную беду — выкопал из-под боровичков будильник. Так оно и было…
Больше того. Заметив возле ручья нахальные синие «Жигули», пошел прямо на них, экономя, правда, сотню шагов до кладочек…
«Дачники» тоже свернули охоту. Один мужчина, довольно тучный, в узких красных плавках стоял по колено в ручье, умывался, плескался, отфыркивался; по воде от него расплывались белые пятна-плевки. Второй роскошествовал в тенечке, из высокой травы лишь торчали черные коленки — лежал, раскинувшись, на спине. А рядом с ним над разостланным пикейным одеялом хлопотала на корточках женщина, тоже загорелая, в лифчике и штониках, — накрывала на стол.
— Ну и как, дядька, грибочки? — без особого выражения в голосе спросил тот, что плескался в ручье. Потом поднялся на берег, брезгливо перешагивая через крапиву.
— Да ёсть трохи… — тоже безразлично ответил, подходя, Костя, свел глаза в щелочки, поставил корзину.
— А мы так ведер пять нарубили, — снисходительно сказал «дачник». — Хоть косою коси. И все чистые… — Он склонился над Костиной корзиной, по-хозяйски приподнял прикрывающие ветки. — Ну-ка, ну-ка… — И присвистнул. — А будильники что здесь тоже растут?.. — добавил растерянно.
Брал верхние грибы, заглядывал вглубь, не верил, что корзина полна только белыми и красноголовиками, изумлялся, не верил, завидовал, заглядывал меж прутьев корзины, но и там в основном либо белели ножками, либо чернели шляпками боровые.
Костя позволил ему все это проделать.
Костя стоял над ним, глядел на побитую золотистыми пятнашками и усеянную каплями воды розовую спину, на врезавшиеся в тело влажные алые плавки, разговаривал про себя: «Ну, здоров, здоров, товарищ Грак, дорогой директор!.. Это сколько же годов ты работаешь у нас? Может, пять, а может, и семь, хрен ее ведает… И все не признаешь ты меня, своего косаря Костю Воробья, тоже птушку, только не перелетную — со мною ж ты не летаешь…»
— Сеня!.. — окликнула Грака из-за кустов женщина. — У нас все готово…
— Давай неси, Сеня! — весело добавил, встал в траве их загорелый дочерна спутник.
Женщина была женою Грака — приехала вместе с ним, работала в сельсовете — гоняла справа налево костяшки на счетах. А угольного «африкана» Костя не знал, видел впервые. До Тишковичей, где располагалась рыбхозовская контора, было вкруговую километров десять, и Костя попадал туда от случая к случаю: зарплату он получал вместе с заречанской рыбацкой артелью — привозили на «газике».
Нет, не узнавал Грак Костю. Смотрел на него, хлопал короткими рыжими ресницами, выпячивал пухлую губу, что-то соображал.
— Зовут обедать, — сообщил наконец. — Ты, дядька, погоди… — И стал спускаться к воде, смешно сторонясь крапивы, достал из аира притопленную бутылку водки.
— Может, с нами, по махонькой, за компанию?.. — вдруг сказал он от ручья, щелкнул ногтем по бутылке, прихлопнул на плече комара.
Костя вроде бы подумал. И сказал, вроде бы колеблясь:
— Вообще-то трошки можно… Правда, докторка ругаться будет…
(От Кости до акушерки было шесть километров, до докторки — все двадцать.)
— А мы ей не скажем! — воскликнул. Грак.
Держась одной рукою за лозовую ветку, Грак поочередно пополоскал ноги в воде — липкая черная жижа, что продавилась между пальцами, не хотела ни вымываться, ни отмываться — ею можно было ваксить сапоги. Грак вытер ноги о траву, влез в сандалеты.
— Сеня, — протянул он дружелюбно руку.
— Костя, — представился Костя. Он впервые пожимал директорскую руку, и это было интересно.
— Вы говорите: грибы, грибы!.. Гляньте, какие у дядьки грибы! — в сердцах сказал Грак, подводя Костю к скатерти-самобранке.
— А-а, так это вас мы видели там, в лесу? — спросила Гракова женка.
Костя неопределенно дернул плечом.
Ничего бабенка, вспомнил молодые годы Костя, пухлявенькая. Волосы белявые, коротко стриженые, глаза зеленые, способные душу из человека достать. Вслед за Граком она нагнулась к корзине, и Костя нечаянно увидел молочного цвета волнующий срам.
— Ого! — изумилась она.
Подошел и африкан, присвистнул.
— Но это ж только сверху? — неуверенно предположил он.
— Где там к чертям сверху! — отмахнулся Грак. — Все — с Государственным Знаком качества… Ладно, будем обедать. Дядька — наш гость.
На покрывале, на газете лежали нарезанный хлеб, какая-то неведомая Косте красного цвета рыба, вяленые лещи, помидоры, колбаса. Стояло три стопаря.
Грак сходил к машине, вернулся со стаканом.
— Ну, садимся, — сказал он. — Присаживайся, не стесняйся, — пригласил персонально Костю.
Костя достал из кармана два оставшихся яблока, застенчиво поклал с краю покрывала.
Грак свернул с влажной бутылки желтую пробку, стал разливать. Разливал он забавно — сперва плеснул на донышко в один стопарик, потом недрогнувшей рукою наполнил с краями двухсотграммовый стакан, затем — два оставшихся стопарика и напоследок долил первый, тот, в котором уже было на самом донышке.
Сливки, что ли, снял, подивился Костя, век живи, а дубиной помрешь… Для меня, значицца, для гостя?..
Но нет, Грак поставил перед ним стакан.
— Это тебе, дядька… Ничего, ничего, свои же люди. А мы к тому же за рулем, нам много не можно…
Костя был, конечно, не против подобного дележа, хотя и смущался немало, и объяснить причину воздаваемых ему почестей — спросили бы — не смог бы. От него, правда, не ускользнуло веселое недоумение, тотчас отразившееся на лицах Граковой женки и африкана.
— Ну, за грибочки… — Грак поднял чарку со сливками.
— За грибочки!.. — согласился африкан и поднял свою. — Давай, сестренка, — обратился к Граковой жене. — Но с тебя, Сеня, причитается еще и большая водка — в целости-сохранности доставил с юга Нину. В море не утопла, с морячками не сплыла, грузины не умыкнули… А сил набралась — так на целый год… — И он подмигнул Нине, своей сестре, значицца.
— За мной не заржавеет, — кивнул Грак, совсем уж и неплохой человек, оказывается, а Костя-то думал…
Костя простил, что они никудышные грибники.
Он бы сказал, пожалуй, не раз говоримые им слова, однажды услышанные у Мишки Коваля по телевизору и сразу же полюбившиеся: «После первой не закусываю!..» — да зачем обижать людей? И он взял помидор, ядрено-красный, литой, где только вызрел, холера.
— Бери рыбку, Костя, — сказал Грак. Но Костя лишь покачал головою: зубы, братка…
И потом: в кино, по телевизору, те слова говорились немцам, а тут свои же люди, «от» и «до», — размокли Костины мозги от солнца, усталости, от русско-горькой, наконец; и душа растаяла…
Славно привечал грач воробышка…
Но здесь настала пора авторскому отступлению, чтоб кое-что прояснить. И боже вас упаси подумать, будто весь тот рассказ, который сейчас последует, есть неблагодарные Костины воспоминанья вот за этим вот щедрым застольем. Это я встреваю со своим словом, а Костя, как вы понимаете, тем временем благодушествует в тенечке на травке: Грак снова слетал к ручью, почертыхался в крапиве, повозился в аире — и не напрасно.
Вспомним, что Костя обкашивал рыбхозовские канавы. И меж чертополохов ему перепадало какое-никакое сенцо. И одним летом, когда в Яворах с конями была сильная запарка, Костя пошел-поехал в Тишковичи, чтоб на вывозку села взять коня там. Но в конторе сказали: дядька, какой еще конь?!. Ты у нас санитар, а не сенозаготовитель-собственник… Тогда Костя ткнулся в дверь самого директора — совещание… Пока курил с мужчинами, пока толковал о том о сем, Грак совещание закончил, сел в «газик» и был таков.
Костя со своей просьбой опять обратился к яворскому совхозному бригадиру. А тому опять было не до него, в кормах нуждается не только частная скотина.
Костя вновь пошел-поехал в Тишковичи. Но Грак даже слушать не пожелал, отмахнулся, хлопнул дверцей «козла» — да пойми же, дядька, некогда!..
Костя понял — понял, что к директору так просто ему не пробиться. И назавтра утром он поджидал Грака на дамбе, по которой тот проезжал каждодневно, осматривая хозяйство. Костя сидел за донной удочкой, заброшенной в пруд, где гуляли пудовые карпы-производители. Рыбу на прудах ловить запрещалось, а на этот пруд и смотреть-то не рекомендовалось. Словом, увидит здесь Грак человека с удочкой — обязательно остановится, никуда не денется.
Посочувствуем же Граку, заставшему наглого злоумышленника за этим его делом средь бела дня, ногами Грак затопал. И как Костя ни объяснял, что не карпы ему нужны, братка, а всего-навсего конь, коня он не получил, как недополучил и двадцати пяти рублей в получку.
Посочувствуем и Косте однако же…
— А что, дядька, не продашь ли свои грибы?
— Это можно, — не задумываясь, ответил Костя.
— Сколько возьмешь?.. — Грак мотнул головою в сторону лозового куста, под которым стояла Костина корзина. Мотнул не оборачиваясь, как словно бы она там стояла от века. Потянулся за брюками, достал бумажник, извлек из него десятку и вопросительно поднял на Костю глаза. — Хватит?
Ну это с какой стороны посмотреть… Десятка в рыбхозовской ведомости — деньги большие, а вырученная на рынке, положим, за огурцы — уже нет. Из-за десятки в город огурцы не повезешь, отвозились, братка, ждешь, покуда мешок не нарастет. А вот ходить на канавы из-за десятки несколько дней с косою будешь. Да и как же иначе? Когда жили в деревне натурой, возили-носили в город и яйца, и сметану, даже молоко, из-за пяти рублей, бывало, день гробили, на чужих людей скотину дома оставляли. В огуречную же страду брали два грузотакси. Пригоняешь машины в Яворы, грузишься с соседями, едешь на Комаровку, на Червенский рынок, тракторозаводской или автозаводской, на рынок, что был на Фабрициуса, разгружаешься, ночуешь на мешках, назавтра торгуешь, а к обеду на тех же машинах — таков уговор с шоферами — приезжает новая партия яворцев; ты же, распродавшись, опять гонишь машины в Яворы, где снова грузятся люди, теперь уже они едут с ночевкой в Минск. Нынче в огуречную страду, — а Яворы всегда славились огурками, на продажу растили их, ибо село расположено на теплом склоне и земля хорошая, чернозем, а он, этот редкостный чернозем, подостлан еще и удерживающим влагу суглинком, почему огурки и поспевают недели на две раньше, чем в соседних селах, — так вот, нынче Яворы тоже берут грузотакси в страду. Но не две машины, одну — все меньше народу остается растить этот овощ, оттого все меньше и рынков в городе. Словом, из-за десятки в город не потащишься, не стоит овчинка выделки: ведь еще надо дать шоферу три рубля с человека и рубль за каждый мешок, что ж останется, кроме твоих мозолей? Или они не в счет?..
Так хватит десятки тут или нет? Десятка, конечно, деньги немалые, особенно если причитается по рыбхозовской ведомости, — вон сколько можно спичек купить. Но с другой стороны…
— А!.. — сказал Костя. — Добавь, Сеня, еще рубель!..
— Детишкам на молочишко? — понимающе улыбнулся Грак.
— Не! Детям на конфеты!
— Пожалуйста! — И Грак добавил рубль, протянул деньги Косте.
Далеко заехал, далеко, помотал головою Костя, обратно не выберусь — думал, все это так, шуточки, а оно вон как все поворачивается.
— Да бери же, — мягко настаивал Грак.
— Не-не, погоди… — Костя соображал, что ему делать.
Нина и африкан с интересом наблюдали за этим торгом. И африкан невпопад сказал:
— У нас на Комаровке, между прочим, персики продаются почти по той же цене, что и в Ялте. Крым теперь дорог…
— Да подите вы к черту со своим Крымом, понятно?! — внезапно взорвался Грак. — Сколько жилы можно из меня тянуть?! Хватит, надоело! Понятно?!
— Сеня, Сенечка!.. — изумленно протянула Нина, округлила невинные зеленые глаза.
— Ваш этот зуд промеж ног!.. — Грак вскочил, он прямо орал, как баба, и смотреть на него, большого, рыхлого, взбешенного, было неприятно, неловко, стыдно. — Зуд, с которым в вашей семейке все на свет вылупливаются!..
— Уймись, — холодно заметил африкан. — Сходи головку окуни в ручей, — посоветовал, сузил холодные глаза африкан. — Помогает. Особенно психам.
Грак понесся к машине, вернулся обратно, забегал туда-сюда по траве, потом рывком распахнул дверцу, достал еще одну бутылку водки, сел с размаху у покрывала, неаккуратно налил себе теплого зелья, проглотил одним глотком. Схватил было помидор — и брезгливо бросил, всадил с яростью зубы в кусок сухой рыбы.
— А как же «нам не можно», «мы за рулем»? — спросил Костя.
— Доедем. — Грак хлопнул еще одну чарку. — На автопилоте.
— Он играет в любительском театре, — насмешливо пояснил африкан Косте. — И сейчас разучивает роль Безухова.
— Стихни, — устало, с внезапным равнодушием, пришедшим на смену внезапной ярости, сказал Грак. — Интеллигент-самоучка, поэт с великой дороги!..
— Большой дороги, — поправил африкан.
— Витя!.. — укоризненно сказала братцу Гракова жена. — Сеня выпил, бывает…
Сеня выпил, но пьян он не был, это Костя видел и, сам уже пьяненький, понимал. Сам уже пьяненький, Костя вспомнил однако, что вот таким же бешеным был Грак и тогда, когда увидел его с донкой на дамбе: ногами затопал, потом слепо нашарил под ногами камень, замахнулся на него, Костю, но спохватился, понял вдруг, что этим буликом можно убить человека, и неприцельно запустил им в Костин перяной поплавок — дал выход ярости. «Я полреспублики рыбой кормлю, а он!..» — Грак прямо задыхался от гнева, вместо того чтоб посмеяться над Костиной выдумкой, его изобретательностью. Порвал снасть, силком затолкал Костю на заднее сиденье «козла» и, держа за шкирку, ни на секунду не отпуская, привез к себе в контору. И только там разобрался, что Костя его рабочий, но слушать доводов не захотел, велел содрать с него в получку четвертную. Четыре… да, четыре года с тех пор прошло…
Витя-африкан взял бутылку, налил всем. Косте — полстакана.
Выпили.
Молчали.
Костя съел еще один помидор. Как только вырос, зараза, лето-то кислое.
Грак грыз свою рыбу.
Витя и Нина молодо работали по всему, что ни подворачивалось под руку.
И все молчали…
Так хватит ли десятки за грибы? Даже одиннадцати?..
Нет, конечно, глупство это. Чушь собачья, как говорит сын Андрей. Два боровичка к трем подосиновичкам на Комаровке — рубль. А в корзине — два ведра с шапками.
Килограмм сушеных белых среди зимы — семьдесят рублей… Одни белые, если высушить, полкило потянут…
Грак взял с покрывала деньги, которые он в порыве гнева скомкал и швырнул, разровнял.
— Никак, дядька, боишься продешевить? — поднял он глаза на Костю. И достал еще трешку.
Но Костя отвел его руку с деньгами.
— Мне интересно, — сказал Костя, — как это они у вас выросли? — И показал на помидоры.
— Не тут они выросли… — неохотно отозвалась Нина. — Привозные…
— А-а, — протянул Костя.
— Так ты продаешь грибы или нет? — теряя терпение, сказал Грак.
— Убери свои гроши, не нужны они мне. Заедем лучше в наше село, возьмешь там для меня бутылку — и все.
— В какое село?
— В Яворы. Вам по пути.
И опять ничего не понял Грак:
— Отдашь грибы за бутылку?! Ну а сам-то почему не можешь взять ту же бутылку? Даже две?
— Чудак-человек! Магазинщицей работает Таня, моя жена, она же ни за какие гроши мне не продаст! — Врал Костя, врал, вон куда его понесло — уже чужую жену себе присвоил. — Таня будет очень ра́дая видеть вас…
— Упрямый дед, в характером… — вздохнул Грак. — Ладно, будь по-твоему…
С шиком был доставлен Костя в Яворы. И раньше, чем ехал бы автобусом.
— Спасибочко, Сеня, — сказал он, выбираясь на машины и вытаскивая корзину. — Удружил от души, спасибо… А грибы, дорогой мой Арсений Данилович, мои дети тоже любят… У нас с тобою, как говорят по телевизору, боевая ничья — удочку мою, помнишь, на дамбе ты поломал?..
И пошел нетвердой походкой вниз по улице.
— Старый хрен!.. — послал ему Грак вдогонку.
БЕТХОВЕН, ГОГОЛЬ, РОДЕН, ПЕТЯ…
Дело было вечером, делать было нечего, мы сидели на крыльце, чистили картошку. И пришел Петя, сказал:
— Добрая вечеря будет! — Он улыбнулся, показал глазами на сбой отдувающийся карман.
Ну, это уж как водится — добрый ужин, неторопливая беседа за столом и подкидной «дурачок» напоследок…
Не могу представить себе Петю, праздно убивающего время. Разве что в такой вот поздний час, когда день позади, а за этот день очередного отпуска столько всего-всякого переделано им…
С рассветом он ходил в лес за опенками и гонкими елочками на косовища. Сейчас, осенью, в косовищах, конечно, нужды нет, просто они должны вылежаться, высохнуть за зиму.
Потом электродрелью он сверлил отверстия в трубах, которые привез для забора.
Потом мы сходили с ним к Мише Яволю за вагонным домкратом, прилаживали домкрат под углами моей хаты — поднимали ее.
Подъем хаты — искусство тонкое, канительное, венцы в связке должны чувствовать себя непринужденно, весело, а у меня ведь «руки не к тому затесаны», мне б в деревне только «свиньям ести носить». И поэтому я нахожусь под постоянной Петиной опекой — ненавязчивой, но постоянной, он сам знает, когда необходимы его совет и помощь.
У Пети золотые руки. Прошу прощения за этот захватанный штамп «золотые руки», но ведь не скажешь «платиновые», или хотя бы «серебряные», а больше драгоценных металлов в обиходе, кажется, нет. Фрезеровщик высшей квалификации на заводе, он умеет делать буквально все, за что бы ни брался. Во всяком случае здесь, в Яворах.
Мы подняли хату, выверили по уровню углы, как пришла Дануся Концевая: свинья подрывает хлев, того и гляди стенка рухнет — хо́дим, Петечка, свинью задротуешь… Дротовать — значит, продеть у свиньи в лыче, рыле, медную проволоку, по-белорусски — дрот, согнуть кольцом, чтоб землю, холера, не рыла.
Петя чуть слышно вздохнул, пошел с Данусей.
Когда вернулся, на крыльце дома его поджидал уже Вася Шавель. С ножницами: подстриги, пожалуйста…
Потом Петя ходил к бригадиру насчет коня на завтра — надо свозить тещино жито на совхозную мельницу. По дороге заглянул к Платоновым — дядька Сергей просил «прозвонить» электросварочный аппарат. «Прозвонил», нашел место замыкания — и все, дню конец, дню очередного отпуска, пришедшегося по заводскому графику на осень.
Трудовой день позади. Вот почему теперь и не грех помухлевать-подурачиться в подкидного «дурачка»…
Бог, как говорят, забирает быстрее всего тех, кого любит.
Или лишает гениального композитора слуха, писателя — разума, ваятеля — зрения.
На нашу минскую квартиру позвонила жена Шуры, старшего Петиного брата: Петя резал на циркулярке дрова и на левой руке отрезал четыре пальца…
ПИЛИПОВКИ
Середина декабря, пилиповки. Волчьи свадьбы. Дороги забиты снегом. Автобус не ходит. Хорошо, был бы только в магазине хлеб да никто тяжко не заболел бы в селе, с остальным же мириться можно.
Мне надо было в город, и я пошел за три километра к большаку в надежде на удачу.
Тракторы работали в других бригадах, и дорога пахла конями — уже неделю ездили лишь на конях.
На всякий случай я сунул в карман нож: на днях волки заступили дорогу ребятишкам, которые шли напрямую через поле в школу. Зарезали в Бахаревичах в загоне у конюшни трех жеребят; приходили и на нашу ферму, загнали внутрь перетрусившего Буяна — он едва не сбил с ног Мишу Яволя, когда тот, услыхав его скулеж, открыл дверь.
Уже возле большака меня нагнал Алик — подвозил сестренку с девочкой.
Но и по большаку автобусы не ходили. Решили ждать хлебовозку, накануне она все же пробилась сюда.
Конь взопрел, от него валил пар, и Алик укрыл ему спину мешком. Щедро бросил охапку сена, надерганного по пути.
Конь хрумкал сеном с удовольствием. Но потом начал выбирать сено позеленее, исподнизу.
— Хитрый!.. — усмехнулся Алик. — Из-под прилавка же смачней!..
«НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ…»
Мы выбрались в переднюю дверь автобуса, а из задней вывалились еще трое парней — наши попутчики до Яворов. Но парни замешкались, и мы обошли их. Впотьмах я не разобрал, кто это был.
Славная мела метель. Ни один огонек не пробивался сквозь нее. По такой бы погодке валенки да тулуп с высоким воротником, меховые рукавицы, да не лететь бы сломя голову. Того и гляди, какому-нибудь зайцу на уши наступишь…
Хата, понятное дело, за неделю настыла. Но ничего. В сенях всегда сложены дрова: беремо коротеньких — для голландки, грубки, беремо длинных — для русской печи. И обе они заправлены. Остается только поднести спичку.
Минут через сорок придем и сразу же, не раздеваясь, запалим печи, потом я сбегаю за водой к колодцу, за картошкой и огурцами в погреб, поставим чугунки, и все, на сегодня дел уже никаких не будет. Ну, может, запустишь пару раз тапочком в распоясавшуюся без хозяев хаты мышь, так это не в счет.
Завтра — завтра другое дело. Перво-наперво очистить дорожки от снега, утоптать снег вокруг яблонек, чтоб мыши не погрызли, а в погребе услужливо положить на блюдечке с голубой каемочкой крысиный яд. И дров надо будет подрубить, и доски для ошалевки готовить — работа, словом, найдется. Придет, например, Мишин Буян, сунет голову в сени: «Гав!..» — «А-а, привет, дружище!.. Мы тут без тебя мойву жарили, голов рыбьих полно, всяких скрюченных рыбок. И цыпленка, знаешь, ели… Но косточки остались!.. Пойдем-ка в сад, ты следы свои там пахучие оставишь, чтоб по ночам зайчишек отпугивали…» А вечером, сидя у мерно горящей грубки, сверлить летки для скворечников и синичников, прислушиваясь при этом к разговорам жены и старушек, что непременно придут к нам на посиделки, — прислушиваться, мотать на ус, чтоб потом ничего не выдумывать…
— Кажется, нас догоняет машина, — сказала вдруг жена.
Какая машина, возразил я, откуда ей тут взяться?.. Да и как ты услышала ее за воем пурги, в этом ведьмином шабаше? И света фар, кстати, не видно…
Но сзади все же, действительно, кралась из-за горушки машина. Это была «Волга», такси. Мы соступили на обочину. Я заметил, что мест там не было.
— Вот видишь! Видишь!.. А ты еще не верил, — победоносно сказала жена. Лицо ее было мокрым от снега.
Машина медленно прошла метров десять вперед и почему-то остановилась. Мы миновали ее.
Да, мест в ней не было. Вроде бы пара человечков были даже лишними.
И снова она турнула нас на обочину, а потом снова рдяно загорелись стоп-сигналы, зачем-то сдала назад. Что еще за танцы во чистом поле?..
И опять она продолжила свою игру — поползла за нами следом.
— Ну, вы что — едете или нет? — с сердцем крикнул вдруг шофер, приоткрыв дверцу.
— А как? — растерялись мы. — Как же мы втиснемся?..
— А как-нибудь… Свои же люди… Рюкзак можно и в багажник…
Поверх чьих-то коленей, голов он буквально затолкал нас в машину. Вероятно, здесь были и те трое хлопцев, что сошли с нами. Но я не мог видеть их, не мог даже представить, сколько же человек находится в этой чудно́й «Волге». Очки висели на одной дужке, поправить их было невозможно, и каким-то боковым зрением я лишь разобрал, что на коленях одного из пассажиров на переднем сиденье безмолвно лежит вдобавок и собачонка.
— Свои же люди… — бубнил и этот, с собачонкой. — И проходимость лучше. А завязнем — народу хватит, вынесем машину на руках…
Я не называю здесь имена хлопцев, чтобы не создать прецедента с ГАИ и таксопарком. Уже в Яворах я все же пересчитал, сколько нас ехало: помимо собаки, девять человек.
Жена расчувствовалась: Яворы есть Яворы.
Поистине, на Беларуси нема конца добру…
Примечания
1
В повести использованы материалы дел, в свое время расследованных видным советским криминалистом В. М. Королевским.
(обратно)2
Тмин.
(обратно)3
Вэнзелэк (польск.), клунак (бел.) — с оттенком иронии и некоторым допущением здесь означает «торба», «сидор».
(обратно)4
Теперь уже — жил… В тот теплый июльский день думать никто не думал, что в сентябре Митя похоронит мать, после сороковин женится, чтоб не было так одиноко в хате и было кому за скотиной ходить, а под Новый, 82-й год от папиросы сгорит он сам вместе со своею хатой…
(обратно)5
Из кожи.
(обратно)6
Здесь в смысле — оглянуться, скосить глаз назад.
(обратно)7
Было бы лучше.
(обратно)8
Воскресенье.
(обратно)9
Лукошко (диалектн.).
(обратно)10
Труба.
(обратно)11
Гнездо буслов, аистов.
(обратно)12
Свадьба.
(обратно)